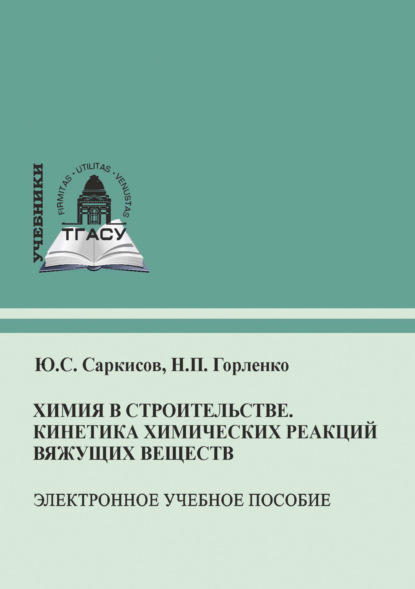- -
- 100%
- +

Эпиграф:
А он растёт…
Порой похож он на тебя-
Такой же наглый, дерзкий, озорной,
Весёлый, щедрый и не злой!
Единственное счастье он моё,
Молю я Бога за него!
© Юлия Sergeevna, 2025
ISBN 978-5-0068-4700-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Пролог
По вечерам, когда город за окном растворяется в сумерках, я подхожу к его кровати. Воздух пахнет детским сном – сладким и беззащитным. Я протягиваю руку и касаюсь его щеки. Кончиками пальцев я читаю его лицо, как слепая – самое дорогое брайлевское письмо.
Вот эта ямочка на щеке – моя. А этот озорной, вздернутый уголок губ – твой. Тот самый, что был у тебя, когда ты собирался нашалить. Он ворочается, вздыхает во сне, и его тепло проникает мне в ладонь, растекается по венам. Это единственное тепло, что способно растопить лед внутри, тот самый, что сковал меня в день, когда тебя не стало.
Он мое единственное, неоспоримое, выстраданное счастье. И в тишине, под мерный звук его дыхания, я шепчу единственную молитву, что знаю наизусть: «Господи, спаси и сохрани его. Ради него я готова носить этот бронежилет вечно».
Но так было не всегда. Когда-то никакого бронежилета не было – была тонкая, почти прозрачная кожа на плечах маленькой девочки, которая еще не знала, что доверять можно не всем. Даже самым близким. Особенно самым близким.
Первую дыру в этой тонкой коже прожгло оттуда, откуда не ждали – из рук, которые должны были обнимать.
ЧАСТЬ I: КАРТОЧНЫЙ ДОМ
Это было время, когда мир раскалывался на «до» и «после». Взрослые шептались на кухнях о переменах, а дети впитывали тревогу с воздухом пустых магазинов и прилавков, заваленных сервелатом. Время, когда пионерские галстуки уступали место джинсам, а уверенность в завтрашнем дне – первому дикому капитализму.
Именно в эти переломные годы маленькая Юля научилась главному – строить стены. Не из бетона и кирпича, а из молчания, скрытых обид и детских страхов. Ее карточный домик – семья двух спортсменов, таких красивых и сильных – трещал по швам, не выдержав ветра перемен.
Развод родителей в 1992-м стал не просто семейной драмой. Это был крах целой вселенной, где папа был северным полюсом, а мама – южным. Где запах папиного одеколона «Шипр» и маминых духов «Красная Москва» создавали гармонию. Теперь эту гармонию нарушили чужие запахи – одеколона отчима и горького дыма разочарования.
Юле предстоит пройти через унижения и предательство, чтобы понять: единственный способ выжить – надеть невидимый бронежилет. Но каждая пластина этой защиты будет отнимать кусочек души, пока не станет вопрос: что останется под броней, когда необходимость в защите исчезнет?
Это история о том, как строится фундамент характера. Где каждая боль – это цемент, каждая слеза – вода для раствора, а детские обиды – арматура будущей крепости. Крепости под названием «я», которую придется штурмовать всю оставшуюся жизнь.
Глава 1. Запахи счастья и раздора
Я родилась в 1985-м, в семье двух спортсменов. Папа – коренной коломенчанин, приехавший покорять Ленинград. Мама – местная, с холодной красотой гранитных набережных. Они встретились в Корабельном институте, и их любовь была как спринтерская гонка – стремительная, яркая, полная веры в победу.
Мои первые воспоминания начались с запахов. Детство пахло счастьем. По утрам – это был запах папиного одеколона «Шипр», смешанный с ароматом свежего хлеба. Он подбрасывал меня к потолку, и мир на секунду превращался в карусель, где существовали только его сильные руки и мой восторг, застревавший комком в горле. По вечерам дом наполнялся маминым запахом – духов, сдобного теста и ванильного сахара. Когда она пела на кухне, готовя пирог из творога и манки, я садилась на табуретку и, подперев подбородок ладонями, чувствовала себя частью чего-то большого и незыблемого.
Но самые яркие воспоминания – это лето на Оке. Папа учил меня плавать, поддерживая своими сильными руками. «Не бойся, я с тобой», – говорил он, и я верила, что его руки всегда будут меня держать. Мы возвращались домой уставшие, пахнущие речной водой и солнцем, а мама ждала нас с ужином. За столом они переглядывались и улыбались каким-то своим, взрослым секретам. В те моменты я чувствовала себя защищенной, как в прочной крепости.
Они не знали, что их стремительная, как гоночная лодка, любовь не приспособлена для плавания в тихих водах быта. Не знали, что материнство окажется для мамы сложнее любой дистанции, а отцовство для папы – непонятной территорией, где нельзя действовать одной лишь силой. Они были слишком молоды и красивы, чтобы разглядеть первые трещины.
А трещины уже расходились, тихо, под слоем будничной рутины. Мне было шесть, когда я впервые почувствовала, как воздух в нашей квартире стал меняться. К сладкому аромату маминых духов начал подмешиваться горьковатый дух ее разочарования. К папиной силе – тяжелый запах его молчаливых обид.
Помню, как однажды вечером в гости пришел незнакомый дядя. От него пахло резко и чуждо – дорогим одеколоном, который перебивал родной «Шипр». Мама смеялась его шуткам слишком громко и неестественно, а ее глаза блестели как-то по-новому, не так, как когда она смотрела на папу. Папа молча курил у окна, и его спина была напряжена. Я, шестилетняя, не понимала слов, но кожей чувствовала напряжение, висевшее в воздухе густо, как кисель. Я сползла с табуретки и забилась в угол за шторой. Ткань пахла пылью, и этот знакомый запах стал моим первым укрытием.
После того вечера что-то щелкнуло. Начались ночи, когда я просыпалась от приглушенных, но колючих голосов за стеной. Я не разбирала слов, только интонации – мамины, визгливые и обиженные, папины – глухие и усталые. Однажды ночью я подкралась к двери и услышала обрывки фраз: «…не могу так больше…», «…ты совсем не думаешь о дочери…», «…уйду…». Слово «уйду» прозвучало так окончательно, что я побежала в свою комнату и зарылась лицом в подушку, пытаясь заглушить подступающие слезы.
Я стала замечать мелочи, которые раньше ускользали от моего внимания. Папины вещи постепенно исчезали из шкафа – сначала спортивная форма, потом любимая рубашка. Мама купила новые шторы в гостиной – яркие, пестрые, не похожие на те, что они выбирали вместе с папой. Казалось, она пыталась стереть все следы его присутствия в нашем доме.
Однажды утром я увидела папин чемодан у двери. Кожаный, коричневый, с тугими замками. Он стоял в прихожей, как черный квадрат на картине нашего счастья. Я подошла и прижалась к его холодной поверхности щекой, пытаясь вдохнуть последние следы папиного запаха.
«Не уезжай. Мы же карточный домик. А ты – несущая стена», – прошептала я.
Но стена уехала. Увезла свой запах кожи и «Шипра». А в наш дом окончательно и бесповоротно вполз чужой запах – одеколона и денег, который теперь будет витать здесь всегда.
Это был 1992 год. Год, когда я поняла: самые прочные стены строятся не из бетона, а из молчания. Год, когда я надела свой первый, еще невидимый бронежилет.
Мой карточный домик рухнул. И я, семилетняя, осталась стоять среди обломков, инстинктивно понимая, что пора начинать строить что-то другое. Что-то прочное. Свое. В воздухе витали новые запахи – запахи перемен, неопределенности и одиночества. Но я уже знала, что буду держаться. Как учил папа – сжать зубы и плыть вперед, даже если нет сил.
Глава 2. Уроки молчания
Тишина после отъезда отца оказалась громче любого крика. Она висела в квартире тяжелыми портьерами, которые больше не раздвигались по утрам. Мама теперь ходила по дому стремительно и нервно, пахла чужими духами и смотрела куда-то поверх моей головы. А вскоре в доме появился Он.
Отчим вошел в нашу жизнь без стука. Его присутствие ощущалось сразу – тяжелыми шагами, громким голосом и запахом, который въелся в стены навсегда: одеколон «Саша», перегар и что-то чужое, горькое. В первую же неделю он переставил мебель в гостиной, и комната стала чужой, неуютной. Его вещи постепенно заполняли пространство – громоздкая пепельница, портсигар, плащи на вешалке, занимавшие теперь лучшее место в прихожей.
Его «шутки» начались сразу. Сначала это были щипки за щёку, слишком сильные, оставляющие красные пятна. «Что такая кислая? Улыбнись дяде!» – говорил он, и его пальцы впивались в мою кожу. Потом – «случайные» прикосновения, от которых по коже бежали мурашки. Его пальцы, жирные и цепкие, будто нечаянно касались моей груди, когда я тянулась за хлебом. Ой, прости, не заметил, – говорил он, а в глазах у него плавала плотоядная улыбка.
Я пыталась жаловаться маме. Глотала слёзы, комом стоявшие в горле.
Мама, он… он странно ко мне прикасается.
Она отмахивалась, смотрела в сторону.
Ну, это он так шутит. Он же тебя любит. Не выдумывай.
Любит. Это слово, нежное и тёплое, в её устах стало похоже на плевок. Каждая такая «шутка» была кирпичиком, который я подкладывала в свою броню. Я училась ходить бесшумно, дышать тише, становиться невидимкой в собственном доме. Я выработала целую систему маршрутов – как пройти из своей комнаты на кухню, чтобы не встретить его, как тихо закрыть дверь, как затаить дыхание, услышав его шаги в коридоре.
В школе было не легче. Мой «бронежилет» становился всё тяжелее. Дети чувствуют чужую боль, как животные – страх. Одноклассники относились ко мне с опаской или откровенной неприязнью. Я была не такой – слишком тихая, слишком настороженная, в поношенной форме и с вечным каменным выражением лица. Однажды старшеклассница Катя, дочь богатых родителей, при всех сорвала с меня заколку: «Что это у тебя, из прошлого века?» Хохот одноклассников резал слух. Я не заплакала, не убежала. Я посмотрела на нее ледяным взглядом и тихо сказала: «Верни». Что-то в моих глазах заставило ее подчиниться. В тот день я поняла: иногда молчание страшнее крика.
Но настоящий ужас приходил ночами. Однажды я проснулась от скрипа двери. В проёме стоял он. Не говоря ни слова, просто смотрел. Лунный свет выхватывал из темноты его ухмылку. Я замерла, превратилась в комок под одеялом, сердце колотилось где-то в горле. Он постоял с минуту, медленно провел рукой по косяку и ушёл, не закрыв дверь. Я не спала до утра, вцепившись в край одеяла, слушая каждый звук в квартире.
Утром я снова пришла к маме. Говорила ровно, глядя ей прямо в глаза, стараясь не дрогнуть.
Он ночью заходил ко мне в комнату. Стоял и смотрел.
Она вздохнула, раздражённо.
Юля, хватит выдумывать! У него нервы не железные. Не до твоих фантазий. Он устает на работе.
Фантазии. Моя боль, мой страх, моё унижение – были для неё фантазиями. В тот миг во мне что-то переломилось. Окончательно и бесповоротно. Не хруст, а тихий, ледяной щелчок. Как будто последний замок в моём бронежилете захлопнулся.
Я перестала жаловаться. Перестала надеяться на защиту. Я поняла – моё спасение только во мне. Я стала тише воды, ниже травы. Я училась исчезать. По вечерам я закрывалась в своей комнате и вела дневник – не сентиментальные девичьи записи, а короткие, сухие фразы: «Сегодня снова смотрел. Мама сказала – не выдумывай». Иногда я рисовала себя в рыцарских доспехах, с закрытым забралом. В этих рисунках не было ничего детского – только холодный металл и щель для глаз.
Спасал спорт. Волейбольная площадка стала единственным местом, где я могла не сдерживаться. Здесь можно бить по мячу что есть силы, с криком выплёскивая наружу всю накопленную злость. Паркет, запах пота и нашатыря – это была честная территория, где я была не жертвой, а бойцом. Тренер, суровая женщина с седыми волосами, как-то раз после тренировки сказала мне: «Юля, злость – хорошее топливо, но плохой рулевой». Я кивнула, но не поняла. Для меня тогда злость была всем – и топливом, и рулем, и броней.
Я возвращалась домой уставшая, с разбитыми в кровь коленями и прилипшими к спине волосами. И снова натягивала на себя невидимую броню, готовясь к вечерней битве. К очередной «шутке», к тяжёлому взгляду, к маминому равнодушию.
Я училась выживать. Молча. Терпеливо. Методично. Каждый день моя броня становилась прочнее. Я уже не плакала по ночам. Я просто копила силы. Для чего – я ещё не знала. Но чувствовала: они мне понадобятся. Обязательно понадобятся. Где-то в глубине души теплилась надежда, что когда-нибудь эта броня станет не необходимостью, а силой. Но до этого было еще очень далеко.
Глава 3. Золотая лихорадка
Мои детские годы пришлись на лихие 90-е. Пока страна металась между надеждой и отчаянием, мой отец нашёл свою золотую жилу. Его спортивный клуб «Атлет» в Питере процветал, словно оазис в пустыне всеобщего развала. В эпоху, когда сильные пожирали слабых, все вдруг захотели стать сильными. Бывшие спортсмены, новоиспечённые бизнесмены, даже те, чьи имена произносили шёпотом – все они становились клиентами папы. Клуб стал не просто местом для тренировок, а своеобразным клубом по интересам, где завязывались деловые связи и решались судьбы.
Он превратился в другого человека. Прежний спортсмен, живший идеалами честной борьбы, теперь носил дорогие костюмы от итальянских брендов и разговаривал по громоздкому сотовому телефону, который носил в кожаной сумке через плечо. Когда он заезжал за мной на своей иномарке – то серебристой «Тойоте», то чёрной «Ауди», от него пахло не только привычным «Шипром», но и деньгами – густыми, властными, чужими. Его руки, когда-то покрытые мозолями от вёсел, теперь были ухоженными, с маникюром, но такими же сильными.
Мама смотрела на его успех с горькой иронией. «Повезло твоему отцу, – говорила она, отводя глаза, – в нужное время в нужном месте оказался». Но я видела в её глазах не только зависть. Там плавало щемящее сожаление, особенно когда она смотрела на отчима, который вёл свои мелкие, сомнительные дела и часто приходил домой пьяным и злым. Она, променявшая папу на «стабильность» с отчимом, теперь наблюдала, как тот, кого она считала неудачником, строит империю. Иногда по вечерам я заставала её у окна – она стояла и курила, чего раньше никогда не делала, а в её позе читалась такая тоска, что мне было её жаль, несмотря на всю обиду.
Иногда папа брал меня с собой в клуб. Зеркальные стены, блестящие хромированные тренажёры, запах пота, смешанный с ароматом дорогого парфюма и хлорки для обработки помещений – этот мир был так далёк от нашей скромной квартиры с её вечным запахом щей и старых вещей. Я видела, как с ним почтительно здороваются мускулистые мужчины в дорогих спортивных костюмах, как ему кланяются администраторы. Он был здесь царём и богом. Однажды я стала свидетелем, как к нему подошёл внушительного вида мужчина в меховой куртке и, хлопая по плечу, сказал: «Спасибо за совет, дело сдвинулось с мёртвой точки». Папа лишь кивнул с той спокойной уверенностью, которая появляется у людей, знающих себе цену.
«Вот вырастешь, Юлька, будешь у меня главным бухгалтером», – шутил он, усаживая меня в своём просторном кабинете с видом на Невский. А я смотрела на его уставшее, но счастливое лицо и думала: вот он, настоящий папа. Не сломленный неудачник, каким его пыталась представить мама, а победитель. Сильный, красивый, успешный. В эти моменты мне хотелось верить, что всё в жизни наладится, что можно преодолеть любые препятствия, если быть таким же упорным и целеустремлённым, как он.
Я ещё не знала, что в мире победителей всегда находятся те, кто хочет победить сильнее. Что за блеском зеркальных стен клуба уже тенью витает беда, что на «Атлет» положили глаз другие, более жадные и беспринципные люди. Что 1995 год станет для отца не продолжением триумфа, а годом страшного выбора – сохранить жизнь или бизнес. Пока же я просто наслаждалась этими редкими днями, когда чувствовала себя дочерью не просто любящего отца, но и успешного, уважаемого человека. Эти визиты в клуб были для меня глотком свежего воздуха, возможностью на несколько часов сбежать из душной атмосферы дома, где пахло ложью и несбывшимися надеждами. Но даже тогда, ребёнком, я понимала: за всё нужно платить. И за успех отца – тоже. Просто я ещё не знала, какую именно цену нам всем придётся заплатить.
Глава 4. Железный конь
1995 год вошёл в нашу жизнь не календарной датой, а тяжёлым, влажным ветром с Невы. Папа приехал к нам не на иномарке, а на потрёпанной «девятке». От него пахло не деньгами и уверенностью, а усталостью и чем-то горьким – как будто пеплом. Он вошел в квартиру, и сразу стало тесно. Мама засуетилась, забегала по кухне, но в её глазах читалась настороженность.
«Уезжаю», – сказал он без предисловий. Голос был ровным, но в нём дребезжала какая-то надтреснутая струна. «Продал клуб. Разборки… эти люди не шутят». Он говорил коротко, обрывисто, будто выплескивал слова, которые долго носил в себе. Я сидела на краю стула и смотрела, как он достаёт из внутреннего кармана пиджака толстый конверт.
«Это для Юли», – он положил его на стол перед мамой. «На учёбу. Чтобы дочь могла стать кем захочет». Его пальцы на секунду задержались на конверте, будто он отдавал не деньги, а часть себя. Последнюю часть.
Мама молча кивнула. В её глазах мелькнуло что-то сложное – не радость, не благодарность, а какое-то жадное, лихорадочное оживление. Папа обнял меня на прощание. Его объятие было крепким, но каким-то прощальным. «Учись, дочка», – прошептал он мне на ухо. И вышел. Дверь закрылась, а я ещё долго стояла посреди комнаты, чувствуя на щеке след от щетины и впитывая запах его старого пиджака – смесь табака и чего-то безвозвратно уходящего.
Он уезжает навсегда, – пронеслось у меня в голове. И берёт с собой последние обломки моего детства. Мне хотелось бежать за ним, кричать, чтобы он остался, но ноги будто приросли к полу. Я просто стояла и смотрела на дверь, за которой только что исчез самый важный человек в моей жизни.
Конверт исчез на следующий же день. Когда я спросила о нём, мама отвела глаза. «Мы вложили их в важное дело», – сказала она, поправляя занавески. Голос её звучал неестественно бодро. «В наше будущее».
Через неделю во дворе появился новенький автомобиль – тёмно-синий, блестящий, с салоном из кожи, пахнущий свежим пластиком и чужим успехом. Отчим похаживал вокруг него, как хозяин, поглаживая капот и что-то самодовольно бормоча себе под нос. Мама стояла рядом и улыбалась натянутой, счастливой улыбкой, но глаза были почему-то грустные. Она положила руку на блестящую поверхность, и в этом жесте было что-то подобострастное, почти жалостное.
Соседи выходили на балконы, показывали пальцами. «Новая машина» – донёсся чей-то голос. Я видела, как женщины через дорогу перешёптываются, бросая любопытные взгляды. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Каждый восхищённый или завистливый взгляд был уколом в сердце. Они восхищались ценой моего будущего…
Я стояла у окна своей комнаты, вдавив лоб в холодное стекло, и смотрела, как они вдвоём любуются этой покупкой. В горле встал ком, горячий и колючий. Это были не просто деньги. Это было моё будущее, которое они обменяли на железного коня. Мои мечты, которые теперь помещались в багажник иномарки. Папино прощальное напутствие, его надежды на меня – всё это стоило теперь столько, сколько стоила эта блестящая машина.
Поздно вечером, когда все уснули, я выскользнула из дома. Подошла к машине и провела рукой по холодному металлу. Потом достала из кармана ключ и с силой провела им по боку. Скрип металла прозвучал как крик. Я оставила на блестящей поверхности глубокую царапину – кривую, некрасивую, как шрам. Это был мой протест. Моя попытка хоть как-то «отомстить» за своё украденное будущее.
В тот вечер я не плакала. Я сидела на кровати и смотрела в стену, где ещё висел след от гвоздя, на котором раньше висела папина спортивная форма. Во мне что-то закаменело – окончательно и бесповоротно. Последняя пластина моего бронежилета встала на место с тихим, но оглушительным щелчком. Я подошла к зеркалу. Из него на меня смотрела девочка с большими, слишком взрослыми глазами.
«Всё», – прошептала я своему отражению. «Только на себя».
И это не была детская обида. Это была клятва. Первая в моей жизни настоящая клятва. Я поняла, что значит слово «предательство». Оно пахло новым автомобилем и мамиными духами. И было горше любого отчаяния.
Глава 5. Чужая среди «своих»
Каждое утро, переступая школьный порог, я чувствовала, как натягивается невидимая струна внутри. Здесь всё было пронизано тихим шёпотом, смешками, звоном браслетов на запястьях одноклассниц. Я научилась дышать мелко, почти неслышно, чтобы не привлекать внимания. Моя форма – чуть бледнее, рюкзак – проще, волосы – без модных заколок. Я была тенью в этом ярком мире, и это меня устраивало.
Но были моменты, когда стать невидимой не получалось. Когда учитель вызывал к доске, и все взгляды устремлялись на меня. В такие секунды сердце начинало биться где-то в горле, предательски громко. Я чувствовала, как жар поднимается к щекам, а слова становятся ватными, бесформенными. Слова… они всегда были моими врагами. Я не умела вплетать их в лёгкие узоры шуток, не могла выстроить в стройные ряды уверенных ответов. Они сбивались в комок где-то глубоко внутри, и я слышала лишь сдержанные хихиканья, которые жгли сильнее любого упрёка. Внутри всё сжималось в маленький, твёрдый шарик обиды и стыда.
Но потом – спортзал. Дверь захлопывалась, и мир менялся. Резкий, чистый запах пота и нашатыря бил в нос, как струя ледяной воды. И я.… оживала. Здесь не нужно было слов. Здесь было тело – послушное, сильное, понятное. Удар по мячу – и вся накопленная за день горечь вырывалась наружу с глухим – «бух». Прыжок – и казалось, что на мгновение можно оторваться от земли, от всех этих обид. Падение на прохладный паркет – и боль в ладонях, коленях была такой честной, такой простой. Она не ранила душу, она закаляла тело.
Тренер, её спокойные, твёрдые глаза… В них не было ни капли той жалости, что я видела у некоторых учителей. Была требовательность. «Ты держишься, как будто ждёшь удара, – говорила она. – Расслабь плечи. Доверься себе. Здесь тебя никто не тронет». Её слова падали не в уши, а прямо в душу, согревая те уголки, где поселился вечный холод. Она не давала мне жалости – она давала веру. Веру в то, что я могу быть сильной. Что моя сила – это не что-то стыдное, что нужно прятать, а дар.
И вот он, самый резкий контраст. Дорога домой. Приятная усталость в мышцах, чувство лёгкости, почти полёта. И – порог квартиры. Воздух становился густым, спёртым, пахшим старыми обидами и чем-то кислым – страхом. Плечи сами собой сжимались, спина выпрямлялась в струнку, дыхание снова становилось мелким и робким. Бронежилет, который в зале казался лишь частью формы, здесь снова намертво прирастал к коже, становясь тяжёлым и невыносимым.
Но теперь, лёжа в кровати и глядя в потолок, я знала. Я знала, что есть место, где я могу дышать полной грудью. Где моё тело – не объект для колких взглядов, а инструмент. Где боль – не унижение, а шаг вперёд. Это знание было маленьким тёплым огоньком в груди. Он не согревал всю меня – нет. Но он не давал окончательно замёрзнуть. Он напоминал: где-то там есть другая я. И, может быть, когда-нибудь ей не придётся прятаться.
Глава 6. Взросление по расписанию
Окончание школы подкралось незаметно. Последний звонок прозвенел для меня не как прощание с детством, а как стартовый выстрел. Пока одноклассники лихорадочно выбирали между престижными вузами, у меня не было выбора. Только экономический институт с вечерним отделением. Только платная основа. И работа. Всегда работа.
Август 2003-го пах пылью и офисным картоном. Мое первое рабочее место в отделе организации. Серые стены, скрипучие стулья. Мне дали самый дальний стол и кипу документов. «Разберешься», – бросил начальник. Каждый день с 9 до 6. Бесконечные бумаги, звонки, отчеты. Я училась молчать, подчиняться, быть удобной.
А вечером – институт. Аудитории пахли мелом и усталостью. Я садилась на последнюю парту, превращалась в губку, впитывающую знания. Цифры были моими друзьями – они не смеялись, не предавали. Зазубривая формулы, я чувствовала, как в голове выстраивается стройная система, альтернативная хаосу моей жизни.
Дом. Это слово давно потеряло для меня смысл. Квартира родителей была местом, где я только ночевала. Но даже эти редкие часы дома стали испытанием. Отчим, видя, что я стала взрослее, самостоятельнее, будто озверел. Его «шутки» стали грубее, взгляд – наглее.
Однажды вечером, когда я возвращалась с института за полночь, он подстерег меня в коридоре. Пахло перегаром и злобой. «Что это ты важной стала, студентка? – его пальцы впились в мое плечо. – Думаешь, ты лучше всех?»