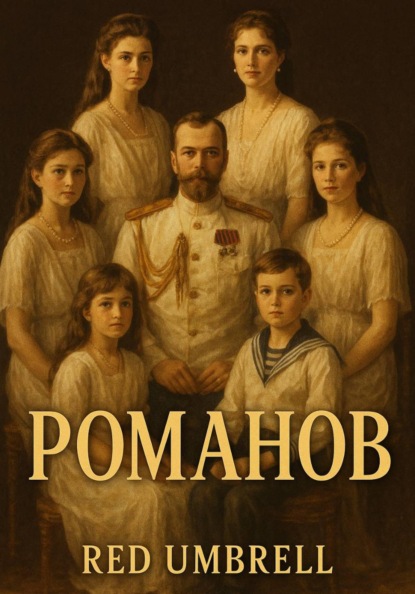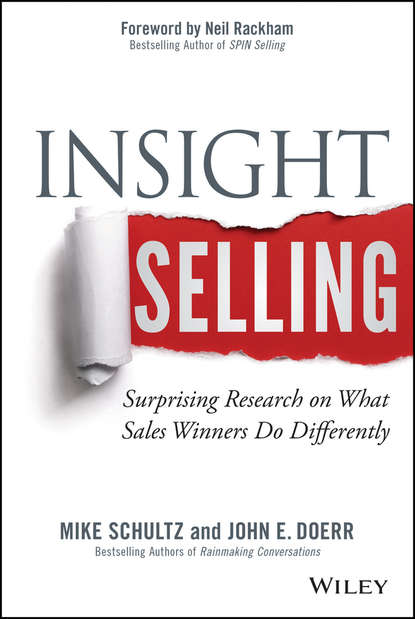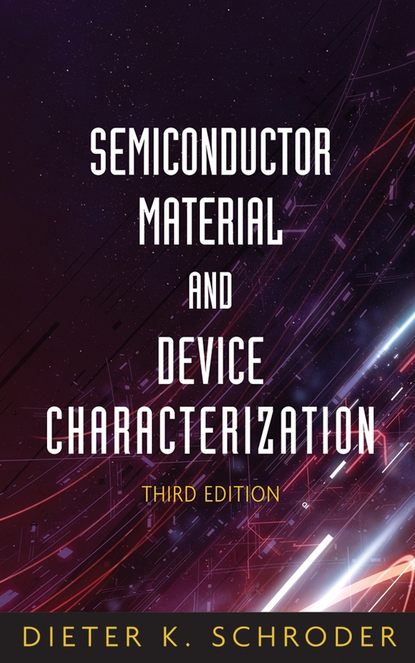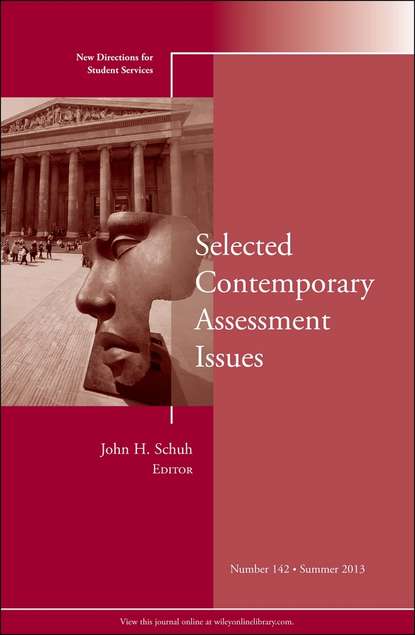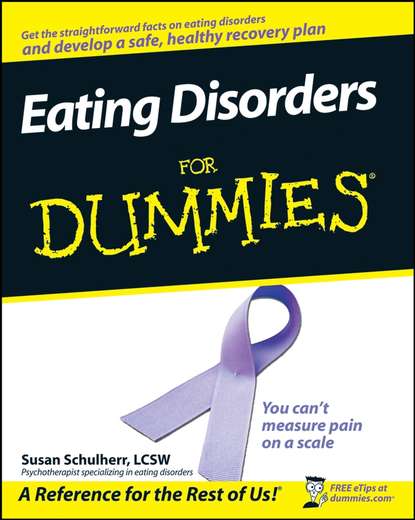- -
- 100%
- +

Если мир сузится до одного дома, мы не должны позволить сердцу сжаться вместе с ним. Если у нас отнимут сад, мы его нарисуем. Если нам запретят петь, мы будем шептать. Если у нас отнимут голос, у нас останется взгляд. А если у нас отнимут взгляд, останется прикосновение. Всегда что-то остаётся.
Глава 1 – Царское Село, весна 1917 года
15 марта 1917 года
Утром тучи отступили, как усталые занавеси. Небо было бледным, с синеватым отливом – таким, каким я помню его на наших летних днях в Ливадии. Только теперь оно не пахнет морем, а талым снегом и пылью в коридорах. В нашей комнате окно всё ещё закрыто; на стекле – тонкая трещина, крошечная, как жила, сквозь которую в комнату входит луч света – золотая нить, что играет на столе.
Сёстры ещё спят, каждая в своём сне, а я пишу, чтобы не думать.
Говорят, отец отрёкся от престола. Это слово – твёрдое, холодное, чужое. Звучит так, будто должно случиться с кем-то другим. Ольга произнесла его первой – не дрожала, но голос её опустился, как камень в воду. Татьяна отвела глаза, Мария перекрестилась, а я засмеялась – не по-настоящему, а будто старалась убедить саму себя, что ничего страшного не происходит. Но страшно. Всё меняется, и мы чувствуем это во всём: в том, как мать закрывает глаза во время молитвы, в тишине, что следует после того, как отец проходит по коридору, в том, как стражники произносят «Ваше Высочество» – без поклона, коротко, как приказ.
После полудня я села писать письмо тёте Ольге, но не смогла перейти первую строку. Перо застыло над бумагой, а мысли расходились. Всё, что я хотела сказать, было слишком просто: мне тебя не хватает.
Но, кажется, теперь не время для простоты.
17 марта 1917 года
Свет меняется. Весна пытается войти, но снег всё ещё держится, как старая привычка. Сегодня я смотрела во двор из окна. Часовые стоят, словно ледяные фигуры. Их четверо, меняются по часам. Один – с тёмными усами – смотрит на нас не враждебно, а пусто, будто предпочёл бы быть где угодно, только не здесь. Когда наш взгляд случайно встречается, он опускает голову. Может быть, он тоже боится.
Сёстры стараются сохранить обычный распорядок – Ольга читает, Татьяна чинит кружевные рукава материнского платья, Мария помогает Алексею с игрушками. А я сегодня решила рисовать. Взяла карандаш и попыталась нарисовать наш сад – таким, каким он был до войны: сирень вдоль ограды, белые скамейки, дорожки, посыпанные светлым песком. Рисую – и не получается. Снег всё съел. Когда пытаюсь представить его в красках, всё становится белым, бесконечно белым. Только иногда, закрыв глаза, я слышу плеск воды в фонтане и вижу себя босиком, бегущей по аллее, и мамин голос: «Настя, опять без туфель!» – и всё это длится мгновение – и исчезает.
После полудня я читала старые страницы дневника. Сколько там смеха! Я писала о балах, о наших собаках, о Распутине, который говорил матери, что всё пройдёт «через огонь и воду». Тогда я думала, что это метафора. Теперь думаю – он знал больше, чем мы.
20 марта 1917 года
Отца мы видим редко. Он стал тише, чем когда-либо. Когда я встречаю его, он не смотрит на меня тем царственным взглядом, который я помню с петербургских парадов, – теперь в его глазах поиск покоя. Сегодня он сидел у окна, глядел на тающий снег и сказал:
– Птицы не знают об отречении. И это хорошо.
Я кивнула и промолчала. В тот миг я поняла, что больше не нужно задавать вопросов. Вопросы стали лишними, как украшения в пустой комнате.
Мать молится дольше, чем раньше. Когда прохожу мимо, слышу тихий шорох чёток. В её руках даже боль выглядит достойно. Я не такая. Я чувствую страх – и стыжусь его. Когда закрываю глаза, мне кажется, что кто-то смотрит на нас издалека и спрашивает:
Как выглядит конец света изнутри?
Он выглядит как тишина между двумя молитвами.
24 марта 1917 года
Вечер был спокойный. Ольга читала вслух книгу о путешествиях. Голос её был тихим, почти убаюкивающим. Когда она упомянула море, мать вздрогнула. Я знаю – она думала о Ливадии. О берегу, где мы были вместе в последний раз – до того, как всё стало «запрещённым».
Распутина теперь никто не вспоминает, но я помню его. Его взгляд – острый и мягкий одновременно – и слова, сказанные мне в детстве:
«Ты – ветер, который помнит.»
Тогда это казалось бессмыслицей. А теперь, когда пишу, думаю – может, он был прав.
29 марта 1917 года
Стражники сменяются, как тени, проходящие сквозь день. Новый молодой часовой – с шрамом – часто смотрит в наше окно. Однажды я ему улыбнулась. Он не ответил, но на следующий день, сменяя старшего, оставил на подоконнике маленький цветок – хрупкий, почти засохший, но настоящий.
Ольга сразу убрала его, сказав:
– Это небезопасно, Настя.
Я знаю. Но в этой крошечной вещи есть жизнь.
Странно, как теперь всё человеческое должно быть скрыто.
2 апреля 1917 года
Я начала писать письма – хотя никогда их не отправлю. Пишу Алексею, когда он спит, тёте Ольге, себе самой. Бумаги спрятаны в переплёте книги. Одно письмо начинается так:
«Если всё исчезнет – пусть останется слово.»
В этих письмах я пытаюсь удержать запахи, звуки, свет – всё то, что нельзя положить в чемодан.
Сегодня вечером мать сидела у иконы преподобного Серафима. Лампадка горела тихо, и аромат воска наполнял комнату. Татьяна читала молитву, а я смотрела на пламя. Мне захотелось знать, как выглядит небо, когда кто-то молится из замкнутого пространства.
Может быть, Бог лучше слышит самые тихие молитвы?
8 апреля 1917 года – Пасха
На столе было всего три красных яйца. Мы хранили их с прошлого года. Ольга испекла кулич из муки, которую часовые принесли из соседней пекарни; тесто не поднялось, но мы смеялись, будто всё вышло как надо.
Мама тихо сказала:
– Христос воскресе.
А мы ответили громко, все вместе, как дети, надеясь, что наши голоса дойдут до небес.
Когда вошёл часовой, он остановился. Ничего не сказал, только снял фуражку.
В тот миг я поняла – даже он, пусть на мгновение, поверил, что жизнь ещё имеет смысл.
12 апреля 1917 года
Мне снится стекло, которое трескается без звука.
По ту сторону стоят лица – знакомые, но далёкие. Я пытаюсь крикнуть, но голос не проходит. Когда просыпаюсь, чувствую, что я не одна, хотя все спят. Это странное ощущение – будто сама история дышит с нами в одной комнате, наблюдает и записывает каждую мелочь: движение руки, вздох, моргание.
Татьяна говорит, что я пишу слишком много.
Ольга – что я пишу, потому что хочу понять.
Мария – что я пишу, потому что боюсь.
Все три правы.
15 апреля 1917 года
После полудня. Снег наконец отступил. Вдали видна грязная тропинка, а над ней – несколько птиц. Они летят низко, словно и сами не верят, что весна – настоящая.
– Когда всё это пройдёт… – сказала Мария и замолчала.
Мы научились не заканчивать фразы, в которых есть будущее.
Вместо этого говорим о пустяках: о платьях, песнях, цвете неба.
Я сказала, что научусь лучше фотографировать. Мой старый аппарат всё ещё работает, хотя пластинок мало. Когда смотрю в объектив, всё кажется спокойным – даже часовые, даже эта комната.
Словно камера знает, как приукрасить действительность.
Отец застал меня, когда я снимала его стул.
– Зачем? – спросил он.
– Потому что он не двигается, – ответила я.
Он улыбнулся.
Эту улыбку я запомню на всю жизнь.
20 апреля 1917 года
Пришли вести. Говорят, нас перевезут – в Тобольск.
Сёстры молчат. Мама собирает вещи – бережно, не говоря ни слова. Отец что-то пишет – может, дневник, а может, молитву.
Я сижу на полу и смотрю на нашу комнату. Запоминаю всё: пятно от воска на полу, порядок стульев, цвет стен – все маленькие следы существования. Записываю их, будто когда-нибудь это кому-то понадобится.
Когда легла спать, услышала в коридоре часовых. Один сказал другому:
– Долго это не продлится. Их время вышло.
Я не поняла, говорил ли он о политике или о жизни.
Может быть, это одно и то же.
23 апреля 1917 года
Вечер. Отец обнял нас – одну за другой.
– Мои девочки, – сказал он.
Никогда прежде эти два слова не казались такими полными смысла.
Мама произнесла:
– Всё будет так, как должно быть.
Я никогда не слышала, чтобы кто-то говорил о мире так ясно.
Когда мы вышли, я обернулась к окну. Лампадка перед иконой ещё горела. Я не погасила её. Подумала – пусть светит, хотя бы пустому пространству.
На пороге я прошептала:
– Прощай, окно. Прощай, трещина в стене.
А потом – то, что было позволено сказать вслух:
– Прощай, снег.
Поезд тронулся. Вдали ещё пели птицы.
И этот звук – простой, тёплый, невинный – был первым за многие месяцы, что не имел ничего общего с печалью.
Я подумала: может быть, Бог говорит не словами, а пением птиц.
И, может быть, пока они поют – мы существуем.
Снег тает. Вода течёт по мостовой, как по венам, пробуждающимся после долгого сна. Воздух пахнет землёй, травой, чем-то новым – и всё же в этой новизне есть горечь, что-то, напоминающее конец.
Мама говорит, что это самое прекрасное время года – «когда Бог улыбается сквозь облака».
Но в этой улыбке я вижу слёзы.
Я сижу на скамейке в саду, перед оранжереей. Вдали берёзы ещё голые, но солнце красит их в золото, словно пытается убедить их, что стоит расти.
Рядом Татьяна вяжет, Ольга читает. Мария лежит на траве, глядит в небо и разговаривает с облаками.
– Это похоже на Распутина, – говорит она.
Мы смеёмся, но смех длится недолго.
Имя Распутин теперь никто не произносит без шёпота.
Мама защищает его.
Отец молчит.
Мир вокруг нас дышит иначе.
Весна в Царском Селе всегда пахла печёными яблоками и колоколами, но теперь колокола звучат по-другому – будто не зовут, а предупреждают.
Стражу на воротах меняют чаще. Новые – молодые, незнакомые, смотрят на нас с какой-то смесью смущения и любопытства. Старые ушли – кто на фронт, кто в город, кто просто исчез.
Вечером, когда зажигаются лампы, я слышу голос матери из гостиной:
– Николай, они беспокойны.
Отец отвечает тихо, не как царь, а как муж, который чувствует, что теряет почву.
– Мир меняется, Саша.
– Меняется не мир, Николай, – говорит она. – Меняется вера в него.
Я сижу на лестнице и слушаю их.
Звук их разговора становится частью дома. Стены впитывают его, будто запоминают для других времён.
Утром я просыпаюсь раньше всех. В комнате пахнет воском и льняными простынями.
Окно открыто – в него входит свет. Вдалеке слышны поезда – Петроград просыпается.
Я надеваю платье, беру тетрадь и спускаюсь в сад. Роса мочит ноги, и в каждой капле воды отражается кусочек неба.
Сажусь под старой берёзой и пишу:
«Сегодня весна. Говорят, начинается революция, но мне кажется, что всё наоборот – замирает. Люди думают, что освобождаются, а я думаю, что запираются.»
Закрываю тетрадь, смотрю на руки – они всё ещё детские.
Представляю, что пишу кому-то из будущего – тому, кто поймёт, что империя была лишь тенью одной семьи, которая хотела верить в Бога больше, чем в саму себя.
После полудня приходит священник. Приносит святую воду и тихие вести.
– В Петрограде неспокойно, – говорит он, опуская глаза.
Отец спрашивает:
– А народ?
– Ищет голос.
Отец вздыхает:
– И находит его в шуме.
Мама крестится.
– Пока они молятся, – говорит она, – они не потеряны.
Священник кланяется и смотрит на неё с почтением. В его глазах я вижу печаль – ту, что носят люди, знающие больше, чем им позволено говорить.
Когда он уходит, мама провожает его до двери.
На прощание шепчет:
– Скажите им… пусть не винят детей.
Он на мгновение останавливается, затем поворачивается и отвечает:
– Никто не может обвинить невинных, Ваше Величество.
Но в его голосе я слышу сомнение.
Вечером Ольга играет на рояле. Звук расходится по дому – мягкий, но грустный. Татьяна поёт тихо, почти без голоса.
Мама стоит у икон, а отец смотрит в окно.
Во дворе – лунный свет. Он ломается о снег, который ещё не растаял, и на миг всё кажется как прежде.
Только ветер приносит запах дыма и далёкие песни из деревни.
– Это солдаты, – говорит отец.
– Нет, это дети, – отвечает мать. – Просто выросли слишком рано.
Я сижу в углу и смотрю на них. Это мои родители – не царь и царица, а двое людей, пытающихся сохранить дом в мире, который уже не знает, что такое дом.
Поздно ночью, когда все ложатся спать, я выхожу наружу.
Небо чистое, луна белая, снег тает, а капли с крыши падают в том же ритме, что и моё дыхание.
В воздухе запах весны – но не той, что в песнях, а другой: с привкусом конца зимы и приближения чего-то нового.
Я закрываю глаза и слышу голос Распутина – таким, каким помню его: низкий, хрипловатый, будто идущий из самой земли.
– Настя, – сказал он когда-то, – когда весна становится тише зимы – тогда меняется мир.
Я открываю глаза.
Тишина абсолютна.
И я понимаю – весна пришла.
Но она не несёт жизнь.
Она несёт перемену.
Царское Село молчит.
Только ветер шевелит занавеси на окнах.
И в этой тишине, где-то во мне, начинается нечто, что будет длиться вечно.
Глава 2 – Письма без ответа
5 мая 1917 года
Дорога длилась дольше, чем может выдержать тишина. Вагоны были закрыты, окна запотели от дыхания. Лишь иногда, сквозь тонкую щель в стекле, открывался кусочек мира: тающий снег, сверкающие реки, станции, на которых никто не выходил. Когда мы наконец прибыли, показалось, что время больше не существует.
Тобольск – слово, звучащее как вздох.
Дом, в котором мы будем жить, большой, белый, с толстыми стенами. Когда-то он принадлежал губернатору. Теперь – нам. Или, вернее, тем, кто уже не цари и не пленники, а нечто между.
В коридорах пахнет сыростью, старыми книгами и чем-то, напоминающим церковный воск. Когда я иду, полы скрипят – как тихий протест.
Отец говорит, что мы должны сохранить порядок.
Подъём в семь, молитва, завтрак, уроки, чтение. Всё как прежде – только теперь никуда нельзя идти.
Вечером, когда двери заперты, слышно лишь, как ветер бьёт в окна. Мама смотрит на икону, Татьяна вяжет, Ольга пишет, Мария шепчет с Алексеем.
А я… я пишу письма.
6 мая 1917 года
Бумага, найденная в маминой сумке, пахнет лавандой. Сижу на кровати, а за окном снова идёт снег – хоть уже май.
«Дорогая тётя Ольга», – начинаю. Перо дрожит. Пишу обо всём, чего больше нет: о саде, о наших собаках, о солнечных днях. Словно выдумываю лучшую версию мира.
В конце добавляю:
«Всё спокойно. Мы вместе. Бог нас хранит.»
Не пишу, что нас охраняет армия – её больше нет.
Не пишу, что нас охраняют часовые – они не охраняют, только смотрят.
Воск на печати растёкся по краям, как слеза.
Думаю, это письмо никогда не уйдёт, но всё равно кладу его в коробку с чётками.
Может быть, когда-нибудь кто-то его найдёт – и поверит, что оно было написано из надежды.
8 мая 1917 года
Часовые сменились. Новые – тише. Не ругаются, но и «добрый день» не говорят.
Один из них, Андрей, имеет руки, не похожие на солдатские – чистые, почти застенчивые.
Когда думает, что я не вижу, смотрит в окно на Алексея и улыбается.
Сегодня он незаметно протянул мне маленький кусочек бумаги:
«Для письма, если нужно.»
На другой стороне уже было написано старым чернилом:
«Мария, прости.»
Я не знаю, кто такая Мария, но понимаю, что значит это прости.
Храню этот клочок бумаги в книге, между страницами, что шуршат, как сухие листья.
Кажется, каждое письмо в мире носит в себе это слово – просто не всегда видно сразу.
10 мая 1917 года
Мама пишет королеве Виктории. Её перо движется медленно, осторожно, словно каждая строка должна стать молитвой.
Она пишет о болезни Алексея, о погоде, о вере. Не упоминает страх.
Когда заканчивает, говорит:
– Письма похожи на молитвы: их отправляешь и ждёшь. Ответ может не прийти сразу.
Я шепчу:
– А если не придёт никогда?
Она улыбается и отвечает:
– Тогда пишешь снова.
И целует меня в лоб.
Позже, оставшись одна, я открываю свой блокнот и записываю:
«Молчание, может быть, самая долгая форма ответа.»
14 мая 1917 года
Сегодня Алексей смеялся. Лепил фигурки из хлеба – собаку, птицу и ангела.
– Этот ангел будет нас хранить, если мы вдруг разлучимся, – сказал он.
Сказал без грусти, как ребёнок, который верит в чудо.
Мама посмотрела на него так, словно видела в последний раз, но с улыбкой, чтобы не напугать.
После полудня я писала Елизавете, нашей бывшей гувернантке:
«Помните, как вы учили нас читать Пушкина? Вы говорили, что у каждого слова есть цвет. Здесь все слова перламутровые, как снег, когда тает. Одни – голубые от холода, другие – серые, как дым.»
Потом я писала о вещах, которых теперь быть не должно: об освещении во дворце, о наших собаках, о запахе роз на подушках.
Бумага стала тяжёлой, словно у каждого предложения – своя могила.
Когда я отложила перо, чернила расплылись крестом.
17 мая 1917 года
Нам позволили выйти во двор.
Впервые за долгое время мои ноги коснулись земли – не досок, не ковра, а настоящей земли. Мягкой, холодной, живой.
Ветер принёс запах сосен и дыма. На мгновение я забыла, где мы.
Ольга несла книгу, Мария помогала Алексею идти, а отец смотрел на нас из окна.
Когда мы вернулись, он сказал:
– Берегите этот запах. Это – Россия.
И я действительно запомнила его – запах земли после снега и ощущение, что мы всё ещё дышим тем же воздухом, что и те, кто не в плену.
20 мая 1917 года
Мама сегодня не вставала.
Говорит, ей холодно, хотя в комнате тепло.
Она держала икону в руках – крепко, будто держала нас.
Татьяна читала молитвы, Ольга принесла свечу.
А я сидела у окна и смотрела на снежинки, возвращающиеся, как будто не знают, что уже весна.
Я писала письмо Распутину. Знаю, что его больше нет, но всё же писала:
«Вы говорили, что всё пройдёт сквозь огонь и воду. Теперь мы – между. Во льду.»
Когда закончила, не подписала. Бессмысленно. Он уже знает.
22 мая 1917 года
Нам разрешили посылать одно письмо в месяц. Часовые открывают их, читают вслух, перед нами – будто хотят доказать, что ничего святого не существует.
Письмо Татьяны вернули. Сказали: «Слишком много Бога.»
Она тихо спросила:
– А слишком много печали – бывает?
Они не ответили.
В ту ночь мама долго сидела у окна и сказала:
– Когда Бог молчит, это не наказание. Это ответ, который мы ещё не научились читать.
С тех пор в каждое письмо я вкладываю пустой лист.
Может быть, это место для того ответа.
25 мая 1917 года
Отец иногда пишет в свой дневник, но никому его не показывает.
Слышу только, как скрипит перо.
Когда спрашиваю, о чём он пишет, отвечает:
– О том, как тишина тяжелее шума.
Иногда я вспоминаю дни, когда гремели фанфары, когда толпы кричали его имя.
Теперь крики превратились в молчание.
Но в этом молчании есть что-то умиротворённое.
Будто мир пытается родиться заново – только без нас.
28 мая 1917 года
Сегодня ночью мне снился бал. Свет, музыка, цветы. Платье из тюля. Смех.
Когда я обернулась, я танцевала одна. Остальные исчезли, а пол был изо льда.
Меня разбудил шум ветра – тот же ритм, тот же тон.
Может быть, мир помнит то, что люди забывают.
После обеда отец читал из Евангелия.
Голос его был спокоен:
«Блаженны плачущие, ибо они утешатся.»
И я подумала:
Может быть, слёзы – это путь, по которому возвращаешься к себе.
30 мая 1917 года
Письма накапливаются – в коробке, под подушкой, между книгами.
Некоторые закончены, другие – нет.
Иногда я только начинаю и бросаю.
Не знаю, кому пишу – миру, будущему, Богу.
В одном написано:
«Если кто-нибудь найдёт эти строки, пусть знает – мы были. И мы старались остаться людьми.»
3 июня 1917 года
Андрей принёс мне маленькую тетрадь и сказал:
– Для вас, княжна. Чтобы не забыли писать.
Я поблагодарила.
На первой странице написала:
«Они думают, что охраняют нас, но это мы храним их – от забвения.»
Потом закрыла тетрадь и спрятала под кровать.
Знаю, однажды всё это может исчезнуть.
Но у слов есть свои дороги:
даже если их никто не прочтёт, они всё равно где-то останутся произнесёнными.
7 июня 1917 года
Мамино письмо в Англию вернулось.
На конверте печать: «Нечитаемо.»
Она не открыла, только поцеловала и положила между книг.
Отец сказал:
– Письма, которые не доходят, – самые верные.
И тогда я впервые подумала,
что, может быть, и мы становимся верными —
потому что нас уже никто не слышит.
10 июня 1917 года
День был тихий.
Солнце странным образом падало прямо в нашу комнату,
и какое-то время казалось, что ничего не случилось.
Алексей спал, мама держала его за руку.
Татьяна вязала, Ольга читала.
Всё выглядело как обычная жизнь.
Потом часовой хлопнул дверью – и всё распалось.
Я села и начала писать.
Не чтобы убежать – чтобы сохранить.
Написала:
«Письма без ответа – как молитвы без слов.
И то, и другое ждёт,
и в ожидании становится вечностью.»
12 июня 1917 года
На столе – груда бумаг, разных по цвету и запаху.
Каждый лист хранит то, чего я не смогла сказать.
Одно письмо заканчивается фразой:
«Зима вернулась, но мы всё ещё вместе.»
Другое:
«Иногда мне кажется, что Бог читает по-русски.»
Третье:
«Если когда-нибудь пройдёшь мимо нашего дома, не смотри на окна – смотри на свет за ними.»
Вечером, когда ветер шелестит в кронах,
мне чудится, что я слышу голоса издалека —
будто все эти письма, неотправленные,
летят над рекой и шепчут миру, что мы всё ещё есть.
15 июня 1917 года
Сегодня я не писала.
Только читала старые письма.
Некоторые пахнут духами,
некоторые измяты,
а некоторые окрашены кровью чернил,
что растеклись, когда я плакала.
Понимаю – важны не имена и не адреса.
Важна тишина между строками.
В этой тишине есть всё: страх, любовь, надежда.
И, может быть, где-то – ответ.
«Потому что даже если никто не пишет в ответ,
мир всё равно дышит.
Нужно лишь уметь слушать.»
На столе перед нами – раскрытые письма. Бумага пахнет воском и остывшим чаем, слегка влажная от дыхания лампы. Чернила мерцают в жёлтом свете, будто живые.