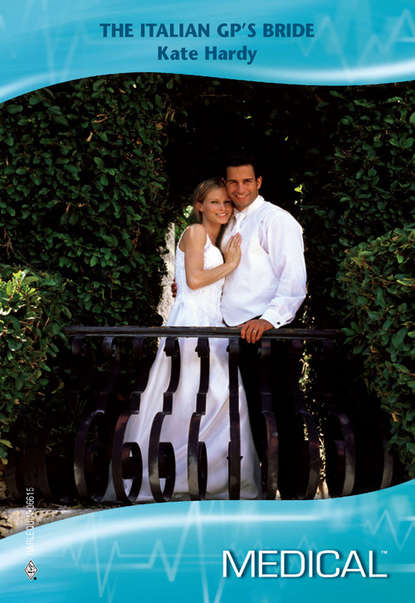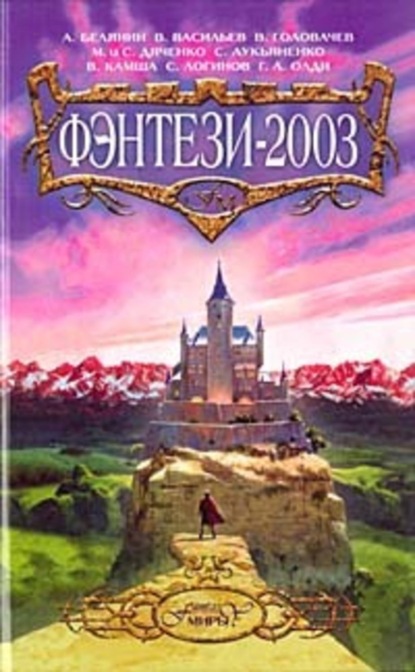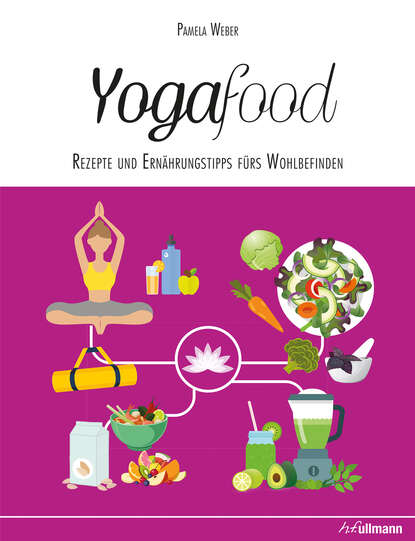- -
- 100%
- +

Пролог
Где-то далеко, там, где человеческий язык кончается вместе с человеческой физикой, произошло событие. Не взрыв – скорее, короткая потеря смысла. Не вспышка – тихая поправка, как если бы кто-то в темноте провёл ластиком по слишком смелой линии. В пространстве ничего не «открывалось» и не «закрывалось». Просто на мгновение реальность перестала вести себя так, как привыкла, и снова вспомнила, как надо. От этого в неё ушла дрожь – тонкая, ленившаяся быть измеренной. Дрожь растянулась в время, в километры, в пустоту, которая, как всегда, была равнодушна к тому, что внутри неё живёт. Один из её гребней, как пыль с чужой стройки, спустя годы лёг на стекло маленькой планеты и не спросил разрешения.
Земля даже не почувствовала. Земля в принципе редко чувствует то, что не стучит в окна метеоритом.
Первым почувствовал человек.
Север не умеет играть в красоту. Он не делает тебе изоляцию для души. Он просто давит. Ветер здесь не «воет» – он выполняет работу. Лёд не «трещит» – он перестраивается. Вода не «шумит» – она перемалывает берег миллиметр за миллиметром, как терпеливый станок.
Станция стояла на краю этой механики, вбитая в скалу бетонными лапами, с низким антенным лесом и облупившейся вывеской, которая вечно хотела оторваться и улететь. Название было из той эпохи, когда стране нужно было звучать научно: «Звукоряд-2». Дешёвый пафос для отчёта, который никто не будет читать. Внутри – коридоры без окон, запах металла, дизеля и мокрой шерсти. Тепло держалось как должность – в пределах допустимого, но без энтузиазма.
Оператор жил здесь не героем и не романтиком. Он был тем самым «на всякий случай». Сорок девять, десятый месяц контракта, две недели до смены. В городе его никто не ждал. Он научился жить ритмом приборов: утро начиналось с дизеля, обед – с чайника, ночь – с графиков, где всё должно было быть ровным, потому что ровное легче объяснять. Он доверял цифрам больше, чем людям, потому что цифры, если врут, делают это без выражения лица.
В ту ночь всё шло по расписанию. Океан за стеной был ровным, почти ленивым. В отсеке приборов зеленели экраны. Тёплый свет лампы висел над столом как усталость. Оператор поставил кружку рядом с клавиатурой, стукнул пальцем по бумажному журналу, чтобы он не закрывался, и машинально отметил очередной набор параметров. Плечи ныли. Ноги были тяжёлыми – так бывает, когда весь день ходишь по коридорам, а мир за дверью всё равно не меняется.
Он потянулся, чтобы переключить сектор, и в этот момент один из мониторов погас.
Не аварийно. Спокойно. Как будто кто-то нажал «выкл» не от злости, а по необходимости. Чёрное стекло выключенного экрана стало зеркалом. В нём отразилось его лицо, размытое зелёными бликами диодов.
И отражение моргнуло позже.
Не так, как глючит видео. Не рывком, не «подвисло» картинкой. На долю секунды – на смешные три десятых – оно отстало как человек, который не сразу понял шутку и догоняет реакцией.
Оператор выпрямился. Отражение выпрямилось следом.
Сердце ударило тяжело и как-то слишком громко внутри груди. Он резче вдохнул – воздух показался холоднее, чем должен, как будто он вдохнул не комнату, а улицу.
– Так, – сказал он вслух, чтобы услышать собственный голос.
И не услышал.
Звук дизеля исчез. Не тишина – отсутствие звука. Как если бы из мира вытянули воздух, оставив только ощущение давления. Вентиляторы продолжали крутиться, он видел, как дрожит бумага у края стола, но не слышал ничего. В ушах стояла пустота. От неё сразу повело в висках – будто внутрь черепа кто-то аккуратно вкрутил винт.
Рационализация включилась почти автоматически. Магнитная буря. Падение питания. Микропомехи. Переутомление. Чёртова станция, чёртовы старые провода, чёртов кофе, который больше похож на уголь.
Он стукнул ладонью по корпусу монитора. Сухо. Нормально. Под пальцами – холодный пластик.
Отражение в стекле… не повторило удар сразу. Оно подняло руку и ударило чуть позже. И не так. Как будто примеряясь.
Оператор понял это не мыслью – телом. Ладони вспотели. По спине пошёл липкий холод, хотя в отсеке было тепло. Он сделал шаг ближе и поднял руку, медленно, контролируя каждую мышцу, как будто проводил тест.
Отражение подняло руку позже.
Не «как в кино». Не красиво. Уродливо точно. Как не должно быть у самого базового закона: если ты поднимаешь руку, твой двойник в стекле делает то же самое сразу. Это был детский договор, которому доверяют даже взрослые, пока не случается что-то, что делает тебя снова маленьким.
Он ткнул пальцем в чёрное стекло. Палец упёрся в холодную поверхность.
В отражении палец всё ещё двигался.
Он поймал себя на самой идиотской мысли на свете: «Как я это объясню врачу?» – и почти рассмеялся, потому что это было настолько бытовое, что должно было вернуть всё обратно в норму. Но обратно не возвращалось.
Давление в висках усилилось. На мгновение – так резко, что он увидел это давление глазами: белый блик по краям зрения. В желудке стало пусто, как перед падением лифта.
Он разжал пальцы, и звук вернулся.
Дизель загудел. Вентиляторы завыли. Мир снова стал миром – очень обиженно, будто ему помешали. Оператор понял, что сидит на полу. Он не помнил, как упал.
Он поднялся, держась за стол. Руки дрожали. Дыхание было быстрым, как после бега. Он посмотрел на часы: прошла меньше минуты.
Он бросился к терминалу. Логи – чистые. Камеры – ничего. Датчики – в норме. Любой человек, вошедший сюда через час, сказал бы: «У вас всё стабильно». И это было самое унизительное.
Но бумажная лента самописца показала другое.
Во время «провала» перо вывело идеально прямую линию. Как будто на эти семнадцать секунд местное поле исчезло. Не изменилось, не прыгнуло – исчезло. Потом вернулось, словно кто-то включил его обратно.
Он провёл пальцем по ленте, как по шраму.
– Так не бывает, – сказал он, и голос прозвучал нормально, но в нём было что-то чужое: не уверенность, а просьба.
Он посмотрел на руки.
На тыльной стороне левой ладони появилось пятно – светлое, чуть обесцвеченное, как от прикосновения сухого льда. Не ожог. Не синяк. Аккуратный круг размером с монету. Под кожей в центре пульсировало ощущение холодного тока, слабое, ледяное, как будто там лежала маленькая батарейка, которую забыли достать.
Он потрогал – пятно было чуть холоднее окружающей кожи.
Оператор сглотнул. В горле пересохло. Он попытался выдавить из себя простую фразу «да ну нафиг» – и понял, что не хочет говорить это вслух. Потому что если сказать, это станет реальностью.
Он налил воды, выпил залпом. Вода пахла железом. Он уронил стакан в раковину, и звон показался слишком громким. Ноги перестали быть его ногами, руки – его руками. Тело пыталось вернуть контроль через мелкие действия: протёр стол, проверил автоматы, перезапустил питание, открыл шкаф, закрыл шкаф. Смысл этих действий был один: если ты делаешь привычное, значит, мир привычный.
В журнале он написал то, что было безопасно писать:
«23:47. Кратковременный сбой питания. Причина не установлена. Системы стабильны».
Слова «стабильны» на бумаге смотрелись особенно нагло.
Ночью он не спал. Ходил по станции, как по клетке, и старался не смотреть в отражающие поверхности: в выключенные экраны, в окно коридора, в металлическую дверцу холодильника. Несколько раз всё же поймал себя на этом – и каждый раз сердце делало ненужный кульбит, хотя отражение было синхронным. Нормальным. Уставшим. Человеческим.
Но теперь он знал: нормальность – это не свойство мира. Это режим.
Через неделю он написал короткую служебную записку. Очень осторожно. Без слов «отражение». Про «аномалию самописца» и «локальное исчезновение поля». Его ответили стандартно: «провести профилактику, заменить кабель, исключить ошибки оператора». На бумаге всё выглядело как забота. В жизни это звучало как «не мешай».
Он подчинился. Потому что подчинение тоже было частью режима.
И пока он на станции учился быть тихим, мир внизу, в городах, учился быть удобным.
Сначала это было похоже на то, как болит зуб: вроде терпимо, вроде можно отвлечься, вроде «само пройдёт».
В супермаркете кассирша на секунду увидела, как тень покупателя на полу замирает чуть дольше, чем сам человек. Она моргнула, поправила бейджик и сделала вид, что не заметила. Она была не трусиха. Она была работник. У неё была смена и очередь. И да, у неё болела спина. Зуб тоже.
Таксист на перекрёстке услышал по радио свой голос – ту же фразу, которую он сказал пассажиру, но с задержкой, как эхо. Он выругался, выключил радио, списав на кривой приём, и тут же снова включил – потому что в тишине слышно мысли, а мысли обычно хуже.
Девушка в метро на отражающем стекле вагона на мгновение увидела не своё лицо, а чужое. Спокойное, бесцветное. Она вздрогнула, уставилась – и через секунду увидела себя. Поняла, что проехала станцию. Подумала: «Не выспалась». И добавила себе в заметки: «купить магний».
В офисе у парня на ноутбуке курсор на секунду «отстал» от руки. Он шутливо сказал коллеге: «Реальность лагает, надо рестарт». Коллега засмеялся и поставил чайник. И это было правильным – в смысле социально безопасным – ответом.
В интернете появились первые мемы. Не страшные. Заботливые. «Когда твоё отражение на удалёнке» – картинка с зеркалом, где лицо повернуто на миллиметр не туда. «Реальность просит обновление» – надпись на синем экране, от которого у поколения дрожит внутренность. Кто-то сделал наклейки «Не пугайся, это просто лаг» и клеил их на зеркала в лифтах. Психотерапевты – те, кто умеют ловить тренды носом – начали писать посты: «Если вам кажется, что мир стал странным, это нормально. Ваша нервная система устала. Берегите себя».
Удобная формулировка всегда побеждает неудобную правду. Потому что с формулировкой можно жить.
Официальные новости отреагировали аккуратно. Короткий сюжет на вечернем эфире: «Всплеск сообщений о сенсорных аномалиях». Улыбчивый ведущий сказал: «Специалисты связывают это с цифровой перегрузкой и сезонным электромагнитным фоном. Паники не оправданы». На фоне – графики, стрелочки, серьёзный инженер в очках, который говорил языком, похожим на мокрый песок: «в пределах допустимой погрешности». После этого под сюжетом появился хештег #СолнцеВиновато. Люди начали постить мемы про «разозлённое солнце, которое банит вай-фай».
Страх всегда легче переносится, когда его можно лайкнуть.
Прошло несколько недель. И в один день всё стало заметно сразу. Не постепенно. Не красиво. Просто случилось много. Как если бы мир решил, что шепота достаточно.
Этот день потом назовут по-разному. В частных чатах – «день таймеров». В закрытых совещаниях – «массовый инцидент». В новостях – «серия несчастных случаев». У всего были названия, которые позволяли не смотреть в самое простое: события были связаны.
Берлин, кафе на углу с террасой, где пахло кофе и сладким тестом. Солнце было таким, каким оно бывает в городах, где люди привыкли ходить пешком: не агрессивным, а уютно уверенным. Молодая женщина – обычная, в лёгком пальто, с телефоном на столе – сидела одна, листала ленту и пила капучино. У неё на тыльной стороне ладони вдруг вспыхнула синеватая геометрическая метка. Не больно. Скорее, холодно. Как прикосновение металлической ручки зимой. Она машинально потерла – и увидела, что кожа не краснеет, метка не стирается. Как будто она была не на коже, а под ней.
В воздухе над столом, между чашкой и её взглядом, проявились цифры.
00:14:59.
Цифры были не на экране. Ничего не светилось от устройства. Они висели в воздухе, как плохо закреплённый фильтр дополненной реальности. И всё равно – первой реакцией было не «это невозможно», а «кто-то издевается».
Парень за соседним столиком прыснул:
– О, круто. Скрытая реклама? – и поднял телефон, чтобы снять.
Бариста, вытирая стол, спросил, не нужна ли помощь, так как у женщины было лицо, как у человека, которому внезапно сказали, что кофе не будет. Она попыталась улыбнуться, потому что улыбка – это тоже режим. Сказала что-то вроде: «Да нет, всё нормально, наверное».
Таймер тикал. Каждую секунду цифры менялись. Женщина пыталась стереть метку салфеткой, потом ногтем, потом просто терла кожу до боли. Метка не реагировала. Секунды шли.
00:09:12.
Кто-то в комментариях на видео, которое уже успели выложить, написал: «Это точно перформанс». Кто-то добавил: «Где ссылка на мастер-класс». Кто-то – «не поддавайся, это маркетинг». И это выглядело почти мило. До тех пор, пока цифры не стали меньше минуты.
Женщина перестала улыбаться. Её дыхание стало коротким. Руки дрожали. Она поднялась, стул скрипнул, и этот звук был нормальным – настолько нормальным, что хотелось держаться за него. Она начала говорить – быстро, сбивчиво – что это не розыгрыш, что у неё на руке что-то, что она не понимает. Люди вокруг начали понимать, что она не играет. Некоторые отодвинулись. Кто-то, наоборот, подошёл ближе – потому что человеческое любопытство всегда сильнее чужого страха, пока оно не становится твоим.
Парень за соседним столиком, который снимал, сказал ей с раздражённой добротой:
– Расслабься. Это… ну, это розыгрыш. Там, наверное, проектор. Понимаешь? – он говорил это так, как говорят взрослые детям, чтобы ребёнок не плакал в очереди.
00:00:10.
В этот момент воздух вокруг её стола стал плотнее. Не видно, не слышно – почувствовалось кожей. Как если бы влажность стала другой. Как если бы пространство стало вязким. У людей вокруг на секунду заложило уши. Кто-то сделал шаг назад и сказал: «У меня давление».
00:00:03.
Женщина открыла рот, чтобы закричать – и не успела. Когда таймер показал ноль, не было взрыва, не было вспышки. Было схлопывание. Пространство в радиусе метра вокруг неё свернулось внутрь себя, как ткань, которую резко втянули. Бесшумно. Исчезла она. Исчез её стул. Исчез край стола. Исчезли ноги парня за соседним столиком – ровно до колен, аккуратно, как в плохой фокус. На плитке осталась идеальная полусфера отсутствия: гладкий обрыв, где дерево, металл и камень были «обрезаны» так ровно, как будто это сделал не человек, а алгоритм.
Тишина длилась долю секунды. Потом пришёл первый крик. Он был такой настоящий, что даже солнце стало казаться чужим.
Токио, офисный центр, открытое пространство, неон за стеклом, вечная усталость людей, которые живут по расписанию. В переговорке на стеклянной стене проявился таймер.
02:00:00.
Его увидели сразу двадцать человек. Здесь никто не смеялся. Здесь вызвали охрану, менеджера, техслужбу. Здесь люди умеют эвакуироваться. Они выстроились в коридоре, оставили в зоне кружки, куртки, ноутбуки – потому что вещи всегда кажутся важнее, пока ты не понимаешь, что важнее тебя. Таймер шёл. Кто-то пытался стереть цифры салфеткой. Кто-то – снять на видео. Кто-то – позвонил жене и сказал странную фразу: «У нас тут, кажется, ремонт в реальности».
За десять минут до конца переговорку окружили лентой. За пять – всех отвели дальше. За минуту – стояли уже у лифтов, как зрители, которым обещали зрелище и которым стыдно от этого.
Таймер дошёл до нуля.
Исчезла не люди. Исчезла переговорка. Точнее – пространство внутри отмеченного квадрата. Пять на пять метров. Оно свернулось в плоское зеркальное пятно на стене, как если бы комнату сложили в лист. На секунду это пятно блеснуло – не светом, а отсутствием глубины. Потом распалось, как ртуть, на серебристую пыль. Пыль осела на пол. В воздухе пахло статическим электричеством и чем-то холодным, как из морозилки.
Люди стояли молча. И это молчание было более страшным, чем крик. Потому что оно означало: мозг ещё не придумал, что сказать.
Москва, набережная, парк, морозный воздух, смех. Молодая пара гуляла, держась за руки. Парень что-то рассказывал, девушка смеялась, глаза у неё блестели, потому что у неё была нормальная жизнь и нормальная надежда. В воде их отражения дрожали от ветра. И в какой-то момент девушка увидела, что лицо парня в отражении не шевелится, когда он говорит. Оно осталось гладким, неподвижным, как чужая маска.
Она остановилась. Он остановился вместе с ней и спросил: «Ты чего?» – и это слово прозвучало нормально, а отражение в воде так и не двинулось.
На его куртке проявилось мокрое пятно – хотя дождя не было. Пятно расползлось и сложилось в геометрический узор. Девушка увидела над ним цифры.
00:03:00.
Он не видел. Он не чувствовал. Для него это было просто её странное лицо. Она начала в ужасе тереть пятно рукавом, как будто это можно стереть. Кричать не получалось – голос застрял где-то в горле, как комок. Он пытался отодвинуть её руки: «Да успокойся, ты что, что тебе привиделось?» – и это звучало так обидно и так человечески, что она почти поверила. Почти.
Люди вокруг начали оборачиваться. Кто-то подошёл. Кто-то сказал: «Эй, всё нормально?» – и это был тот же язык нормы, который мир использует, чтобы не допустить паники.
00:00:30.
Парень начал понимать по её глазам, что это не шутка. Он улыбнулся натянуто и сказал фразу, которая потом будет звучать в тысячах пересказов одинаково: «Всё хорошо. Это просто… галлю…» – он не договорил, потому что таймер дошёл до нуля.
Он не исчез вспышкой. Он начал распадаться на слои, как если бы его тело было стопкой прозрачных слайдов в редакторе. Сначала исчез цвет. Потом контуры. Потом масса. Слои разлетелись веером и растаяли в воздухе. Без крови. Без шума. Как вырезанная часть видео.
Остался его шарф. Он медленно упал на землю, и этот простой факт – падение ткани – был настолько нормальным, что девушка задохнулась от него. Она опустилась на колени. Пыталась вдохнуть. Не могла издать звук. Тело делало то, что делает всегда: дрожало, пока мозг не мог подобрать слова.
Сан-Паулу, студенческое общежитие, ночь, музыка, пот и смех. В комнате тусовка. На потолке появился таймер.
01:00:00.
Сначала все решили, что это часть светового шоу. Круто. Арт-объект. Кто-то включил сторис. Кто-то крикнул: «Снимай меня с таймером!» – и это было настолько по-человечески, что даже сейчас кажется невозможным, что дальше будет другое.
Таймер тикал, и вечеринка становилась ещё громче. Люди танцевали под цифрами. Целовались на их фоне. Подписывали видео: «Реальность глючит, но мы держимся». Ставили хештеги. Смех был как броня: если смеёшься, значит, ты хозяин.
За десять секунд до конца что-то изменилось. Музыка не выключилась – колонки продолжали работать. Но звук будто выдавило из пространства. Не в ушах – вокруг. Как если бы воздух стал другой плотности. Люди замирали, не понимая почему. Кто-то поднял руки, чтобы хлопнуть – и не хлопнул, потому что не было звука, а значит, не было подтверждения действия.
Таймер дошёл до нуля.
Исчезло не пространство. Исчезло время внутри зоны. Те пятнадцать человек, которые оказались под таймером ближе, чем остальные, замерли в позах: рука поднята, рот открыт, лицо повернуто, глаза моргнули – и остались на середине моргания. Они не падали. Их сердца не били. Но они не выглядели мёртвыми. Они выглядели выключенными. Как если бы кто-то нажал паузу, но забыл, где кнопка «плей».
Остальные закричали. И в этот раз крик был настолько громким, что даже звук, который до этого исчез, вернулся, как испуганный ребёнок.
В тот вечер по всему миру показывали новости. Ни одного репортажа, который связал бы эти случаи. Ни одного слова, которое признало бы общий узор. Только отдельные трагедии, аккуратно упакованные в разные коробки: «несчастный случай в кафе», «техногенная авария», «необъяснимая смерть», «массовое отравление». Язык для описания целого снова не был найден. Или – не был разрешён.
Потому что признать связь – значит признать, что это может случиться с тобой. А это уже не новость. Это конец режима.
Через сутки после «дня таймеров» в кабинетах пахло кофе, принтерами и страхом. Страх всегда пахнет одним и тем же – чистой бумагой. Он любит бумагу, потому что бумага умеет делать вид, что всё под контролем.
Редакции получали методички. Полиция получала шаблоны формулировок. Больницы – инструкции для психологов. Всё было очень заботливо: «не провоцировать панику», «избегать терминов, предполагающих связь», «классифицировать как несчастные случаи», «при подозрении на массовую истерию – направлять к специалистам».
В одной редакции молодая журналистка попыталась собрать карту событий. Поставила точки на экране, увидела линию и почувствовала, как у неё холодеют пальцы. Главред посмотрел на карту, потом на неё, потом на дверь, как человек, который оценивает, сколько проблем стоит правда.
– Ты хочешь быть умной или живой? – спросил он устало, без злости. – Умные у нас все. Живых меньше.
Он не угрожал. Он объяснял правила.
В соцсетях начали банить хештеги, которые связывали события. На их месте всплыли другие: #СолнцеВиновато, #СбойСети, #НеНакручивай. Появились «разоблачительные» статьи о «конспирологах», которые «нагнетают ради лайков». Эксперты в эфире улыбались и говорили: «Мы живём в эпоху цифровой усталости. Мозг ищет закономерности». Это было даже правдой. Только не той.
Через неделю у мира была версия. Версия – это то, что люди выбирают вместо неизвестности. Версия была удобной: «случайности», «теракты», «ошибки», «психологический фон». Версия позволяла вернуться на работу, платить ипотеку, смеяться над мемами и не смотреть в зеркала слишком пристально.
А оператор с северной станции уже не был оператором. Он уволился тихо. Не потому что хотел разоблачать. Потому что не мог больше слышать дизель и думать, что это просто дизель. Он переехал в деревню ближе к воде – потому что вода, какой бы странной ни стала реальность, всё ещё оставалась честной: она была холодной, мокрой и без комментариев.
Два месяца прошло с того первого сбоя. У него на руке пятно стало бледнее, будто уходило глубже под кожу. Иногда оно холодело сильнее – в дни, когда по новостям показывали очередной «несчастный случай» с идеально ровным обрывом стены или странной тишиной на записи. Иногда почти не ощущалось. Он перестал говорить о нём даже себе. Говорить – значит признавать. А признание требовало действий, а действий у него не было.
Вечером он сидел на кухне. Пахло жареным луком, дешёвым чаем и старым деревом. Телевизор на стене показывал ток-шоу: люди спорили о цене на бензин, о морали, о том, кто кому должен. Ведущий улыбался, как всегда, и говорил слово «стабильность» так часто, будто оно было заклинанием.
Оператор смотрел на экран и почти верил. Почти.
В тёмном окне кухни, между занавеской и стеклом, отражалась его фигура. Седые волосы, усталые плечи, чашка в руке. Отражение было синхронным. Нормальным. Как положено.
Он поднял руку с пятном и приложил ладонь к стеклу. Стекло было холодным. Рука – тоже. На секунду ему показалось, что по ту сторону холоднее. Не воздух – само «там», где должно быть только отражение.
Он отдёрнул руку так резко, что чашка звякнула о стол. В груди кольнуло. Он вдохнул и выдохнул, как учат на курсах «как справляться с тревогой». Смешно. Смешно до дрожи.
Он встал, закрыл штору, будто это могло закрыть что-то ещё, кроме окна. Вернулся к телевизору. Сделал звук громче. Ведущий говорил громче. Мир говорил громче. И это работало: громкость – тоже режим.
За окном ветер делал свою работу. Вода застывала и оттаивала. В деревне было спокойно, потому что деревня не умеет быть панической – у неё слишком много настоящих дел.
И всё же, когда оператор выключил телевизор и остался в тишине, он понял: тишина теперь другая. В ней есть ожидание. Как будто мир, однажды показав зубы, больше не обязан прятать их постоянно. Ему достаточно помнить, что ты знаешь.
Так мир пережил первое соприкосновение с иным. Не сражением и не открытием. Молчаливым, единодушным решением смотреть в сторону. Реальность сделала ход – показала, что может, когда захочет. Человечество ответило привычным движением: оно притворилось, что ничего не заметило. И этот договор о взаимной слепоте стал самой прочной основой для всего, что должно было случиться потом. Потому что хуже явной катастрофы – только катастрофа, в которую тебе велено не верить.
Глава 1 Отражения
Часть 1. Первый контакт с аномалиейМЕТРО
Вечер. Сергей стоял на платформе, вглядываясь в темнеющий туннель. В стеклянных панелях станции отражалась толпа – смутное, текучее пятно теней и бликов. Внезапно его взгляд зацепился за отражение молодого курьера с термосумкой.
Тот в реальности уже прошёл к скамейке, но его двойник в стекле всё ещё стоял на месте, чуть запоздав. На виске отражения проступил синеватый контур цифр: