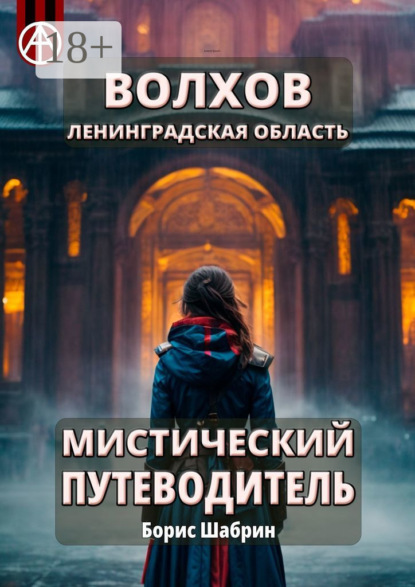- -
- 100%
- +
Лена наклонилась, потрогала слой перчаткой, потом, поколебавшись, сняла её и коснулась голой кожей – и тут же отдёрнула руку. Не от холода. Наоборот: камень был тёплый. Утром, в десять, после ночи, когда по траве ложился иней, хрустящий под ногами.
Борисов поймал себя на том, что задержал дыхание. Он вдохнул, прислушался к запахам: глина, влажная земля, дым… и – да, озон. Слабый, но отчётливый, как после грозы, когда молния ударила где-то рядом. Он поднял взгляд на лагерь: палатки, костёр, ведро с водой, моток верёвки, чья-то брошенная телогрейка. Всё – советское, привычное, тяжёлое. И на этом фоне – тёплый камень, которому неоткуда взяться, и озон, которому нечем пахнуть.
Он подошёл к георадару – громоздкой коробке на треноге, добытой через бумаги и акты с такой волокитой, будто это не прибор, а боеголовка. Оператором был сам Борисов: студентке не доверял, рабочих учить было поздно. Он посмотрел на кривую самописца, на скачущий график – и понял: под камнями есть полость. Чёткая. Геометрическая. Не трещина, не карст. Примерно двадцать на двадцать метров – ровно, как по линейке.
Лена подняла глаза. В них было то напряжение, которое не говорит словами: страх ещё не пришёл – только предчувствие.
– Профессор… – начала она, и голос прозвучал слишком громко в утренней тишине.
Он поднял ладонь, остановил. Сам сказал шёпотом – не из осторожности, а потому что громкий голос здесь казался неприличным, нарушающим чужую тишину.
– Это не наша история, – прошептал он, и слова повисли, как дым.
По затылку прошёл холодок – не от ветра: ветер дул в спину. Это был тот древний инстинкт, который не вытравить никаким образованием: внимание, здесь не так.
День шёл своим чередом, упрямо, как поезд по расписанию. Камни убирали, фиксировали, фотографировали на плёнку, мерили, записывали в дневники аккуратным почерком. Пыль забивалась под ногти, в рот, в складки одежды. Вечером Лена жаловалась на сухость в горле, Гриша плевался и говорил, что земля «не такая, липкая», а Борисов делал вид, что всё нормально: просто необычный курган, удача. Но приборы вели себя так, будто «нормально» здесь не существует.
Компасы крутились, словно не могли решить, где север. Дозиметры показывали не фон – ноль, как выключенные. Лена заметила: её кварцевые часы – редкость, подарок отца – отстают. Не рывками, а плавно: почти три секунды в час, будто время тут течёт чуть медленнее.
Она показала Борисову. Он сверил со своими механическими – и на секунду лицо у него сжалось, будто от кислого вкуса. Он не любил признавать, что есть явления, не помещающиеся в его картину мира.
Гриша вечером у костра, потягивая чай с настойкой, сказал, глядя в огонь, что по ночам тут светится земля – слабо, как гнилушка. Сказал так, будто уже хотел отступить, чтобы над ним не смеялись.
Борисов усмехнулся – сухо, устало, учёным щитом от «глупостей». Про бурые газы, фосфоресценцию, про то, что меньше бы пил… Но внутри он уже знал: не гнилушки. Не газы. Другое.
Он приказал: никому никуда не сообщать. Сначала поймём, что это. Слова звучали привычно – как у археолога, нашедшего важное и не желающего делиться до публикации. Но произнося их, он ощутил тяжесть в груди: будто не он контролирует ситуацию, а ситуация позволяет ему играть в контроль.
К вечеру расчистили центр. Там лежала плита – тяжёлая, но обработанная, не грубая. На поверхности – символы: не орнамент, не письмена. Схемы. Лена, сдвинув очки на лоб, сказала тихо, с изумлением:
– Похоже на электрические… чертежи. Но это же камнем по камню? Как?
Борисов провёл рукой по линиям. Камень был тёплый – и тепло держалось не как после солнца, а будто внутри была своя температура. Он убрал ладонь: кожа стала суше, натянулась, как пергамент.
– Снимем плиту, – сказал он и удивился собственной уверенности: будто уговаривал не Лену, а себя.
Буровую обещали привезти с соседнего геологоотряда. УГБ-50 – монстр на гусеницах, пожирающий солярку и выплёвывающий шум. Гриша скривился: не любил железо на раскопе. Но Борисов понимал: вручную плиту не поднять, а времени нет – экспедиция по плану заканчивается через две недели, и внутри у него уже росло ощущение: если не успеют – кто-то успеет за них. Военные. Другие институты. Или само время, которое засыплет всё обратно.
Ночь была мокрой и липкой. Туман стекал с гор и ложился на лагерь так плотно, что костёр казался единственной точкой реальности в белом молоке. Люди сидели вокруг, жевали кашу из котелков, пили чай, молчали. Борисов слушал, как Гриша, разогретый настойкой, рассказывает легенду – вроде бы для смеха, но с напряжением в голосе:
– Говорят, был тут каменный народ. Не люди. Из камня. Пришёл великий холод – они ушли под землю, взяли с собой всё. Двери оставили. Открываются раз в тысячу лет, когда звёзды встанут как надо.
Борисов хмыкнул, сделал глоток остывшего горького чая.
– Двери… – повторил он иронично. – Скажи ещё, ключи и замки.
Гриша пожал плечами, улыбнулся криво. Лена молчала. Она сидела, обхватив колени, и смотрела не на огонь, а в темноту за кругом света – в белую стену тумана, где ничего не видно. И Борисов заметил: губы поджаты, смеха нет. Она думает.
Позже, когда лагерь улёгся и затих, Лена вышла за водой – и замерла. В раскопе было светло. Не ярко – тускло, как слабое дыхание. Голубоватое свечение шло от земли, от плиты, и пульсировало – раз в двенадцать секунд, если считать по ударам сердца. Как дыхание. Как сердцебиение спящего гиганта.
Холод пробрал её через тонкую куртку поверх пижамы. Между лопаток пот стекал липко и холодно, хотя воздух был ледяной. Она разбудила Борисова почти грубо, трясла за плечо, не боясь показаться истеричкой.
Он вышел сонный, злой, с сухим ртом – и, увидев раскоп, будто лишился раздражения. Стоял и смотрел. Лицо стало пустым, как чистый лист.
Свечение было холодным и не грело – просто существовало, как факт. Борисов достал дневник, сел на пень и записал при свете фонарика, будто слова могут прибить реальность к бумаге. Писал медленно: рука дрожала не от возраста и не от холода.
Перед сном, уже в спальнике, он подумал мысль, слишком похожую на молитву – хотя молитвы он терпеть не мог.
Завтра будем бурить. Надеюсь, не разбудим что-то.
Утро началось не с солнца, а с тумана и хриплого рыка двигателя. УГБ-50 пришла по лесной дороге, ломая ветки, оставляя глубокие гусеничные следы. Из трубы валил чёрный дым, пахло соляркой и прогретым металлом. Буровик Петрович, ветеран с лицом, обветренным до кожаной жёсткости, вылез из кабины, потянулся, сплюнул.
– Профессор, – сказал он сразу, – тут грунт аномальный. То мягкий, как масло, то как алмаз. Бур такое не любит.
Борисов натянуто улыбнулся, изобразил уверенность.
– Бур всё любит, если руки нормальные.
Смирнов, инженер-геофизик, приехал вместе с буровой на уазике. Он говорил мало, но каждое слово было как цифра. Сразу расставил приборы: магнитометр, термометр глубокого погружения, ещё что-то сложное и важное. Всё это смотрелось тяжело и несовременно на фоне того, что лежало в земле – древнего, изящного, непонятного.
Бурение начали в шесть утра, когда туман висел так низко, что казалось – его можно собрать ладонью. Петрович опустил бур, двигатель завыл и перешёл в рёв. Земля отдавалась вибрацией в кости и зубы; в лагере дрожали кружки на столе. Лена стояла рядом, прижимая блокнот к груди, как щит, и чувствовала лёгкую тошноту – не от страха, от резонанса, от низкой дрожи, идущей снизу.
На глубине четырёх метров бур заклинило. Не с хрустом – просто встал, будто упёрся во что-то твёрже алмаза и непропускающее. Петрович выругался, дал назад, снова вперёд, увеличил обороты – без толку.
Смирнов смотрел на экран, и лицо его медленно бледнело.
– Скачок поля, – сказал он. – Резкий. Как будто…
Он замолчал: сравнения не было.
Из скважины пошёл тёплый воздух – не пар, не дым – просто тёплый, с резким озоном. И ещё что-то: металлический привкус во рту, как от батарейки. У Лены пересох язык, будто присыпанный песком.
– Под нами полость, – сказал Смирнов. – И она герметична. Как склеп. Или… бункер.
Слово «склеп» прозвучало слишком знакомо – и от этого стало страшнее.
Петрович решил «продавить».
– Щас, профессор, покажу, как надо, – сказал он и дал максимум.
Рёв стал животным. Земля дрожала так, что с палаток посыпалась ночная влага, кружки плясали. И эта дрожь будто складывалась во что-то – резонировала с тем, что было глубоко внизу. У Лены заныло в висках, стало давить на глаза, словно голову сжимают невидимыми пальцами.
И на долю секунды наступила тишина. Абсолютная. Как будто выключили звук мира. В ушах звенело от контраста.
Потом бур провалился в пустоту – как в колодец.
И раздался удар – глухой, мощный, снизу вверх, будто из-под земли ответили на вторжение. Под раскопом всё просело: не обвалилось – провалилось тяжело, как пол под грузом. Люди закричали – не словами, звуками. Кто-то бросился бежать, кто-то упал, схватившись за голову. Пыль взлетела стеной, забила глаза, рот, нос. Борисов кашлял так, будто лёгкие пытаются вырваться наружу. Лена прижимала ладони к лицу, чувствуя песок на зубах.
Когда пыль осела, в центре зиял провал – метров пять в диаметре. Края – рваные, грязные, человеческие. А внизу – ровное, идеальное, чужое.
Арка.
Высотой ровно три метра – позже Борисов измерит. Матовая чернота, похожая на обсидиан, но без бликов, поглощающая свет. Края настолько ровные, что взгляд не находил границы: где начинается одно и кончается другое. Ни швов, ни следов инструмента, ни эрозии. Как будто сделали вчера – но материал говорил о древности.
Борисов стоял у края и чувствовал, как дрожат руки. Сжал пальцы в кулак – стало только больнее.
– Верёвку, – сказал он хрипло.
Ему пытались возразить. Гриша кричал: «Да вы что, профессор!» Лена сказала: «Подождите…» Смирнов молчал, но по лицу было видно: он тоже не хочет в этот чёрный зев.
Борисов уже накидывал верёвку на сосну, вязал узел, проверял. Он не мог ждать. Ему нужно было знать.
Он спустился, медленно, ощущая, как сапоги скользят по осыпи, как камни сыплются вниз. Руки жгло трением даже через перчатки. Сердце било по рёбрам так громко, будто хотело выскочить и убежать. Внутри воздух был другой: сухой, чистый, без запаха земли и гнили – озон и мокрый камень после дождя, хотя дождя не было.
Он шагнул под арку.
Это была не пещера. Это было помещение: зал примерно пятнадцать на пятнадцать. Пол ровный, стены ровные, потолок ровный – идеальные углы, без отклонений. Материал тот же – матовый, чёрный, поглощающий свет; фонарь давал лишь глухое пятно, словно свет тонул в черноте. Ни пыли, ни паутины, ни корней, ни следов времени. Воздух стерильный до неприятности – першило в горле, как в операционной.
На дальней стене – панель: выпуклые символы, похожие на те, что были на плите, только здесь они будто выросли из материала. В центре – пьедестал с углублением под сферу, как будто там когда-то лежал шар.
Борисов оглянулся на вход: сверху падала косая пыльная полоса света – единственная нитка, связывающая его с «нормальным» миром.
Смирнов спустился следом – осторожно, как по тонкому льду. Лена – тоже: не выдержала неизвестности. Её колени дрожали, когда она ступила на пол зала. Под подошвами он ощущался гладким и чуть тёплым – не как камень, а как кожа живого, отдыхающего после долгого сна. От этого хотелось вытереть ноги.
Смирнов включил приборы. Дозиметр – ноль. Магнитометр дёрнулся и ушёл в край. Термометр – плюс восемнадцать, хотя наверху было плюс десять. Лена взглянула на часы и вдруг ощутила время вязким, тягучим: как будто секунды здесь длиннее. Она моргала реже, задерживала дыхание – боялась упустить деталь.
– Это… – начал Борисов и осёкся. Слов не было.
Лена подошла к панели ближе, чем следовало. Её тянуло, как тянет к оголённому высоковольтному проводу. Она протянула руку; пальцы дрожали. Хотела просто коснуться, почувствовать фактуру. Кончики пальцев едва скользнули по выпуклому символу.
Панель ожила.
Матовый чёрный под её пальцами на мгновение стал прозрачным, подсвеченным изнутри. По поверхности пробежала голубая сетка – не линиями, а волной, рябью, расходящейся от точки прикосновения до стен и потолка. Воздух загудел – не звуком, а вибрацией, настолько низкой, что её почувствовали кости и зубы. Она вошла в тело и заставила всё внутри сжаться.
И холод.
Из панели, из пола, из воздуха хлынул активный, всепроникающий холод, высасывающий тепло из всего. На металлических частях приборов мгновенно выступил иней. Дыхание стало густым паром. Лена вскрикнула и отдёрнула руку, но было поздно: холод уже бежал по венам, сковывал суставы. На пальцах выступили белые пятна, как при обморожении.
Сетка погасла, оставив слабое свечение в прожилках панели – медленный пульс. Гул стих, но вибрация осталась в самом полу: тихая, настойчивая, как сердцебиение того, что потревожили.
– Что ты наделала?! – прошипел Борисов. В голосе был не упрёк, а чистый животный ужас. Он смотрел на свои руки: пальцы плохо слушались. Фонарь тускнел – батарея сдавалась на глазах.
Смирнов дрожал, тыкал кнопки. Магнитометр захлебнулся цифрами. Термометр падал: минус пять… минус десять… минус двадцать… и ниже. Он поднял на Борисова глаза – не учёного, человека.
– Здесь не просто полость… – выдавил он. – Это система. И мы её… запустили.
Лена сжимала онемевшую руку, пытаясь разогнать кровь. Панель снова стала матовой, но теперь казалась выжидающей. Те символы, которых она коснулась, светились сильнее. И с леденящей ясностью она поняла: это был не чертёж. Это была инструкция. Или клавиатура. И она нажала первую клавишу.
Свет сверху, из провала, погас разом – будто выключили. Их фонари, уже слабые, утонули в густой тьме, которая, казалось, пожирала и звук. Дыхание стало слишком громким. Сердца – гулкими, как барабан.
– Наверх, – хрипло сказал Борисов. – Быстро.
Они бросились к верёвке. Ноги подворачивались на ровном полу, покрытом ледяной крошкой. Смирнов полез первым, цепляясь и скользя. Лена ждала, стоя спиной к темноте зала; ей казалось, что от панели на них смотрят – не глазами, самой пустотой.
Когда она уже хваталась за верёвку, пальцы едва слушались. Взгляд упал на пьедестал: в углублении стоял лёд – молочно-белый, мерцающий слабым голубым светом. И в глубине этого льда что-то шевельнулось. Тень. Или отражение. Или то, что начало формироваться из холода и памяти камня.
Последним лез Борисов. Он оглянулся вниз и увидел, как по стенам от панели поползли узоры инея – сложные геометрические решётки, не начертанные, а растущие, как морозные цветы. Холод был их средой, их языком, их жизнью.
Он вылез наверх – в серый туманный день, который вдруг показался тёплым и живым. Вокруг провала стояли бледные люди. Гриша крестился, шепча. Петрович тушил сорванную сигарету; руки у него тряслись.
Борисов отдышался, выпрямился, пытаясь вернуть маску контроля. Но он знал – и все знали: контроль утрачен. Они открыли не могилу. Они открыли дверь. И дверь начала открываться изнутри.
Он посмотрел на Лену – на побелевшие пальцы, на лицо с оцепеневшим ужасом и запретным интересом.
«Бетонная амнезия», – вдруг подумал он, глядя в чёрный провал. Память, залитая в камень, в лёд, в нечеловеческий материал. Память, которая не хочет вспоминать, но просыпается. И первое, что она вспомнила, – прикосновение человеческой руки.
– Никто никуда не уходит, – сказал он голосом, где не было ни уверенности, ни иронии – только тяжёлая решимость. – И никому ни слова. Пока не поймём, что мы разбудили.
А снизу уже тянул ровный стерильный холод, и лёд на пьедестале медленно рос.
Вертолёт пришёл на рассвете, нарушив тишину Урала не просто шумом – утверждением власти. Это был не Ми-2 и не грузовой Ми-8. Это был угловатый камуфлированный Ми-24 – «Крокодил», чей рёв вытряхивал из сосен влагу. Он пронёсся над лагерем, заставив брезент биться, и сел в полукилометре, подняв ураган хвои и земли.
Из него вышли не учёные. Вышли люди в одинаковых плащах поверх гражданского, но с выправкой, которую не спрячешь. Их было шестеро. Впереди шёл мужчина лет пятидесяти – полковник Уваров. Лицо – жёсткое, с чёткими скулами; глаза цвета мокрого шифера, в которых ничего не отражалось, кроме расчёта. Он не спешил, но каждый шаг был экономичным, как у хищника.
Борисов, не спавший всю ночь, вышел навстречу, собирая на лице достоинство. Протянул руку.
– Профессор Борисов, начальник экспедиции Института археологии. Кто я имею честь?
Уваров посмотрел на руку, потом на лицо Борисова и пожал кончиками пальцев – сухо и холодно.
– Полковник Уваров. Ваша экспедиция закрыта. Вы и ваш персонал будете эвакуированы в течение часа.
– На каком основании? – голос Борисова дрогнул от ярости. – У нас открытие мировой значимости! Древний комплекс, технология…
– Основание – статья семьдесят первая, – перебил Уваров ровно. – Объекты, представляющие интерес для государственной безопасности. Ваши рабочие уже едут в автозаке. Студентка и геофизик – в другом. Вам – место в «Волге». Прошу.
Это было не просьбой. Это было решением.
Борисов оглянулся. Лагерь и раскоп уже кишели солдатами: вытаскивали колья, сваливали оборудование в грузовики – без слов, с сокрушающей эффективностью, против которой бессильны аргументы.
– Мне нужно остаться! Хотя бы объяснить…
– Всё, что нужно, вы объясните в Москве, – сказал Уваров и впервые посмотрел прямо в провал. Глаза сузились на долю секунды. – А пока мы здесь разберёмся.
Разбирались две недели.
В зал спускались специалисты в защитных костюмах, похожих на скафандры, с жёлтыми знаками радиационной опасности – хотя дозиметры по-прежнему молчали. Привезли аппаратуру, от которой у Смирнова, наблюдавшего из-за оцепления, перехватывало дыхание: спектрографы, рентгеноструктурные анализаторы, ультразвуковые установки. Наука, которая обычно живёт в закрытых институтах, вышла в поле.
И проиграла.
Алмазные буры скользили по панели, не оставляя царапины. Лазерный резак выбрасывал искры, но луч рассеивался в сантиметре от матовой черноты – будто упирался в невидимую стену. Рентген давал абсолютную черноту: материал поглощал излучение полностью. Попытка подать десять тысяч вольт закончилась тем, что установка вышла из строя, а инженер три дня жаловался на мигрень и металлический привкус.
Единственным «успехом» стало подтверждение: система реагирует на присутствие человека. Раньше подходили по одному. Сканировали. Отступали. Теперь они впервые оказались рядом – разные, с несовпадающими профилями. Поле дрогнуло иначе: не проверка, а сопоставление.
Система не искала человека. Она искала конфигурацию.Не на каждого – но когда к панели приближался кто-то с определённым типом мозговой активности (учёный, инженер), прожилки начинали слабее светиться, а в воздухе возникала низкочастотная вибрация, от которой ныли зубы. Она будто пробовала их на вкус, сканировала – и отступала, не найдя нужного.
На пятый день в полевой лаборатории – армейской палатке – провели совещание. Борисова и Смирнова привезли под конвоем. Уваров сидел во главе стола, перед ним лежала тонкая папка.
– Выводы? – спросил он без предисловий.
Руководитель исследователей, учёный в очках, развёл руками. Его уверенность испарилась.
– Материал не поддаётся классификации. Не сплав, не керамика, не известный полимер. Атомная решётка… нестабильна: подстраивается под воздействие, нейтрализует его. Прочность – на порядки выше всего, что мы знаем. Возраст… – он запнулся, – по косвенным данным сопоставим с последним оледенением. Десятки тысяч лет.
– Назначение?
– Не знаем. Это не жилое помещение. Не храм. Не гробница. Это… интерфейс. Часть большой системы. Панель – устройство ввода. Углубление на пьедестале – возможно, место для ключа. Или питания.
– Система активна?
– В спящем фоновом режиме. Но реагирует. У нас нет способов её контролировать или предсказывать. Это «чёрный ящик» нечеловеческого происхождения и неясных намерений.
Уваров медленно кивнул, достал листок с грифом «Совершенно секретно», телеграфный текст.
– Из Москвы: «В условиях обострения международной обстановки и невозможности гарантировать контроль над объектом – признать неидентифицированной угрозой. Ликвидировать. Приказ не означал немедленного удара. Он означал ответственность.
Теперь любое решение – от выжидания до применения крайних мер – имело имя и подпись. И время начинало работать не на объект, а против тех, кто стоял рядом с ним. Метод – на усмотрение ответственного на месте».
В палатке повисла тишина.
– Ликвидировать? – хрипло переспросил Борисов. – Вы с ума сошли?! Это величайшее открытие!
– Оно может переписать нас самих, профессор, – холодно ответил Уваров. – Мы не понимаем, как это работает. Значит, оно может работать против нас. Лучше безопасное незнание, чем опасное знание. Варианты?
Инженер справа мрачно сказал:
– Тактический ядерный заряд. Глубина гарантированного поражения.
– Отклонено, – отрезал Уваров. – Последствия для геологии и политики непредсказуемы.
– Тогда физическая изоляция. Герметизация на века.
Решение приняли.
Операция получила кодовое название «Могила».
Сначала в зал опустили стальной щит, сваренный на месте из броневых листов: накрыть панель. Когда края коснулись пола, арка содрогнулась. Единый гул из глубин заставил согнуться даже солдат. Щит пришлось приваривать к самому полу – к материалу, который не брала ни одна сварка. Каким-то чудом под ливнем искр соединение получилось – не идеально, но достаточно.
Потом началась закачка. По толстым шлангам в провал хлынула серая густая масса – особый пенобетон с добавками жидкого стекла. Он заполнял зал, обтекал пьедестал и щит, вытеснял стерильный воздух. Борисову разрешили смотреть с края. Он видел, как серая жижа поднимается и медленно хоронит идеальное чужое помещение. На глазах не было слёз. Была пустота.
И в момент, когда бетон начал схватываться, скрывая уже почти всё, панель под щитом вспыхнула в последний раз.
Сквозь ещё полупрозрачную массу проступило свечение. Не карта – просто яростная голубовато-белая вспышка, как дуговая сварка, только холоднее. Она осветила изнутри весь бетонный массив, превратив его на секунду в уродливый янтарь, где застыло неведомое насекомое.
И погасла.
Гул оборвался так резко, что в ушах зазвенело. Тишина после была самой страшной: не природной – мёртвой.
Сверху залили ещё пять метров тяжёлого бетона. Потом – глина, грунт. Насыпали холм, сбросили дёрн, привезённый издалека, высадили молодые сосны. Через месяц здесь был обычный лесной бугор – ничем не примечательный. Только птицы не садились, звери обходили.
«Объект 741» перестал существовать.
Москва, здание на Лубянке, Архив №6. 1984 год.
Папка с номером 741 и грифом «ОВ» легла на полку в глубоком подземном хранилище. На корешке – пометка: «Хранить вечно. Не вскрывать. Категория: "Молчание"».
Внутри лежали:
– Отчёт полковника Уварова: «Объект нейтрализован. Доступ физически исключён. Аномальная активность прекращена. Рекомендую исключить все упоминания из отчётов смежных служб».
– Заключение комиссии: «Происхождение объекта – неземное или относящееся к неизвестной высокоразвитой працивилизации. Угроза – потенциальная, не поддающаяся оценке. Изоляция – адекватная мера».
– И на дне, на отдельном листке, приколотом скрепкой, записка химическим карандашом, 1991 год – при паничной попытке хоть как-то упорядочить архивы перед возможным рассекречиванием:
«При разборе дел категории "Молчание". К делу 741. Справка из Гидрометцентра, 1989 г.: сейсмические станции на Южном Урале фиксируют повторяющийся низкочастотный сигнал. Источник – район, соотносимый с бывшим "Объектом 741". Амплитуда незначительна, но стабильно растёт на 1.8—2.3% в год. Не похоже на техногенную активность. Рекомендована повторная проверка. Не проводилась. Подпись неразборчива.»
Наши дни. Спутниковый снимок, тепловизионный канал.
Зелёный массив леса – и на нём чёткое круглое жёлто-красное пятно. Температурная аномалия: +15°C против фоновых +5°C. Геологи безуспешно ищут признаки вулканизма или месторождения.
Ночь. Тот самый холм.
Снег вокруг растаял. Земля сухая, потрескавшаяся. Молодые сосны, посаженные сорок лет назад, стоят мёртвые – серые, как карандашные наброски на фоне живого леса.
И ровно раз в час, в начале каждого часа, из-под корней самой большой мёртвой сосны у подножия холма пробивается слабый голубоватый луч. На секунду-две бьёт вертикально в небо – и гаснет.
Не как сигнал бедствия.
Как пульс.
Как сердцебиение того, что засыпали, но не убили. Того, что помнит бетонную могилу, наглухо запечатавшую его цель. И того, что теперь, когда саркофаг медленно трескается от времени и собственного внутреннего давления, начинает вспоминать. Вспоминать свою миссию. Ждать. И готовиться к тому, кто придёт – чтобы завершить начатое или стать новой, последней жертвой во имя спасения знания.