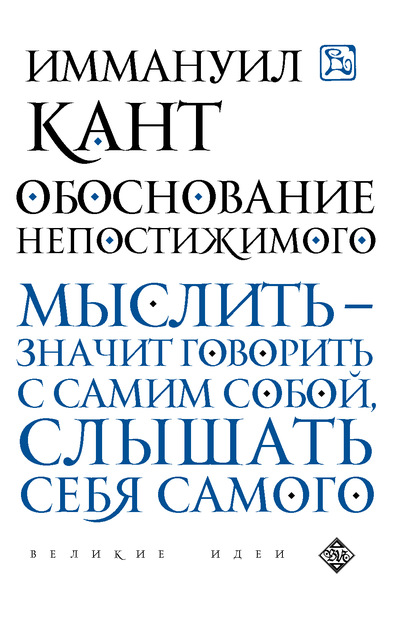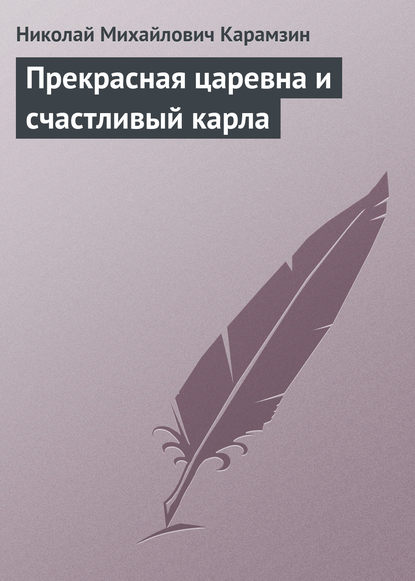- -
- 100%
- +
Келлер не ответил. Он смотрел, как точка бегает по картинке, и на секунду ему показалось, что это прицел.
София щёлкнула пультом. Вместо тепловой карты выскочил график: сложная волна, модуляция, пульсация, периодичность. Линия не была красивой, как синусоида, она была умной: меняла форму, как если бы «говорила», но не языком, а математикой. Под графиком стояло: 11 минут.
Келлер чуть прищурился. Внутри у него щёлкнуло что-то старое: периодичность – это дисциплина. Дисциплина бывает у людей и у машин. Лес не дисциплинирован.
– И это вы называете сигналом, – сказал он наконец. Слова были спокойные, но в них звенела едва заметная насмешка. – Хорошо. Предположим, он настоящий. Что дальше?
София не поспешила. Она любила момент, когда собеседник уже достаточно устал, чтобы перестать отмахиваться.
– Дальше… – она переключила окно.
На экране появились три изображения рядом: золото, бумага, грубая линия угля. Золотая пластина – инки, поверхность как кожа старого инструмента, тонкие насечки. Тибетский свиток – потемневшая ткань, на которой линии будто плавают. Славянский чертёж – грубо, углом, с пометками, словно рисовали в холодной избе на коленке.
София провела указкой по одному фрагменту на золотой пластине.
– Смотрите на эту группу линий, – сказала она.
Потом нажала ещё раз. И поверх трёх артефактов легла спектрограмма – современная, цифровая. Линии совпали. Не «похоже». Совпали с неприятной точностью: пики, провалы, ритм.
Келлер не поверил сразу – и именно поэтому его дыхание стало чуть глубже. Он почувствовал, как в груди появляется та самая тяжесть, которая приходит не от страха, а от понимания: если это правда, мир уже изменился, просто не все об этом знают.
– Доктор Рейнхардт, – сказал он, и в тоне стало больше металла. – Вы сейчас хотите убедить меня, что радио с Урала «говорит» на языке трёх исчезнувших культур?
Он произнёс это так, чтобы звучало идиотски. Чтобы другие в комнате тоже услышали абсурд и поддержали его улыбками. Но никто не улыбнулся. В полумраке у людей в таких местах улыбка всегда кажется ошибкой.
София посмотрела на него прямо.
– Это не язык, – сказала она. – Это подпись.
Келлер медленно наклонился вперёд. Подлокотники скрипнули едва слышно.
– Подпись чего?
– Системы, – ответила София. И добавила, уже тише, как будто слово могло активировать что-то само по себе: – Инфраструктуры.
Келлер сделал короткий вдох через нос. Воздух был холодный, и он почувствовал, как внутри носа щиплет. Он не любил слова вроде «инфраструктура» в контексте неизвестного. Они пахли не романтикой, а затратами и войной.
– Совпадение, – сказал он. – Радиофеномен. Утечка. Русские балуются.
– Совпадение на девяносто девять целых и семь десятых процента по четырём независимым параметрам не бывает, – спокойно ответила София. – Не в природе и не в статистике. Это сигнатура. Как отпечаток пальца у давно пропавшего близнеца нашей планеты.
Она произнесла «нашей планеты» без пафоса, как учёный говорит «образец».
Келлер хотел что-то бросить в ответ – резкое, чтобы вернуть контроль. Но в этот момент София запустила трёхмерную реконструкцию.
Экран потемнел, и в центре возникла сфера Земли в разрезе. Полупрозрачная мантия, ядро. И внутри – линии, толстые, как магистрали, уходящие от центра к поверхности. На поверхности вспыхнули восемь узлов: Урал, Тибет, Альпы, Анды, Гренландия, плато Путорана, Атлас, Австралия. Линии не напоминали тектонику. Они напоминали проект. Трассу. Сеть.
У Келлера в животе что-то дернулось – тот самый инстинкт, который в прошлом спасал ему жизнь: если ты видишь сеть, значит, кто-то когда-то планировал ходить там, где ты сейчас стоишь.
– Мы в рабочей документации обозначили это как «Земля-2», – сказала София, будто извиняясь за термин. – Или «Хранители». Название не важно.
Она не договорила «важно», потому что это было очевидно.
«Земля-2». Слово зависло в воздухе, холодное и неуместное, как прозвище для бога. Келлер смотрел на линии, пронизывающие сферу, и видел не археологию, не историю. Он видел логистику. Так выглядели схемы грузопотоков, которые он изучал в армии. Так выглядели карты нефтепроводов, за которые убивали. Разница была лишь в масштабе: здесь «труба» шла не через границы, а через мантию планеты. Его ум, отточенный на поиске уязвимостей, мгновенно начал работать: узел. Любая сеть имеет узлы. Узлы – это точки входа. Точки входа – это слабость или сила. Кто контролирует узел, тот контролирует поток. Он почувствовал знакомый привкус адреналина – не страха, а азарта охотника, нашедшего след зверя, в сравнении с которым все прежние цели были суррогатом.
Это не их реактор, – пронеслось у него. Это нечто, что сделало их реакторы детской игрушкой. И оно включилось.
Келлер молчал. Скепсис не исчез – он перестроился. В его глазах появилось то, что София видела в людях редко: холодный, расчётливый интерес, который не связан с красотой открытия.
Он видел не древность. Он видел энергию. Он видел преимущество. Он видел, как любая граница превращается в линию на бумаге.
– Окно? – спросил он, и голос стал короче.
– По динамике амплитуды – сорок восемь часов, – ответила София. – Потом мы можем потерять фазу. Или она сама…
– Мы не теряем, – оборвал Келлер.
Он встал так резко, что кресло поехало назад. В тишине зала этот звук был почти громким. Келлер подошёл ближе к экрану, будто хотел проверить, не пахнет ли изображение фальшью. Кожа на его руках была сухая, костяшки – плотные.
– Активировать группу «Костяной охотник», – сказал он, не глядя на подчинённых. – Полное оснащение. Протокол «Тихий сбор». Цель: проникновение, захват образца технологии, установка маяка. Окно – сорок восемь часов. Бюджет… одобрен.
Он сделал паузу и повернулся к Софии. Взгляд у него был неприятно спокойный.
– И, София… если это окажется российским секретным реактором – вы уволены. Если нет – вы получите свой остров.
Когда операционный зал наполнился тихими голосами отдающих приказы, Келлер не двинулся с места. Он продолжал смотреть на узел «Урал» на карте, теперь помеченный как цель «Альфа». Его пальцы непроизвольно постукивали по столу, отбивая ритм, который он помнил со времён Афганистана – ритм вертолётных лопастей перед высадкой в тылу врага. Тогда ставкой была жизнь взвода. Теперь ставкой была… он даже не мог определить. Власть над чем-то, что было древнее пирамид и опаснее ядерного чемоданчика. София, собирая планшет, бросила на него быстрый взгляд. Она увидела не директора, а солдата, который унюхал порох и уже мысленно проверил затвор. Он поймал её взгляд.
– Вы боитесь? – вдруг спросила она, нарушая неписаное правило не задавать личных вопросов.
Келлер медленно повернул голову.
– Боятся неудач, доктор. Я планирую успех. Убедитесь, что ваши данные не подведут. Всё остальное – моя работа.
Он вышел из зала, оставив её в кольце голубоватого света экранов, который теперь казался не просто освещением, а холодным сиянием самого объекта их желаний и страха.
София почувствовала, как у неё холодеют пальцы. Не от воздуха. От того, как быстро человек превращает неизвестное в сделку.
– Я не ищу остров, – сказала она.
– Ответы не приносят прибыль, – сухо бросил Келлер. – Приносит контроль.
Он задержал взгляд на узле «Урал», и в этот момент в операционном зале стало ясно: решение принято, и всё остальное – детали. Кто-то рядом тихо дотронулся до гарнитуры, шепнул «принято». Где-то в другом месте мира люди уже начали собирать оружие и оборудование, не задавая вопросов о «почему».
Москва ночью пахла мокрым асфальтом и поздним выхлопом. За окном кабинета майора Алексея Гордеева светились окна чужих квартир – маленькие прямоугольники жизни, к которой он не имел доступа даже когда был дома. На столе – папки, бумага, старый компьютер, который гудел вентилятором так, будто ему тоже было тяжело держать этот век на плечах. Рядом – кружка с чаем, остывшим давно. Чай пах железом – так бывает, когда он стоит слишком долго. Дело «Объект 741» было не просто папкой. Это был скелет, замурованный в стену ведомства. Гордеев, ещё будучи капитаном и имея диплом физика-ядерщика, впервые наткнулся на него в сводке рассекреченных материалов пять лет назад. Тогда его поразила не аномалия, а резолюция. «Залить свинцом и забыть» – эта фраза была написана размашистым, уверенным почерком генерала КГБ, человека, чья подпись отправляла людей в лагеря и закрывала города. Такую резолюцию ставили на проблемах, которые было дешевле похоронить, чем решить. С тех пор «Объект 741» стал его личным призраком. Он выписывал фамилии из состава комиссии 83-го года, отслеживал их судьбы. Трое вышли на пенсию и умерли в течение года после отчёта. Один – геолог Уваров – спился и пропал в Магадане. Совпадения? Возможно. Но Гордеев научился не верить в совпадения. Он верил в причинно-следственные связи, которые кто-то очень старательно подрезал под корень.
Гордеев был усталый настолько, что кожа под глазами стала тонкой, и сосуды проступали красными нитями. Он сидел, чуть сгорбившись, но спина всё равно держалась – привычка. В руке – распечатка скана дела: «Объект 741». Бумага шуршала тихо, но этот звук почему-то раздражал. Он переворачивал листы, как патологоанатом переворачивает ткани, – осторожно, но без уважения.
На одной странице – записка геолога Уварова. Почерк аккуратный, профессиональный: «Сигнал растёт. Бетон не держит. Просим разрешения на углублённое бурение…» Ниже – красная резолюция: «Залить свинцом и забыть. 15.11.1983».
Гордеев задержал взгляд на красном. Внутри у него поднялась злость – не громкая, не киношная. Тихая, вязкая. «Забыть» всегда означает «оставить проблему будущим». Он был этим будущим.
На ноутбуке что-то мигнуло. Он поднял глаза – и в этот момент усталость слетела, как если бы ему плеснули холодной водой в лицо.
Экстренное сообщение из Росгидромета. Карта. Аномальное тепловое пятно. И график частотного спектра.
Гордеев подался вперёд так резко, что стул скрипнул. Он почувствовал запах собственной кожи – горячей, нервной – и понял, что вспотел. Он открыл вложение, увеличил график, приблизил пик. Линия была сложной, с модуляцией, и всё равно – узнаваемой. Потому что он видел её раньше. На бумаге. В архиве.
Руки действовали быстрее, чем мысль: он открыл скан из дела 1983-го, наложил два изображения друг на друга. Кривые совпали почти идеально. Только новая линия была выше – как будто кто-то сорок лет держал мотор на холостых, а теперь резко дал газ.
У Гордеева пересохло во рту. Он сделал глоток чая – и тут же пожалел: чай был холодный и горький, и горечь только усилила реальность.
Он набрал номер ситуационного центра.
– Дежурный, – ответили сонно.
– Гордеев, – сказал он. – Мне нужен срочный созыв.
– Майор, ночь…
– Поднимайте генерала, – оборвал Гордеев. – Сейчас.
Он повесил трубку и несколько секунд смотрел на экран, будто боялся, что график исчезнет, если моргнуть. В голове, вместо монолога, шёл поток коротких мыслей, как команды: «Совпадение? Нет. Глубина. Амплитуда. Уваров. Бетон. Свинец. Не держит. Кто-то это трогал. Кто-то знает. Или никто уже не помнит».
Через сорок минут он стоял в затемнённой комнате, где большой экран показывал ту же картинку: тепловая карта, спектр, координаты. Люди вокруг двигались тихо, как в церкви. Генерал-лейтенант Семёнов сидел тяжело, лицо каменное, но пальцы подрагивали – не от страха, а от возраста и раздражения.
– Гордеев, – сказал Семёнов, глядя на экран так, будто тот ему надоел ещё до появления. – Объект 741 был ликвидирован. Это либо утечка с закрытого склада, либо старый кабель греется. Не трать моё время.
Гордеев почувствовал, как у него в животе сжалось. Он не мог позволить себе сорваться. Сорваться – значит проиграть.
Он заговорил ровно. Слишком ровно – как человек, который держит крышку на кипящей кастрюле.
– Товарищ генерал, сигнал 1983 года и сигнал сейчас совпадают, – сказал он. – Но мощность выросла на три порядка. Он идёт с глубины пятнадцать плюс километров. Ни одного нашего объекта там нет. Это не наше. Но оно проснулось на нашей территории.
Семёнов поднял брови.
– По каким данным глубина? – спросил он.
– По фазовому сдвигу и по сейсмическим откликам, – сказал Гордеев. – Проверено.
В комнате кто-то тихо кашлянул. Гордеев услышал, как скрипнуло кресло, когда один из офицеров переставил ногу. Мелочь. Но именно из таких мелочей складывается напряжение.
Семёнов провёл ладонью по лицу. На секунду он выглядел старше.
– Международный скандал, если полезем зря, – пробормотал он.
– Скандал будет в любом случае, – сказал Гордеев, и голос у него дрогнул на одном слове, но он удержал. – Вопрос – кто будет писать объяснительную. Мы или все остальные. Семёнов тяжело вздохнул. Он смотрел не на Гордеева, а куда-то в пространство за его плечом, будто видел там вереницу таких же майоров, приходивших с «сенсациями» и ломавших карьеру о стену бюрократии.
– Объяснительные… – пробормотал он. – Ты думаешь, я не понимаю? Я был моложе тебя, когда нам в Припяти сказали: «Это не ваше дело, товарищ капитан, тут специалисты работают». Специалисты… – он горько усмехнулся, и на секунду в его глазах мелькнула усталость не от службы, а от памяти. – Потом мы месяцы отмывали технику и людей. И писали объяснительные, почему вовремя не эвакуировали. Потому что ждали приказа сверху. – Генерал перевёл взгляд на Гордеева. – Ты хочешь приказа? Держи. Но если ты ошибаешься, то я не смогу тебя прикрыть. Потому что сверху мне скажут то же самое: «Зачем полез, где приказ?». И мы с тобой будем писать объяснительные уже вместе. Последние в жизни.
Помощник генерала подошёл и положил на стол распечатку: свежий снимок. На нём – тёмная полоса леса и маленькая точка.
– Квадроцикл, – сказал помощник. – Гражданский. Егерь.
Гордеев почувствовал, как у него внутри что-то холодеет. Скрытность рушится не от врагов, а от случайных людей.
Семёнов посмотрел на снимок, потом – на Гордеева. Взгляд стал тяжёлым, почти личным.
– Ладно, – сказал он. – Формируй «Группу Р». Минимальный состав. Твои люди. Пара учёных из «ящика». Задача: оценка и, в случае прямой угрозы – нейтрализация источника. Полная скрытность. Никаких следов.
Он поднялся, подошёл ближе и понизил голос так, что слова стали почти физическими, как дыхание у уха.
– Алексей, если это фейерверк – твоя карьера закончится в гарнизонной гауптвахте. Если нет… постарайся, чтобы это не стало концом всего.
Гордеев кивнул. Внутри у него не было героизма. Было чувство, что он только что подписал бумагу, которая может превратиться в приговор.
Он вышел в коридор, где пахло воском и старой краской, набрал номер.
– Подъём, – сказал он коротко. – Вылет через час. Без опозданий.
И в этот момент, далеко от Москвы, в лесу на Южном Урале, человек на квадроцикле уже стоял перед тем, что не вписывалось ни в одну инструкцию.
Дядя Миша ехал медленно. Квадроцикл подпрыгивал на корнях, фары выхватывали стволы деревьев и мокрые листья. Ночь была плотная, как ткань, и лес давил с боков. Миша держал руль крепко, но ладони потели, и перчатки внутри стали липкими. Он выругался себе под нос – не для смелости, а чтобы услышать человеческий звук.
Гул появился ещё до поляны. Сначала – едва заметный, как дальний поезд. Потом – плотнее, и Миша почувствовал его грудью, как давление. Он остановился метров за сто. Двигатель затих, и тишина ударила по ушам. В тишине гул стал отчётливее – низкий, монотонный, как работающий в земле мотор.
Миша не поехал ближе. Тело отказалось. Он слез, присел, взял фонарь, но не включил: свет здесь казался лишним, будто он мог привлечь внимание не людей.
Он пошёл пешком. Ноги вязли в мокрой траве. Сапоги чавкали, и этот звук был единственным нормальным в мире, который сейчас расползался.
Лес вокруг поляны был мёртв. Миша, прошедший по этим местам сорок лет, понял это не сразу, а потом – с леденящей ясностью. Не было слышно ни шороха мыши под валежником, ни писка летучей мыши, ни даже комариного звона у ушей. Собаки, которых он брал на охоту, начинали выть за километр до таких мест и упирались, как в стену. Звери чувствуют беду раньше людей. Они ушли. Остались только деревья – немые, застывшие стражи, чьи корни, должно быть, уже чувствовали холодную пустоту под собой. Воздух не колыхался. Даже ночной ветер, обычно пробивавшийся сквозь чащу, здесь замирал, словно упирался в невидимый купол над проклятым кругом. Была только трава – слишком яркая, слишком сочная для осени, будто её тянуло вверх не солнце, а тот самый сиреневый свет снизу.
Поляну он увидел сначала как пятно – светлее на фоне леса. Потом как форму. И только потом понял, что это не светлее, а иначе.
Провал был идеально круглый. Диаметр – метров пять. Края не осыпались. Они выглядели оплавленными, гладкими, как стекло, но матовыми. Изнутри шло слабое сиреневое свечение, которое не освещало поляну, а будто подсвечивало сам воздух у края. Гул здесь бил сильнее, и Миша почувствовал, как у него подрагивают зубы.
Он подошёл на шаг – и остановился. Живот сжался так, будто его ударили. Это был тот самый страх, который не требует причины. Он просто есть.
Миша поднял камень. Камень был холодный и мокрый. Он бросил его вниз.
Звука падения не было.
Никакого «тук». Никакого шороха. Просто исчезновение. И сиреневый свет на мгновение вспыхнул ярче – как ответ.
Миша отступил резко, почти споткнулся. Сердце билось так, что он слышал его в ушах. В горле пересохло, язык прилип к нёбу.
Он вытащил рацию. Пальцы дрожали так, что кнопка не сразу нажалась.
– Районное… – сказал он и запнулся, потому что слова не находились. – Тут… тут дыра в ад. И она светится.
На другом конце сначала молчали. Потом молодой голос, с ноткой раздражения:
– Дядя Миша, вы где? Вы что, пьян?
– Приезжай, – прохрипел Миша. – Сам увидишь. Только… – он хотел сказать «не подходи», но понял, что это звучит смешно. – Приезжай быстро.
Через двадцать минут УАЗик выкатился на поляну, фары ударили по деревьям, по траве, по сиреневому свечению. Молодой лейтенант вышел первым, застёгивая куртку на ходу. Он пытался держаться уверенно, но шаги у него были чуть быстрее, чем надо, а улыбка – слишком натянутая.
– Ну и что у нас тут, – сказал он, будто шёл на бытовуху. – Воронка? Метеорит? Дядя Миша, вы опять…
Он увидел провал и замолчал. Смех не вышел. Плечи у него чуть поднялись – тело само подготовилось к бегству, но ум ещё держался за форму.
Полицейский рядом посветил фонарём вниз. Луч упал в сиреневую пустоту и растворился.
– Ничего не видно, – сказал он, и голос у него стал тоньше.
Лейтенант подошёл ближе на два шага и остановился. Край был гладкий, и это его больше всего смутило: у природы так не бывает. Он попытался шутить:
– Может, это… канализация?
Шутка умерла, не родившись. Гул бил по груди, и у лейтенанта на секунду дрогнули ноздри, как у человека, который уловил запах пожара.
– МЧС, – сказал он коротко, уже без улыбки. – И… в часть.
К Мише подошёл другой полицейский, старше. Посмотрел на провал, потом – на Мишу.
– Ты зачем сюда полез? – спросил он тихо.
Миша не ответил сразу. Он смотрел на край провала и чувствовал, как ноги становятся ватными.
– Не знаю, – сказал он наконец. – Оно… как зовёт. Только не голосом. Вот тут. – Он постучал себя по груди, и звук вышел глухой.
Военные приехали почти под утро. Два «Урала» грохотали по лесной дороге так, будто лес пытались разбудить. Солдаты высыпали быстро, но без крика – по привычке. Командир роты, капитан, вышел сонный и злой, потому что его подняли ночью из-за «какой-то дыры». Он сделал пять шагов к поляне – и злость исчезла.
Он увидел круг. Увидел гладкий край. Услышал гул, который не был похож ни на технику, ни на природный шум. И сделал единственное, что мог, чтобы не показать страх:
– Оцепление, – сказал он. – Периметр. Никого не пускать. Доклад наверх.
Солдаты развернулись, натянули ленту, поставили фонари. Лента выглядела жалкой рядом с провалом. Но людям нужна была хотя бы иллюзия границы.
Миша стоял в стороне, руки в карманах, чтобы никто не видел, как дрожат пальцы. Лейтенант смотрел на военных с облегчением: ответственность ушла наверх. И это облегчение тоже было страхом, просто спрятанным.
Над лесом, на большой высоте, прошёл едва заметный блеск. Не самолёт – слишком тихо. Не звезда – слишком ровно. Он пролетел и исчез.
В Цюрихе Келлер увидел на экране тепловые следы машин у провала – маленькие огоньки на фоне холодного леса. Угол его рта дёрнулся.
– Русские уже на месте, – сказал он. – Ускоряемся. «Костяной охотник» выдвигается сейчас.
В Москве Гордеев получил сообщение: «Объект обнаружен местными. На месте военные. Утрачена скрытность». Он ударил кулаком по столу так, что кружка с чаем подпрыгнула и пролила тёмную лужу на папки. Запах мокрой бумаги ударил в нос.
– Чёрт, – сказал он и тут же заставил себя дышать ровно. – Готовь группу к вылету. Через час.
На поляне капитан говорил по рации, спина прямая, голос командный, но глаза время от времени косили на сиреневый круг, и каждый раз он сглатывал. Миша слушал гул и чувствовал, как у него немеют пальцы ног – не от холода, а от того, что земля под ними перестала быть просто землёй.
Ночь не закончилась. Она просто стала другой: в ней появилось то, что не должно было появиться. И теперь все – в Цюрихе, в Москве и в лесу – жили в одной новой реальности, где тишина могла оказаться сигналом, а земля – дверью.
Часть 2. ПриговорВалентина пришла в себя не сразу – не рывком, не с криком, а как будто кто-то медленно поднял заслонку в голове и впустил свет. Первое, что она ощутила, было не зрение и не слух, а поверхность под спиной: тёплая, чуть упругая, повторяющая изгибы тела с неприятной точностью, словно её уложили в форму для отливки. Она попыталась пошевелиться – и смогла, но движение шло с задержкой, будто мышцы вспомнили о себе на долю секунды позже.
Глаза открылись. Свет не бил. Свет был везде. Не лампы, не точки, не полосы – сама поверхность стен и потолка мягко светилась изнутри, как если бы в материале текла медленная, ровная жизнь. Стена напротив была не стеной в привычном смысле: она не имела углов, швов, стыков. Матовый перламутр, тёплый на вид, но без намёка на «домашность». Всё округлое, гладкое, стерильное. И узор – едва заметная сетка, пульсирующая где-то под поверхностью, как капилляры под кожей. Пульсация шла медленно, лениво, но от неё почему-то закладывало уши, как в самолёте, когда набираешь высоту.
Валентина втянула воздух. Никакого запаха. Ни сырости, ни пыли, ни металла. Только лёгкая ионизация – сухая, чистая, как после грозы, но без озона. Она сглотнула – горло было влажным, не пересохшим, и это пугало больше: кто-то уже позаботился о её физиологии.
– Эдвард… – вырвалось само.
Голос прозвучал глухо, будто его проглотила комната. Но не полностью. Где-то далеко, через толщу материала, пришёл ответ – приглушённый, искажённый, словно из-под воды:
– Валя?.. Ты где?..
Она резко села. Поверхность под ней подстроилась, подпружинила. Валентина почувствовала, как по коже на спине пробежали мурашки – не от холода, а от осознания, что её движение отмечено. Она оглянулась по кругу: камера была небольшой, примерно как лифт, но без дверей. Никаких щелей, никакой фурнитуры. Только гладкая перламутровая оболочка. Она ударила ладонью по стене. Звук вышел тупой и тут же пропал, как если бы материал не отражал, а ел вибрации. Ладонь отдёрнулась – стена была тёплая. Живая? Нет, не так. Не «живая». Скорее – поддерживающая температуру.
– Николай! Вероника! Надя! – Валентина повысила голос, и он всё равно звучал не громче, чем шёпот в подушку.
Слева донёсся всхлип – тонкий, сдавленный, не детский, но такой, который бывает у взрослого, когда у него заканчивается воздух.
– Я тут… – голос Надежды дрожал. – Я… не вижу вас…
– Мы рядом, – сказала Валентина и сама удивилась, как спокойно это прозвучало. Сердце в груди било часто, ладони были влажные, но слова выходили ровно. Это было не спокойствие. Это был профессиональный рефлекс: когда страшно, включай голову, иначе утонешь.
С другой стороны что-то глухо стукнуло, потом ещё раз. И короткая ругань – Стас. Его ругань всегда была громкой, спортивной, как удар по воздуху. Сейчас она звучала сдавленно, но смысл от этого не стал мягче.
– Где дверь?! – кричал он. – Эй! Это что за хрень?! Откройте!
Валентина закрыла глаза на секунду, как будто могла выключить картинку. Не помогло. Тепло стен и давление в ушах оставались.
Она снова открыла глаза – и в центре камеры, на уровне её глаз, воздух дрогнул. Не вспышка, не экран. Скорее – скопление света, как северное сияние, только без цвета – белёсое, прозрачное, как дым, который почему-то держит форму. Скопление вытянулось в объёмные символы. Не буквы. Спирали, орбитали, геометрические прогрессии, пересекающиеся линии, которые на мгновение складывались в знакомые научные образы – молекула, двойная спираль, круги, напоминающие схемы электронных оболочек. Потом распадались и снова собирались, как если бы кто-то листал внутри неё учебник, не спрашивая разрешения.