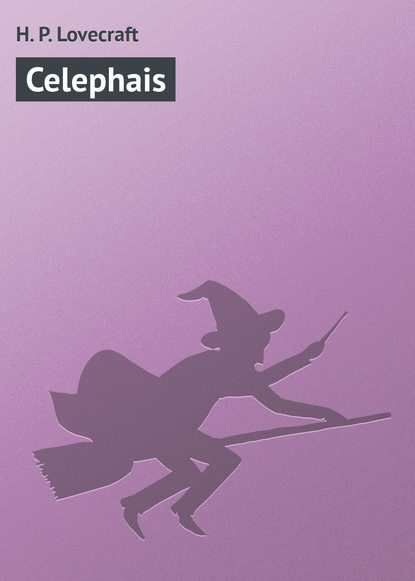- -
- 100%
- +
Глава 3. Легенда, ставшая явью.

Рисунок 5. Создано Ю. Верхолиным с использованием OpenAI ChatGPT (коммерческая лицензия).
Часть 1. АрхивНочь в уральском лесу была густой и липкой, как машинное масло: она не падала – она обволакивала. В пяти километрах от поляны, где земля выдохнула ледяным воздухом и погасила фонари, стояли три соединённых автопоезда. Со стороны – просто тёмные коробки среди деревьев, присыпанные мокрой хвоей, с маскировочными сетями и приглушёнными габаритами. Внутри – стерильный свет, кабели, сухое гудение кондиционеров и запах пластика, который никогда не бывает “чистым”, даже если его моют спиртом.
Командный центр «Феникс» жил отдельным временем: здесь не было рассветов и закатов – только смена экранов и усталость глаз. Основной зал был длинным, узким; проход между консолями похож на коридор самолёта. Люди сидели в наушниках, кто-то спал, уткнувшись лбом в ладони, кто-то пил воду из пластиковых стаканов, хрустящих при каждом сжатии. Воздух был спёртый, сухой, кондиционеры гоняли его по кругу, как мысль, от которой не избавиться.
Лео – молодой лингвист-дешифровщик – стоял у главного экрана так близко, будто боялся, что картинка убежит. Очки с толстыми линзами запотели от волнения, он то и дело снимал их, протирал футболкой и снова надевал, оставляя на стекле тонкие радужные разводы. Пальцы у него дрожали, но мышку он держал цепко, как хирург скальпель.
Экран делился на три вертикальные части.
Слева – золото, тёплое, тяжёлое, с царапинами времени: крупный план пластины инков. Свет от лампы давал контраст, и линии, выгравированные на металле, отбрасывали тени. Справа – тибетский свиток: волокна бумаги в макросъёмке выглядели как переплетение сухих нитей, в которых застрял пепел. В центре – береста, угловатая славянская прорисовка, будто кто-то вырезал её ногтем по живому дереву.
По каждому изображению бегали тонкие красные маркеры – там, где совпадали линии спектрограммы с тем, что Лео называл “узорами памяти”. Красный был не “сигнальный”, не “предупреждающий”. Он был кровавый – так подбирали цвет намеренно, чтобы не забывали: речь не о музейных экспонатах, а о чём-то, что умеет отвечать.
Лео кликнул по фрагменту на золотой пластине. Внизу всплыло окно: частоты, пики, подписи, цифры. Он сглотнул, и горло у него щёлкнуло громко – в тишине зала это прозвучало неприлично.
– Инки… – сказал он и попытался улыбнуться, но улыбка вышла кривой. – Это… не молитва. Тут… инструкция, завёрнутая в молитву.
Он прочитал вслух – не как актёр, а как человек, который боится ошибиться, потому что ошибка будет не академической.
– «И тогда Виракоча повелел избранным войти в Пуп Земли… где солнце спит в её каменных кишках, и питаться его тихим огнём…»
Кто-то сзади тихо прыснул – нервный смех, тут же задушенный. Лео дёрнул плечом, будто его ударили. Лео отвернулся от экрана, и вдруг перед глазами встало лицо профессора Маринова – сухое, скептическое, с вечной усмешкой в уголках губ. «Мальчик, – говорил тот ему на защите диплома, – вы ищете узоры в облаках. Мифы – это облака». Лео сжал кулаки. Теперь он держал в руках не облако, а чертёж. И от этого чертежа веяло таким холодом, что хотелось снова поверить в облака.
– Подожди, – сухо сказал Артур Мэллон, антрополог проекта, и приподнял подбородок. Усталые глаза, циничная складка у рта, щетина, которая делала его старше. – “Каменные кишки”. Понимаешь, что ты сейчас сказал?
– Это метафора, – отрезал Лео быстрее, чем следовало. Он ткнул пальцем в красные совпадения, как будто они были бронёй. – Но спектрограмма… совпадает. Не “похожа”. Совпадает.
София Рейнхардт стояла чуть в стороне, руки скрещены на груди, пальцы спрятаны под локти. Она не смотрела на Лео, она смотрела на экран так, как смотрят на рану – не отводя глаз, чтобы понять глубину. Её лицо было спокойным, но на скулах играла мышца: тонкое, почти незаметное напряжение.
– Дальше, – сказала она тихо.
Лео перевёл взгляд на правый экран, на тибетский свиток. Провёл мышью, выделил строку.
– Здесь… – он вдохнул, как перед прыжком. – «…Ваджра небесная ушла в лоно горы, дабы биться в унисон с сердцем мира, и её гул – песня вне времени…»
Кондиционеры зашуршали громче, будто зал тоже сделал вдох.
Артур хмыкнул, но не улыбнулся.
– “Оружие” у тибетцев. У инков – “энергия”. – Он провёл ногтем по краю стола, оставляя на чёрном стекле белую царапину. – Разные культуры, разные химеры. Третье что будет? Домик хоббитов?
Лео резко повернулся.
– Вы опять… – Он сжал мышку так, что костяшки побелели. – Но сигнал один! Он один. Он… как отпечаток. Смотрите!
Он нажал кнопку, и поверх всех трёх изображений на мгновение наложилась одна и та же спектрограмма с Урала – сложная, модулированная волна. Красные совпадения вспыхнули, как сосуды под кожей.
– А вот славяне, – Лео почти выплюнул слова, как доказательство. – «…Каменный народ, гонимый Великим Студом, ушёл под землю-матушку, да нашёл там Вечный Очаг. И стучит их молот по наковальне мира, слышен тем, кто ухо к земле приложит…»
На секунду зал стал слишком тихим. Даже клавиатуры перестали щёлкать. Кто-то перестал дышать.
София, не меняя позы, медленно перевела взгляд с одного экрана на другой. Три разных образа. Три разных языка. Три разных способа описать одну и ту же невозможную вещь.
Артур первым нарушил паузу – устало, почти лениво:
– Вот. “Убежище”. У инков – “питаться огнём”. У тибетцев – “ваджра”, инструмент. У славян – “очаг”, дом. Это не один миф. Это три разных воспоминания о чём-то слишком большом, чтобы его понять. Как слепые и слон. Один держит хобот, другой – ногу, третий – хвост.
Лео вспыхнул. Он сделал шаг к Артуру, и на секунду стало ясно: он бы ударил, если бы был не в очках и не в стерильном зале.
– Но… но совпадение! – Лео почти задыхался. – Девяносто девять целых семь! По четырём независимым параметрам! Это не “слон”! Это… это один организм!
– Это один сигнал, – вмешалась София, и её голос разрезал их спор без крика. Слова прозвучали мягко, но так, что они оба замолчали. – И вы оба правы.
Она разжала руки, подошла ближе к экрану. Тёплый свет мониторинга сделал её лицо чуть бледнее, глаза – темнее.
– Это не религия, – сказала она. – Это… техническое руководство, переданное примитивным культурам. Искажённое, переработанное в миф. Но в основе – факт.
Она подняла руку и указала на красный пик на спектрограмме, который совпадал у всех трёх артефактов.
– Контакт. Кто-то – или что-то – когда-то вышло на поверхность. Общалось. И оставило… инструкцию. Или предупреждение.
Лео тяжело сглотнул. Артур молча отступил на полшага, словно признал попадание.
София сделала паузу. В паузе слышалось, как кондиционер гонит воздух, как где-то вдали щёлкает крышка стакана, как кто-то нервно стучит пальцем по колену.
– И наш сигнал… – София опустила руку, будто он стал тяжёлым. – это не “песня”. Это маяк. Или сигнал тревоги. И мы, со своими спутниками и выстрелами, только что нажали на кнопку “Ответить”.
В этот момент дверь в зал открылась, и внутрь вошёл Маркус Келлер. Вход у него был всегда без суеты: он не спешил, но пространство само освобождалось. Снял перчатки, бросил на край консоли. Лицо со шрамами, как карта боёв, взгляд – сухой, фиксирующий.
Он не спросил “что у вас”. Он посмотрел на экран, на красные совпадения, и коротко сказал:
– Сколько времени?
– До… – Лео моргнул, будто не понял вопроса.
София ответила за него:
– До следующего пакета данных – одиннадцать минут. Пульс.
Келлер кивнул, как будто это была цифра из отчёта о погоде.
– Тогда мы не читаем мифы, – сказал он. – Мы читаем расписание.
И зал снова зажил, но уже иначе: не любопытством, а охотой.
В полукилометре от поляны блиндаж «Бункер» дышал сырой землёй. Он был выкопан быстро, наспех, укреплён брёвнами, обтянут плёнкой и покрыт сверху мхом, как шрам на коже леса. Внутри тесно: плечо к плечу, провода по полу, генератор за стеной гудит так, что вибрация идёт в зубы. Пахло мокрой глиной, потом, пластиком и дешёвым табаком – кто-то курил у входа, и дым цеплялся за одежду.
Гордеев сидел на складном стуле, который скрипел при каждом движении. Он не спал больше суток, и это было видно не только по красным глазам – по тому, как он держал голову: чуть наклонённой вперёд, будто шея устала поддерживать мысль. На столе перед ним стоял термос, но чай внутри давно остыл. Он пил воду из бутылки, и вода казалась металлической.
Профессор Смирнов стоял рядом с экраном, руки у него дрожали, но не от страха – от возбуждения, которое давало его старому телу странную молодость. Он показывал не график и не распечатку. На экране была трёхмерная томограмма – как УЗИ планеты. Слои Земли прозрачными кольцами, плотности подсвечены цветом, и где-то глубоко – точка. Яркая, пульсирующая. Не в коре. Не в мантии. Глубже. Там, где нормальный человек не думает о “глубине”, потому что мозг отказывается принимать цифры.
– Глубина… – Смирнов говорил, будто ему не хватало воздуха. – Две тысячи девятьсот… три тысячи километров, Алексей Викторович. Пограничный слой. Как если бы… в центре Земли бился искусственный пульс.
Гордеев смотрел на точку и чувствовал, как от её пульсации у него снова закладывает уши – даже здесь, в блиндаже, на расстоянии. Он потёр виски. Кожа была горячая.
– Любая наша скважина – царапина, – продолжал Смирнов, и голос у него сорвался на смех, но смех был пустой. – А это… это как если бы… вы нашли в своём сердце… чужой кардиостимулятор.
– Покажите модуляцию, – сказал Гордеев.
Смирнов торопливо переключил вид. Сигнал разложился на гармоники, полосы, пакеты. Ровные, структурированные. Как речь, которую невозможно понять, но нельзя назвать шумом.
– Видите? – Смирнов ткнул пальцем в экран так близко, что палец почти коснулся стекла. – Это пакеты данных. Не хаос. Передача информации. Но… кому? Или от кого?
Гордеев не ответил. Он уже набирал номер на защищённой линии. Пальцы у него были сухие, но телефон почему-то скользил, как мыло.
Голос генерала Семёнова пришёл сразу – без приветствий, без “как вы”. Голос был чужой, бюрократический, отстранённый, как если бы говорил не человек, а структура.
– Докладывайте.
Гордеев говорил сухо, отчётливо, как на защите диссертации, только в диссертации не пахнет землёй, и тебе не давит в уши неизвестная пульсация.
– Сигнал подтверждён тремя независимыми мобильными станциями. Источник – глубина порядка трёх тысяч километров. Фиксируем физическое воздействие в зоне: ускоренный разряд батарей, головные боли у личного состава, кратковременная дезориентация. Провал активен. Свечение нестабильное. Гул меняет тональность.
С другой стороны трубки была пауза. Гордеев слышал собственное дыхание. Слышал, как генератор за стеной даёт перебой. Слышал, как кто-то в углу блиндажа шепчет мат, глядя на экран.
– Ваши данные невероятны, – сказал генерал ровно. – Невероятны – значит, ложны. Проверьте оборудование. Возможно, помехи от наших же глушителей.
У Гордеева на секунду свело челюсть. Он почувствовал, как зубы сжались так сильно, что заныли. Он не позволил себе повысить голос – но каждое слово вышло как удар.
– Товарищ генерал, данные подтверждены. Это не помехи. И… это не наше. Но оно проснулось на нашей территории.
Снова пауза. Потом голос стал ещё холоднее. В этом холоде было решение, принятое не здесь и не сейчас.
– Ситуация ясна. Если источник не может быть идентифицирован и взят под контроль по стандартным протоколам, он классифицируется как потенциальная стратегическая угроза неизвестного происхождения. Готовьте протокол «Могила-2». Вы получите координаты для бурения и закладки специальных боеприпасов.
Смирнов побледнел, хотя генерал его не видел. Он понял слово “боеприпасы” так, как понимают физики: не “взорвём”, а “изменим геологию”.
– Товарищ генерал… – начал Гордеев, и это “товарищ” прозвучало как просьба.
– Вы меня услышали, майор, – отрезал голос. – Исполнение – ваше. Ответственность – тоже. Конец связи.
Гордеев медленно опустил трубку. Рука у него дрожала не от страха – от того, что внутри него столкнулись две машины: личная одержимость “Объектом 741” и государственная логика “не можем понять – уничтожим”. И государственная машина была тяжелее. Она раздавливала всё, что не вписывалось в протокол.
Он посмотрел на экран. На пульсирующую точку в самом сердце планеты. И вдруг почувствовал себя внутри той же системы, что и там, внизу, в стерильных камерах: он тоже был “образец”, которому задают параметры. Лояльность. Страх. Исполнение.
Смирнов осторожно сказал, будто боялся, что слова обрушат потолок:
– Алексей Викторович… если вы заложите… это… это может дать сейсмический отклик… по всему Уралу.
Гордеев кивнул, не глядя на него. Он потер переносицу. Кожа там была шершавой от усталости.
– Я знаю, – сказал он тихо. И добавил, почти без звука: – Но приказ есть приказ. Гордеев вышел из блиндажа, якобы проверить периметр. Холодный воздух ударил в лицо, но не прочистил голову. Он смотрел на тёмный лес, а видел не его, а лицо Стаса – не того, каким его нашли в пустой камере, а того, что смеялся у костра сутки назад. «Алёша, – говорил Стас, протягивая кружку, – вот закончим это дело, я тебе такой борщ сварю, мама не горюй». Гордеев резко сглотнул комок в горле. Приказ был приказом. Но борщ теперь варить было некому.
Снаружи генератор выдал новый рывок, и лампы на мгновение моргнули. В этой короткой темноте Гордеев увидел не блиндаж, а лица – Валентины, Эдварда, остальных. И пустую камеру Стаса. Он проглотил слюну. Горло пересохло, хотя он пил воду.
– Собирайте, – сказал он наконец, уже громче. – Подготовить расчёты. И… держите людей дальше от края. Не геройствовать.
Смирнов кивнул. Учёные зашевелились, зашуршали бумаги, кто-то поставил новый стакан на стол, и звук пластика прозвучал как щелчок спускового крючка.
В «Фениксе» был отсек, где даже кондиционеры работали тише. Изолированный, холодный, с отдельным питанием. Здесь не было походных стаканов на виду – их убирали, чтобы ничто не отвлекало взгляд от экрана видеосвязи. Свет был белее, резче. Воздух пах озоном от аппаратуры и чуть-чуть – металлом.
На стене висел большой экран. В Цюрихе было утро или вечер – не важно; в Цюрихе всегда выглядело так, будто там нет грязи. Там, на другом конце связи, лица были спокойнее. Голоса – ровнее. И именно это раздражало: они говорили об Урале так, как о биржевой котировке.
На экране появилась трёхмерная модель. Не просто сеть точек. Динамичная структура: сфера в центре и лучи-магистрали, уходящие к восьми узлам на поверхности. Потоки энергии обозначались золотыми линиями – условно, но эффектно: они циркулировали по схеме, как кровь по сосудам.
Голос аналитика из Цюриха был спокойным, почти мягким – как у человека, который привык говорить страшные вещи вежливо.
– Реконструкция на основе совпадений мифов и текущих данных. Катастрофа вынудила носителей технологии уйти под поверхность. Оптимизация. Возможно, отказ от привычных биологических ограничений. Цель – стабилизация планеты как системы. Сеть – жизнеобеспечение и инструмент управления геофизикой.
Слова звучали гладко. Келлер слушал, не двигаясь. Он стоял в полоборота к экрану, руки опущены, пальцы чуть согнуты, как у человека, готового в любой момент схватить горло. Его лицо было пустым, но глаза – не моргали.
Он задал первый вопрос так, будто спрашивал о слабом месте двери.
– Слабость? Где точка входа в систему? Не узлы на поверхности. Узлы защищены. Где панель управления?
На экране аналитик не сразу ответил. На секунду взгляд ушёл в сторону – он смотрел на свои данные.
– Гипотетическая точка контроля – центральная сфера, – сказал он. – Ядро. Место, откуда расходятся магистрали.
Келлер кивнул один раз, коротко.
– Второй вопрос, – сказал он. – Мощность. Оценочная энергоёмкость сети. В сравнении со всеми электростанциями Земли.
София, стоявшая рядом, заметно напряглась. Её пальцы сжались на планшете так, что побелели. Она понимала, что Келлер видит в этом не “науку”.
Аналитик ответил после короткой паузы:
– На несколько порядков выше всей современной энергогенерации человечества.
В отсеке стало слышно, как кто-то вдохнул. Один из операторов, крепкий мужчина с короткой стрижкой, непроизвольно облизнул губы – сухие. Другой поправил ремень на груди, будто он стал тяжелее.
Келлер медленно выдохнул. И в этом выдохе было не облегчение и не страх. Там был азарт. Холодный, чистый, как металл.
Он не сказал “спасибо” и не стал обсуждать риски.
– Конец связи, – коротко бросил он. Экран погас. Комната стала ещё холоднее.
Келлер повернулся к своим операторам. Шесть человек. Они смотрели на него так, как смотрят на командира перед операцией: ждут простых слов, которые превратят страх в действие.
– Цель миссии изменена, – сказал Келлер.
Ни один не шевельнулся, но у двоих дернулась челюсть. Келлер видел это. Он любил такие моменты: когда люди ещё думают, что могут отступить.
– Захват образца отменён, – продолжил он. – Новая цель – проникновение в Ядро и установление контроля над управляющим интерфейсом системы.
Он сделал паузу, чтобы слова улеглись не в головах – в позвоночнике.
– «Костяной охотник» переходит к фазе «Гефест». Силовое проникновение. Использовать любые средства, чтобы создать брешь. Найти “дверь”.
Кто-то из операторов хрипло спросил:
– Сэр… там… русские. И… – он не договорил, потому что слово “там” уже означало не людей, а провал, который гасит фонари.
Келлер посмотрел на него. Взгляд был спокойный. И от этого спокойствия хотелось сделать шаг назад.
– Русские – фактор, – сказал он. – Не цель. Цель – контроль.
Он чуть наклонился вперёд, как будто говорил доверительно, почти интимно:
– Мы играем не на захват базы. Мы играем на захват бога. Оператор Рикерс, обычно непробиваемый, машинально провёл большим пальцем по потёртому краю жетона в кармане – том самом, что дала ему дочь. «На удачу, папа». Удачу. Здесь, перед лицом того, что даже не имело лица, это слово повисло в воздухе пустым звуком, детским лепетом. Но он не убрал жетон. Просто сжал в кулаке, пока металл не впился в ладонь.
Слова упали в тишину, как гвоздь. Никто не улыбнулся. Никто не возразил. Потому что в этот момент каждый из них почувствовал: они уже не в миссии. Они в походе. В крестовом походе, где не будет места человеческим сомнениям.
София сделала шаг вперёд.
– Маркус, – сказала она, и в её голосе была сдержанная злость учёного, который видит, как его работа превращается в оружие. – Мы не знаем…
– Мы знаем достаточно, – перебил Келлер. Он не повысил голос. Он просто не оставил ей воздуха. – Достаточно, чтобы действовать.
Он посмотрел на дверь, будто уже видел за ней лес, провал, холодный воздух.
– Готовность – сейчас. – Келлер надел перчатки медленно, по пальцу, как ритуал. – И запомните: система не ведёт переговоров. Значит, переговоры ведём мы. С реальностью.
Вдалеке, за стенами «Феникса», уральский лес стоял чёрный, мокрый, равнодушный. Где-то под ним, в глубине, пульсировала точка на томограмме Смирнова. На поверхности две человеческие группы уже начинали расставлять свои фигуры на поле.
И никто из них – ни в блиндаже, ни в автопоездах – не мог почувствовать того, что чувствовала сама земля: как что-то древнее, не злобное и не доброе, просто точное, переводит их шум в параметры и готовит следующий протокол.
Часть 2. Ядро
Стена камеры Эдварда не щёлкнула замком и не разошлась створками. Она просто… перестала быть стеной. Матовая, тёплая поверхность перед его лицом потекла, как густой воск, но без запаха и без капли влажности, раздвинулась в гладкий прямоугольный проём – и застыла снова, будто всегда была дверью. Ухо, привыкшее ждать скрипа и удара металла, поймало лишь короткое изменение давления. В висках кольнуло. Как в самолёте, когда быстро набирают высоту.
Эдвард лежал на упругой подложке, которая ещё секунду назад повторяла каждую выемку его спины, как форма для отливки. Теперь она мягко “отпускала”, возвращая себе идеальную гладкость. Он поднялся на локти. Кожа на руках была сухая, холодная на ощупь, хотя внутри всё горело. Никаких синяков, никаких порезов – только неприятное чувство, будто кто-то вынул из его памяти кадр. Он помнил поле, гул, рывок, темноту. А дальше – пустота. Вырезанный фрагмент, как в испорченной плёнке.
В проёме стояли двое. Стражи. Обтекаемые силуэты, без швов, без креплений, без того, за что можно зацепиться взглядом и сказать себе: это броня, это ткань, это пластик. Их доспехи были продолжением того же перламутрового мира вокруг. Они не давили присутствием, не делали угрожающих жестов. Просто были, как два столба, которые решили стать людьми.
Эдвард поднялся рывком, слишком быстро – кровь ударила в голову, и на секунду комната качнулась. Он ухватился за стену пальцами, ожидая холода камня. Стена была тёплой. Не “тёплой от нагрева”, а тёплой, как кожа у живого. Под пальцами материал чуть-чуть ответил светом: узор, тонкий и сетчатый, на мгновение ожил, как капилляры, потом погас.
“Не думай. Дыши.” Он заставил воздух пройти в лёгкие. Воздух был стерильным, без запаха – и всё равно ощущался странно: будто в нём больше кислорода, чем положено. От этого кружилась голова.
Стражи не приблизились. Один сделал шаг назад и в сторону, открывая коридор. Приглашение. Приказ. Разницы не было.
Эдвард посмотрел на проём камеры напротив – там должна была быть Валентина. Стена была сплошная. Он ударил кулаком по ней, с силой, от которой в обычном мире ломают костяшки. Здесь звук ушёл внутрь материала, как в воду. Кулак отозвался тупой болью, но кожа осталась целой.
– Валя! – вырвалось у него, и голос прозвучал чужим, потому что помещение съело эхо.
Ответа не было. Только мягкий ровный гул из стен – постоянный, как работающий трансформатор.
Стражи ждали. Эдвард шагнул в коридор.
Путь был гладкий, чуть изогнутый, как будто весь комплекс избегал прямых углов. Он шёл босиком: обувь осталась там, наверху, вместе с привычным миром. Под ногами поверхность слегка пружинила, не скользила, не липла. И всё равно он чувствовал себя… незащищённым. Ноги улавливали вибрацию – едва заметную, но непрерывную. Словно под ними работал огромный механизм.
Стражи двигались по бокам, синхронно, без шума. Не маршировали – скользили. Эдвард ловил себя на том, что пытается услышать дыхание, стук шагов, скрип суставов. Ничего. Только его собственное дыхание и сухое биение сердца.
Коридор вывел к арке. Не к двери – к арке, как к переходу из одного мира в другой. За ней свет стал белее и просторнее. Эдвард шагнул – и остановился так резко, что Страж сзади едва заметно притормозил.
Перед ним открылась биосфера.
Не “пещера с подсветкой”. Не “зал”. Это было… небо под землёй. Огромный купол, уходящий вверх на такую высоту, что глаза не могли сразу собрать масштабы. Он стоял на круглой смотровой площадке, и под ним – внизу, далеко – лежал искусственный мир. Педантичный, выверенный, как макет, сделанный человеком, который ненавидит случайность.
Рощицы деревьев с серебристой листвой, как будто листья были не зелёными, а покрытыми тонким слоем металла. Ручьи – не извивающиеся, а текущие по геометрически правильным руслам. Поля симметричных, незнакомых злаков: ровные, как причесанные. Никакого ветра. Никаких насекомых. Никакого шороха.
В центре купола парила сфера – искусственное солнце. Белый свет, ровный, без тепла. Он освещал всё одинаково, не оставляя тени – и от этого пространство казалось ещё более плоским, ещё более “правильным”. Эдвард невольно поднял руку, ожидая ощутить тепло на коже. Ничего. Тепла не было. Только свет – как информация.
Рядом, на площадке, уже стояла Валентина.
Он увидел её спину и на секунду у него перехватило горло. Она была живая. Стояла, держась за перила обеими руками, будто только так могла удержать себя в реальности. Волосы спутаны, лицо бледное. Но глаза – большие, внимательные, как у человека, который смотрит на находку и одновременно понимает, что находка смотрит на него.
– Валя… – выдохнул он, и голос сорвался на шепот. Он сделал шаг к ней.
Она обернулась, и в этом движении было всё: облегчение, ужас, вопрос, который нельзя задавать вслух, потому что от ответа станет хуже.
Эдвард не выдержал, притянул её к себе, прижал. Она сначала застыла, как деревянная, потом резко вдохнула и вцепилась ему в плечо пальцами, будто боялась, что если отпустит – её снова вырежут из мира, как тот кадр из памяти.