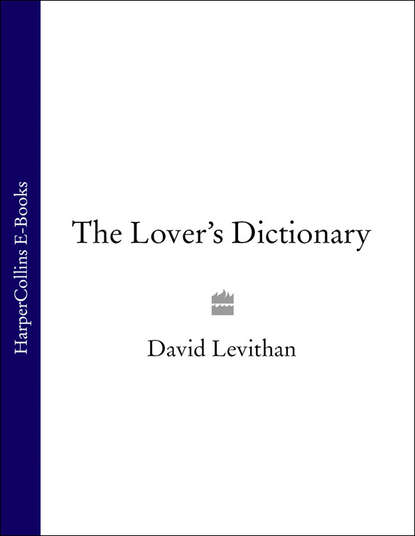Аглая: Ученица хозяина Мёртвой пряжи

- -
- 100%
- +
Остап был частью этого места, как станки или каменные стены. Он молча таскал тяжёлые чаны с едкими красителями, и пар, что клубился над ними, окутывал его фигуру, делая похожим на призрака из старых сказок. Он ни на кого не смотрел, ни с кем не говорил, и его безразличие пугало больше открытой вражды. В нём умерло всё, даже желание ненавидеть.
Напротив, Филимон кипел жизнью – гнусной, подлой, но кипучей. Он был здесь главным подлизой и наушником. С утра он вился вокруг Хозяина, заглядывая в глаза и ловя каждое слово, а после срывал зло на тех, кто слабее. Его излюбленной жертвой был Тихон – тихий, бледный юноша, чей талант вышивать шёлком и бисером был, казалось, единственной светлой вещью в этом проклятом месте.
Однажды за обедом Филимон, проходя мимо, «случайно» задел ногой скамью, на которой сидел Тихон. Тот качнулся, и его миска с горячей похлёбкой опрокинулась прямо ему на колени. Тихон вскрикнул от боли, по лицу его побежали слёзы – не столько от ожога, сколько от обиды и бессилия.
– Ох, прости, любезный, – пропел Филимон, скривив губы в мерзкой ухмылке. – Руки-то у тебя золотые, а вот сидишь ты как-то неуклюже. Надобно ровнее держаться.
Тихон лишь сжался, пытаясь незаметно утереть слёзы рукавом. И в этот миг я увидела, как Мрак, сидевший в дальнем конце стола и до этого точивший какое-то долото, медленно поднял голову. Он ничего не сказал. Он просто посмотрел на Филимона. И в этом взгляде было столько ледяной, обещающей расправу ярости, что подмастерье побледнел, сглотнул и торопливо шмыгнул на своё место. В Прядильне была своя стая, и даже такой шакал, как Филимон, знал, что вожака лучше не злить. Даже если этот вожак сам в ошейнике.
Сам Хозяин, Морок, правил этим змеиным гнездом с изяществом паука, плетущего свою паутину. Он появлялся в мастерской внезапно, ступая неслышно, и от его присутствия воздух густел и холодел. Он обладал хищной, обманчивой красотой, и голос его, вкрадчивый и бархатный, мог заставить поверить в любую ложь. Но главным его оружием было унижение. А главной его мишенью – собственный брат.
– Мрак, – мурлыкал он, проводя пальцем по ткани, которую только что обработал Мрак. Все в мастерской замирали. – Опять спешишь. Нить неровная. Ты будто дрова рубишь, а не судьбы сплетаешь. Неужто за столько веков ты так и не научился терпению? Впрочем, о чём это я… Терпение – добродетель. А откуда ей взяться у того, в ком нет души?
Мрак каменел лицом, лишь желваки перекатывались на скулах. Он молчал, низко склонив голову, и это молчание было страшнее любого крика. А Хозяин, насладившись его унижением, переводил свой ледяной взгляд на меня.
– А вот наша пташка Аглая старается, – его губы изгибались в подобии улыбки, от которой у меня по спине бежали мурашки. – Чувствуется рука, привыкшая к работе, а не к праздности. Может, тебе, Мрак, поучиться у юной девы? Глядишь, и в тебе проснётся что-то, кроме звериной злобы.
Я опускала глаза, чувствуя, как щёки заливает краска стыда и страха. Похвала Морока была ядом, и я это нутром чуяла. Каждый раз, когда он хвалил меня, он вонзал в Мрака ещё один невидимый нож.
Именно Мрак взялся меня учить ткачеству. Вернее, не учить, а вбивать науку силой и уничижительными придирками. Он поставил меня к огромному станку, где нужно было вплетать мёртвую пряжу в основу из обычного льна.
– Не так, – рыкнул он, когда нить в моих руках в очередной раз оборвалась с сухим, злым щелчком. – Ты её тянешь, будто вожжи. Она ласки требует, дура.
Он шагнул ко мне, встал за спиной так близко, что я ощутила исходящий от него жар, пахнущий лесом, железом и чем-то ещё, диким и первобытным. Его дыхание опалило кожу на шее, заставив волоски встать дыбом. Сердце споткнулось и забилось часто-часто, как пойманная в силки птаха. Его руки накрыли мои, и я вздрогнула от неожиданности. Пальцы у него были сильные, жёсткие, в застарелых мозолях и шрамах, но прикосновение их обожгло, будто клеймом.
– Чувствуй, – его голос стал ниже, с хрипотцой, и горячее дыхание коснулось моего уха, отчего по всему телу пробежала предательская дрожь. – Не глазами смотри, а кожей чувствуй. Нить должна скользить, как змея. Вот так. Веди её, но не принуждай. Она сама ляжет, куда надобно.
Он вёл моими руками, и под его властным, но точным нажимом у меня впервые получилось провести челнок так, как нужно. Нить легла ровно, впиваясь в основу и будто бы замирая. Я затаила дыхание. Под его жёсткой хваткой, направляющей мои кисти, я вдруг ощутила едва заметную, лёгкую дрожь, которую он тщательно пытался скрыть. Он учил меня, а сам, казалось, едва держался, чтобы не сделать что-то иное – не коснуться моих волос, не вдохнуть глубже запах моего тела, который, должно быть, смешивался с запахом пряжи. Эта догадка обожгла сильнее его прикосновения.
– Поняла? – коротко бросил он, отступая на шаг и обрывая это мучительное наваждение.
– Кажись… – прошептала я, боясь пошевелиться и спугнуть только что обретённое умение.
– Не кажись, а делай. И не смей отвлекаться. Ещё одна ошибка – и будешь до утра сидеть.
Он отошёл к своему верстаку, а я ещё долго чувствовала жар его ладоней на своих руках и слышала в ушах его хриплый шёпот. И злилась. На него – за грубость и эту сводящую с ума близость. На себя – за предательскую дрожь в коленях и непрошеные мысли.
По ночам Прядильня жила своей, тайной жизнью. Когда гасили последние лучины, из тёмных углов, из-за тяжёлых гобеленов доносились странные звуки. Не скрип старых половиц, не шорох мышей. Это было похоже на тихий, вкрадчивый шёпот, на шелест сухих листьев, на скольжение чего-то бесплотного по каменному полу. В первую ночь я с головой укрылась тонким одеялом, дрожа от страха. Но потом усталость брала своё, и я проваливалась в тяжёлый сон без сновидений.
Еды вечно не хватало. Желудок сводило от голода, и я часто вспоминала матушкины пироги с капустой, её наваристые щи… Здесь же даже хлеб имел привкус пыли и отчаяния. Однажды вечером, сидя в своей крохотной каморке под самой крышей, я доедала свою убогую вечерю. Осталась лишь твёрдая, как камень, краюшка. Грызть её уже не было сил, а выбрасывать хлеб матушка строго-настрого запрещала. Я повертела её в руках и, недолго думая, положила на широкий подоконник. «Может, птаха какая склюёт утром», – подумала я и, обессиленная, рухнула на жёсткую койку.
Утром меня разбудил не колокол, а настойчивый стук в оконное стекло. Я села, протирая глаза. За окном никого не было. Наверное, ветка… Я уже хотела встать, как мой взгляд упал на подоконник.
Краюшки хлеба там не было.
А на её месте лежал маленький, гладкий, идеально круглый речной камешек серого цвета.
Я замерла. Осторожно протянула руку и взяла его. Камешек был прохладным и тяжёлым. Я оглядела каморку. Дверь заперта изнутри на крюк. Окно высоко, под самой крышей. Никто не мог сюда войти. Никто не мог подменить хлеб на камень. Я поднесла его к глазам. Обычный голыш, какие тысячами лежат на дне любой реки. Но кто?.. И зачем?..
Я спрятала камешек в свой узелок с вещами, рядом с тряпичной куколкой-обережницей от матушки. От него не исходило ни тепла, ни холода, но мне почему-то показалось, что это знак. Недобрый или хороший – я не знала. Но в этом месте, где всё было пропитано злом и безнадёгой, любая загадка была лучше давящей, удушливой ясности.
Днём случилось ещё одно. Хозяин велел мне вышить узор на воротнике его новой рубахи. Нити выдал сам – тончайшие, серебряные, что светились в полумраке, как лунный свет. Работа была кропотливая, требующая всего внимания. Я сидела, склонившись над пяльцами, стараясь, чтобы каждый стежок был идеальным.
Мрак проходил мимо, направляясь к своему верстаку. Он бросил мимолётный взгляд на мою работу и остановился, заслонив слабый свет из окна.
– Слишком туго затягиваешь, – пророкотал он у меня над головой.
– Мне велели, чтобы было крепко, – не поднимая глаз, ответила я.
– Тебе велели вышить узор, а не удавку. Ослабь нить. Иначе она высосет цвет из ткани. И из тебя заодно.
Я упрямо вскинула подбородок, встречаясь с его ледяным взглядом.
– Вы мой наставник, Мрак, или просто любите всем указывать?
В глазах его что-то полыхнуло – не то злость, не то что-то иное, чего я не смогла разобрать. Он наклонился, и его лицо оказалось так близко к моему, что я увидела крохотный, почти незаметный шрам у виска, белеющий на загорелой коже.
– Я здесь дольше всех, девчонка, – прошипел он так тихо, что никто, кроме меня, не мог его услышать. – И знаю одно: Хозяин любит красоту. Но ещё больше он любит смотреть, как она умирает. Не давай ему лишнего повода любоваться твоим увяданием. Поняла?
Он выпрямился и, не дожидаясь ответа, зашагал прочь, оставив меня в полном смятении. Его слова были жестоки, но впервые в них не было унижения. В них звучало… предостережение.
Весь оставшийся день я думала об этом. О его словах. О странном камешке на подоконнике. О ночных шорохах. Паутина, в которую я попала, оказалась куда сложнее и запутаннее, чем я думала. Здесь были не только паук и мухи. Здесь были и другие тени, другие законы, которые мне предстояло разгадать, чтобы выжить.
Вечером, когда я вернулась в свою каморку, меня ждал ещё один сюрприз. На том же подоконнике, где утром лежал камешек, теперь красовалась маленькая, пузатая кринка, прикрытая чистой тряпицей. Я с опаской подошла, сняла тряпицу. В кринке было молоко. Настоящее, парное, с густыми жёлтыми сливками сверху. Его запах ударил в нос, вызвав голодное урчание в животе.
Сердце заколотилось. Это уже не случайность. Кто-то… что-то… заботилось обо мне. Но кто? В этом доме, где каждый готов вцепиться другому в глотку, кто мог принести мне молоко? Дарина, сломленная и безразличная? Весняна, что боится собственной тени? Тихон, который сам нуждался в защите? Или…
Мои мысли метнулись к угрюмой фигуре Мрака. К его странному предостережению. Неужели это он? Нет, не может быть. Зачем ему это? Чтобы я дольше прожила и больше мучилась? Или чтобы…
Я отогнала эту мысль. Она была слишком опасной. Я взяла кринку. Молоко было ещё тёплым. Я сделала один глоток, потом второй, третий… Оно было таким вкусным, таким живым, что слёзы сами навернулись на глаза.
Допив, я поставила пустую кринку на подоконник, рядом с речным камешком. И прежде чем лечь спать, я прошептала в темноту, в пустоту, в никуда:
– Благодарю.
Ответа не было. Лишь за стеной что-то тихонько скрипнуло, будто старый дед одобрительно крякнул во сне. И впервые за много дней я уснула без страха, крепко сжимая в кулаке гладкий речной голыш, не зная, что невидимый хранитель этого дома, древний дух Дед Житный, впервые за долгое время улыбнулся в свою бороду из сухих колосьев, почуяв в новой обитательнице не жертву, а ту, что сможет однажды вернуть свет в его осквернённое жилище. Но это была лишь одна нить в запутанном клубке. А на следующий день Хозяин Морок, заметив мой посвежевший вид и блеск в глазах, подозвал меня к себе, и его улыбка стала острее, а взгляд – голоднее. Игра только начиналась.
ГЛАВА 5. ШЁПОТ ТЕНЕЙ
(От лица Аглаи)
Сны в этой усадьбе были такими же, как и всё остальное – вымороченными, тяжёлыми и липкими, как паутина в заброшенном погребе. Они не приносили отдыха, а лишь глубже затягивали в трясину этого проклятого места, высасывая последние крохи сил. Но сон, пришедший ко мне на исходе первой седмицы, был иным. Он был не липким, а острым и холодным, как осколок льда, впившийся под самую кожу.
Всё началось с безмолвия и ослепительной белизны. Бескрайнее снежное поле под низким, свинцовым небом, тяжёлым, как могильная плита. Вокруг – чёрные, костлявые пальцы деревьев, устремлённые ввысь, словно в немой мольбе. Воздух был так холоден, что, казалось, звенел. Я не чувствовала своего тела, я была лишь взглядом, парящим над этим мёртвым, бездыханным пейзажем. А потом я её увидела.
Девушка. Она бежала через поле, и её алое платье было кричащим, невозможным пятном на этой белизне, словно кто-то пролил на чистый холст свежую кровь. Платье из дорогого, тяжёлого бархата, совершенно неуместное в заснеженном лесу, – такое носят боярышни на праздники, а не девки, спасающиеся бегством. Огненно-рыжие волосы, рассыпавшиеся по плечам, горели, как живой костёр. Она то и дело оглядывалась, и на её бледном, усыпанном веснушками лице застыл чистый, первобытный ужас.
Она бежала, отчаянно, спотыкаясь и по колено проваливаясь в глубокий, пушистый снег, который больше походил на саван. Её дыхание вырывалось изо рта белыми облачками пара, тут же таявшими. Я не слышала её криков, но я их чувствовала – беззвучную дрожь паники, сотрясавшую сам воздух, пропитавшую его горечью и безысходностью.
А за ней гнались тени.
Они не были людьми или зверями. Они были сгустками мрака, бесформенными, перетекающими по снегу, как пролитые чернила. Они не оставляли следов, но сама их близость заставляла снег вокруг них чернеть и таять, обнажая мёрзлую землю, словно под ними дышала сама Навь. Они двигались бесшумно, неумолимо, и от них веяло могильным холодом, который пробирал до самых костей, даже меня, бесплотного наблюдателя.
Девушка споткнулась. Упала лицом в снег. На миг замерла, а потом попыталась подняться, скребя наст окоченевшими пальцами. Алое платье разметалось по белому, как огромный, раненый мак. Одна из теней метнулась вперёд, вытянулась, коснулась её…
И она закричала.
На этот раз я услышала. Крик был нечеловеческий, полный такой боли и отчаяния, что, казалось, само небо должно было треснуть. Он оборвался так же внезапно, как и начался. Тени сомкнулись над ней, скрыв алое пятно. А когда они рассеялись, отступив обратно в лес, на снегу не осталось ничего. Только её кровь. Тёмная, почти чёрная, она впитывалась в белизну, расходясь уродливыми, рваными узорами.
Я проснулась от собственного сдавленного всхлипа. Сердце колотилось о рёбра, как пойманная птица. Я рывком села на своей жёсткой лежанке, вся в холодном поту, сбрасывая с себя тонкое, колючее одеяло. В светёлке было темно и холодно, но озноб, сотрясавший меня, шёл изнутри. Я поднесла руку к горлу, чувствуя, как там до сих пор першит от беззвучного крика.
Сон. Это был всего лишь сон.
Но он был реальнее серой, давящей действительности. Я видела всё так ясно, будто сама бежала по тому снегу, что поблёскивал под холодной луной, как россыпь битых стёкол. Чувствовала, как острые ветви рвали на мне тонкую ткань алого платья. Слышала за спиной не бег, а тягучий, вязкий шёпот множества голосов, сливающихся в единый голодный вой – шёпот теней, жаждущих тепла живой плоти. И я знала, что бегу не за спасением. Я бежала к своей гибели, оттягивая неизбежное.
Я обхватила себя руками, пытаясь унять дрожь. В крохотное оконце под самым потолком едва сочился бледный, предрассветный свет, серый и безжизненный, как глаза Дарины. Здесь, в Прядильне Морока, даже рассветы были больными и выцветшими. Мысль о Яруне, горячая и острая, как игла, вонзилась в самое сердце, отгоняя остатки липкого сна. Я здесь ради него. Ради матери. Этот дом – моя плата за их жизнь. И я выдержу. Я должна.
Мастерская встретила меня привычным утренним гулом. Мерно постукивали станки, жужжали веретёна, пахло овечьей шерстью, едкими красителями и чем-то ещё, неуловимо-тревожным, от чего всегда сосало под ложечкой – запахом самой магии, тёмной и хищной.
Дарина уже сидела за своим станком, её тонкие пальцы порхали над нитями с механической точностью, но взгляд был устремлён в пустоту. Она походила на прекрасную куклу, из которой вынули душу. Весняна, напротив, суетилась, напевая себе под нос какую-то незамысловатую песенку. Её веселье всегда казалось мне лихорадочным, надтреснутым, словно она до смерти боялась замолчать и остаться наедине с тишиной и собственными мыслями.
– Гляди-ка, наша пташка ранняя проснулась, – раздался за спиной елейный голос Филимона. Он возник из ниоткуда, как всегда, скользкий и приторный. – С каждым днём всё краше становишься. Хозяин не нахвалится на твоё усердие.
Он попытался коснуться моей косы, но я резко отстранилась, смерив его холодным взглядом. Его заискивающая улыбка на миг дрогнула, а в бегающих глазках мелькнула злоба.
– Дикарка, – прошипел он так, чтобы слышала только я, и тут же отошёл к Тихону, который от его появления съёжился, словно побитый щенок. – А ты чего копаешься, недотёпа? Думаешь, нить сама себя в иголку вденет?
Тихон вздрогнул, уронив крохотную бисеринку. Та со звонким стуком покатилась по дощатому полу. Филимон расплылся в гадкой усмешке, готовясь продолжить свои издевательства, но тут в дальнем углу мастерской что-то тяжело грохнуло.
Взгляды всех невольно обратились туда. У огромных чанов с краской, от которых шёл едкий пар, стоял Остап. Он молча, без единого слова, опустил на пол тяжёлое деревянное ведро. Грохот был таким оглушительным и внезапным, что все, включая Филимона, замерли. Остап даже не посмотрел в нашу сторону. Он просто выпрямился, зачерпнул из чана очередную порцию ткани и с безразличным видом продолжил свою работу. Но я поняла – этот грохот был для Филимона. Молчаливое, но веское предупреждение. Подмастерье, сглотнув, растерял весь свой боевой задор и, бросив на Тихона последний злобный взгляд, поспешил ретироваться.
Мой взгляд метнулся в другой угол, туда, где всегда царила тень. Мрак. Он стоял, прислонившись плечом к стене, и чинил какой-то кожаный ремень. Он не проронил ни слова, не сделал ни единого движения, но я кожей чувствовала его присутствие. Он видел всё. И его неподвижность была красноречивее любых слов. Его глаза цвета замёрзшего озера на миг встретились с моими. В них не было ни сочувствия, ни злости – лишь привычная глухая тоска и холод, от которого мой ночной кошмар показался тёплым воспоминанием. Он будто говорил мне этим взглядом: «Видишь? Это твоя жизнь на ближайший год. Привыкай». Я упрямо вздёрнула подбородок и отвернулась первой.
Мне поручили разобрать мотки шёлковых нитей, доставленных накануне. Работа кропотливая, требующая терпения. Я устроилась в стороне от всех, у окна, выходившего во внутренний двор. Пальцы быстро забегали, распутывая тончайшие паутинки, а мысли снова и снова возвращались ко сну. Рыжая девушка, алое платье, снег и кровь…
Неожиданно у подола моего платья что-то завозилось. Я вздрогнула и опустила глаза. У моих ног сидел Шмыг. Юркий хорёк, единственный, кажется, друг Мрака, смотрел на меня умными чёрными бусинками глаз, подёргивая носом. В зубах он держал… идеально смотанный клубочек алой шёлковой нити. Точь-в-точь такой, какой я безуспешно пыталась распутать последние полчаса. Зверёк деловито положил клубок мне на колени, фыркнул, словно требуя похвалы, и тут же юркнул под стеллаж.
Я оглянулась. Мрак всё так же стоял в своём углу, но теперь он смотрел прямо на меня. Его пальцы, сжимавшие нож, замерли. На каменном лице не дрогнул ни один мускул, но я увидела, как в глубине его ледяных глаз полыхнула искра… раздражения? Смущения? Он был зол, что его пронырливый фамильяр проявил ко мне такое внимание. Я невольно улыбнулась краешком губ, пряча лицо за мотками нитей.
В этот момент под самой потолочной балкой раздался тихий, гортанный звук. Я подняла голову. Там, в полумраке, сидел огромный иссиня-чёрный ворон – Теневой. Он склонил голову набок, и его неестественно умный глаз-агат взирал на меня с молчаливым, тяжёлым укором. Словно осуждал и Шмыга за его легкомыслие, и меня – за то, что посмела улыбнуться в этом доме скорби. Ворон тихо кашлянул, расправил громадное крыло и беззвучно растаял в тенях. От его взгляда по спине снова пробежал холодок. Эти двое – юркий плут и мрачный мудрец – были точным отражением своего хозяина.
После обеда меня послали на склад за новой партией льняных ниток. Филимон отдал приказ с особой, ехидной любезностью, которая всегда предвещала какую-нибудь пакость. Склад представлял собой огромное, гулкое помещение. Здесь было холодно, пахло пылью, сухими травами и мышами. Свет сюда почти не проникал, и в дальних углах царил непроглядный мрак.
Я шла вдоль стеллажей, ёжась от холода и неприятного чувства, что за мной наблюдают. Каждый шорох, каждый скрип старых половиц отдавался в нервах. Я нашла нужные мотки и уже собиралась уходить, как вдруг услышала тихий звук. Он доносился из самого дальнего, тёмного угла, заваленного старыми мешками. Сдавленный всхлип. Кто-то плакал. Тихо, отчаянно, пытаясь заглушить рыдания.
Сердце ухнуло. Моей первой мыслью было – развернуться и уйти. Не видеть, не слышать, не знать. Но я не смогла. Я поставила мотки на пол и пошла на звук.
За грудой мешков, свернувшись калачиком на полу, сидела Весняна. Она обхватила себя руками и тряслась всем телом. Её лицо было спрятано в коленях, а плечи содрогались от беззвучных рыданий. Её показная весёлость, её звенящий, как треснувший колокольчик, смех – всё слетело, обнажив лишь маленький, перепуганный комок чистого ужаса.
– Весняна? – шёпотом позвала я.
Она вздрогнула, резко вскинула голову. Её глаза, заплаканные, покрасневшие, были полны такого животного страха, что у меня мороз пошёл по коже. Увидев меня, она отшатнулась, вжимаясь в стену.
– Уходи! – прошипела она.
– Что случилось? – я говорила тихо. – Филимон обидел? Или…
И тут её прорвало. Она вскочила на ноги, глядя на меня сверху вниз горящими, безумными глазами.
– Помочь? – выплюнула она. – Ты?! Думаешь, ты особенная? Думаешь, пришла сюда, и всё будет по-другому? Глупая! Такая же глупая, как я была! Как все мы были! Не лезь! Слышишь меня? Не лезь не в своё дело! Хочешь выжить здесь – никого не жалей и ни с кем не говори. Здесь каждый сам за себя. Поняла?
Её слова хлестнули меня, как пощёчина.
– Здесь нет друзей, – продолжала шептать она, озираясь по сторонам. – Здесь есть только Он и его глаза. Он всё видит. Всё слышит. Любая доброта – это петля, которую он с радостью затянет на твоей шее. Пожалеешь кого-то – и он сделает его своей мишенью. Подружишься с кем-то – и он заставит тебя предать. Это его любимая игра. Ты видела Дарину? Думаешь, она всегда была такой? Она была самой весёлой из нас. Смеялась громче всех. А потом… потом он просто сломал её. На глазах у всех. За то, что она дала лишнюю краюшку хлеба одной девчонке… той, что была до тебя.
У меня перехватило дыхание. Краюшка хлеба.
– Так что уходи. Оставь меня. И забудь, что ты меня здесь видела. Если хочешь дожить до зимы.
– Но мы же… мы же все в одной лодке, – растерянно пролепетала я.
– В одной? – она горько усмехнулась. – Мы в одной мышеловке. И когда придёт время, Хозяин выберет ту, что пожирнее. А остальные будут молча смотреть и радоваться, что сегодня выбрали не их. Жалость здесь – непозволительная роскошь. Она убивает быстрее любого яда.
Её слова, произнесённые горячим, сбивчивым шёпотом, полоснули по душе.
– Я… я видела сон, – сама не зная почему, вырвалось у меня. – Страшный сон.
Весняна замерла.
– Про девушку? В алом платье? – её шёпот был едва слышен.
Я ошеломлённо кивнула. Откуда она знает?
Лицо Весняны исказилось. Она оттолкнула меня с такой силой, что я едва не упала.
– Молчи! – зашипела она, как змея. – Никогда. Никому. Не говори об этом. Забудь! Слышишь, забудь, если жить хочешь!
С этими словами она вскочила и, спотыкаясь, выбежала из кладовой, оставив меня одну в звенящей тишине и полумраке. Теперь я знала точно: мой кошмар был не просто игрой воображения. Он был частью этого проклятого места.
Я медленно подняла с пола свои мотки. Руки двигались, как чужие. Я бросила последний взгляд на съёжившийся в углу комочек отчаяния и пошла к выходу.
На пороге склада чуть не столкнулась с Мраком.
Он стоял, прислонившись к косяку, заложив руки в карманы. Я не слышала, как он подошёл. Сколько он здесь стоял? Видел ли он? Слышал?
Его лицо было, как всегда, непроницаемым. Но в глубине его тёмных глаз я на миг уловила что-то… знакомое. Ту же усталую, глухую боль, что я видела в своём сне. Он не смотрел на меня. Его взгляд был устремлён в тёмную глубину склада, туда, где плакала Весняна. Он ничего не сказал. Просто шагнул в сторону, давая мне дорогу.
Я прошла мимо, не смея поднять на него глаз, чувствуя себя так, словно меня застали за чем-то постыдным. И уже в коридоре, за спиной, я услышала его тихий, лишённый всяких эмоций голос, обращённый не ко мне, а в пустоту:
– Я же говорил тебе убираться.
Это было не обвинение. Не упрёк. Это была констатация факта. Холодная, безжалостная и окончательная, как удар молота по наковальне.
Вернувшись в мастерскую, я старалась не смотреть в сторону Весняны. Она уже сидела на своём месте, снова что-то напевала и даже пыталась улыбаться, но руки её дрожали так сильно, что она то и дело роняла иглу.
Весь оставшийся день я работала как в тумане. Слова Весняны – «здесь каждый сам за себя» – стучали в висках. Но я не могла, не хотела в это верить.