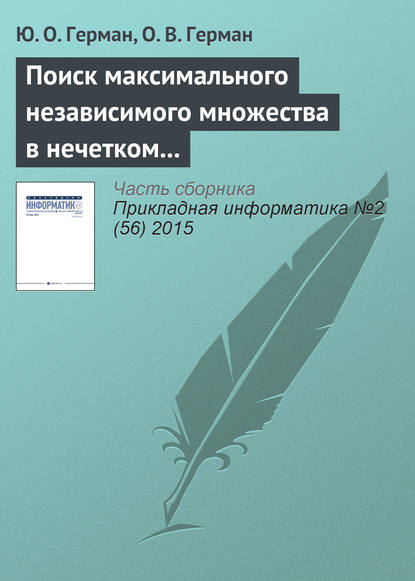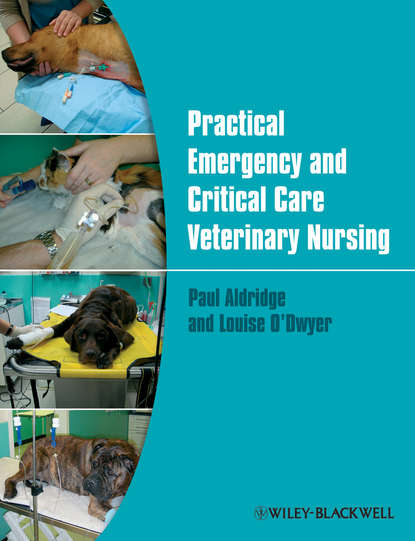Аглая: Ученица хозяина Мёртвой пряжи

- -
- 100%
- +
Вечером, когда работа была окончена, я, проходя мимо своего рабочего места, заметила нечто странное. На краю стола, где я днём оставила недоеденную краюшку хлеба, её не было. А вместо неё лежал маленький, гладкий речной камешек, тёмно-серый, с белой прожилкой, похожей на молнию. Он был на удивление тёплым, словно его долго грели в руках.
Я огляделась. В мастерской почти никого не осталось. Я осторожно взяла камешек. От него исходило едва уловимое, спокойное тепло. Вспомнила матушкины сказки про Деда Житного, духа-хранителя. Я оставила краюшку, не думая ни о чём, просто по старой привычке. А он… он ответил. В этом логове, пропитанном тёмной магией, нашёлся кто-то, кто не желал мне зла. Я крепко сжала камешек в ладони и спрятала его в карман платья. Это будет мой маленький секрет. Мой оберег.
После ужина, когда остальные разошлись, я задержалась в опустевшем зале, чтобы забрать свои инструменты. В камине догорали поленья, отбрасывая на стены пляшущие, причудливые тени. Вдруг одна из теней отделилась от стены и шагнула мне навстречу. Я отпрянула, прижав руку к бешено колотящемуся сердцу.
Это был Морок.
Он двигался бесшумно, как хищник. Его серебристые волосы отливали пламенем в свете камина, а глаза цвета зимнего неба смотрели насмешливо и изучающе. От него веяло холодом и силой, такой древней и могущественной, что хотелось съёжиться, стать незаметной и исчезнуть.
– Трудишься не покладая рук, моя прилежная ученица, – его голос был подобен шёлку, скользящему по коже, но под этой мягкостью скрывалась сталь. – Я доволен тобой, Аглая. Весьма доволен. В тебе есть… искра. То, чего нет в других.
Он подошёл совсем близко, и я почувствовала тонкий, морозный аромат, исходивший от его одежды. Аромат озона, хвои и чего-то ещё… власти. Он протянул руку и взял прядь моих волос, намотав её на свой длинный, бледный палец.
– Такой живой цвет, – промурлыкал он, поднося прядь к губам. – Цвет солнца и поспевшей ржи. Цвет самой жизни. Такие нити будут бесценны.
Я стояла, не в силах пошевелиться, парализованная его близостью и ледяным ужасом. Он видел меня насквозь, читал мои страхи, мои надежды, как раскрытую книгу.
– Ты боишься, – это был не вопрос, а утверждение. – Это хорошо. Страх делает тебя сильнее. Осторожнее. Но не позволяй ему поглотить тебя. И не слушай шёпот в тёмных углах. Здешние обитательницы, – он презрительно скривил губы, – сломлены. Их страхи – удел слабых. Ты не такая.
Он отпустил мои волосы и сделал шаг назад. Его взгляд скользнул по залу и остановился на тёмном проёме, ведущем в коридор. Я проследила за его взглядом и увидела там застывшую фигуру Мрака. Он стоял в тени, и я не могла разглядеть его лица, но вся его поза выражала глухую, сжатую, как пружина, ярость. Он наблюдал за нами. И я вдруг поняла: вся эта сцена была разыграна не для меня. Для него.
Морок усмехнулся, увидев его. Усмешка была хищной, жестокой, предназначенной не мне, а ему, своему вечному пленнику. Мой хозяин наслаждался бессильной яростью брата, питался ею, как стервятник – падалью.
– А теперь иди, отдохни, – вновь обратился он ко мне, и его голос снова стал вкрадчивым. – Завтра тебя ждёт много работы. Я как раз подбирал узор для твоего первого… серьёзного заказа.
Он плавно развернулся и пошёл к своему кабинету, оставив меня дрожащую посреди зала. Я бросила взгляд в сторону коридора. Мрак исчез, растворился в тенях так же беззвучно, как и появился.
Я поспешила в свою каморку, желая лишь одного – запереться и больше никого не видеть. Но едва я притворила за собой хлипкую дверь, как услышала тихий стук в неё. Моё сердце пропустило удар. Морок?
– Кто там? – прошептала я, и голос предательски дрогнул.
В ответ – тишина. А потом под дверью появилась узкая полоска бумаги. Я подождала, пока затихнут удаляющиеся шаги в коридоре, и лишь потом, дрожащей рукой, подняла свёрток. Это был не пергамент, а грубая обёрточная бумага. Внутри, нарисованный углём, был грубый, но до боли узнаваемый рисунок.
Тряпичная куколка-обережница. Та самая, которую матушка тайком положила мне в узелок. Та, что лежала у меня под подушкой, – мой единственный островок дома, моя ниточка, связывающая с родным порогом.
А под рисунком – всего одно слово, выведенное корявым, злым почерком:
«Сожги».
ГЛАВА 6. ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
(От лица Яромира)
Морок позвал меня к себе.
Его покои располагались в главном крыле усадьбы, и даже воздух здесь был другим. Не тлетворная пыль мастерских, смешанная с запахом пота и страха, а густой, пряный аромат дорогих курений, воска и холодной, как склеп, силы. Всё здесь было выверенным, роскошным и мёртвым: резная мебель из чёрного дерева, отполированная до зеркального блеска, тяжёлые бархатные портьеры, не пропускающие ни единого живого луча, пергаменты с алыми письменами, аккуратно разложенные на столе. Идеальный порядок. Порядок ухоженной могилы.
Я стоял перед его резным столом из чёрного мореного дуба, на поверхности которого не было ни единой пылинки, ни единого лишнего предмета – лишь тяжёлая чернильница в виде черепа свернувшейся змеи да стопка девственно-чистых пергаментов. Брат сидел в кресле, спинка которого походила на сложенные крылья исполинской летучей мыши, и медленно перебирал в длинных, аристократически-тонких пальцах серебряную монету. Ту самую. Ту, что обронила девчонка и принёс мне Теневой. Как она оказалась у него, я не спрашивал. Это было бесполезно. Морок всегда знал всё, что происходило в его каменном мешке. Особенно то, что касалось меня.
– Проходи, братец. Не стой на пороге, – его голос, как всегда, был вкрадчивым, словно шёлк, которым можно удавить.
Я вошёл, остановившись посреди комнаты. Руки сами собой сжались в кулаки в карманах штанов.
– Ты звал, – бросил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
– Звал, – он улыбнулся. От этой улыбки у меня всегда сводило скулы. Она не касалась глаз, лишь изгибала тонкие, жестокие губы. – Хотел похвалить тебя.
Я молча ждал. Похвала от Морока всегда была прелюдией к особо изощрённой пытке.
– Ты нашёл для меня настоящий самородок, – продолжил он, лениво вертя в пальцах монету. Её тусклый блеск хищно играл в свете неживого пламени камина. – Эта новенькая… Аглая. В ней есть искра. Дикая, необузданная сила. Я чувствую её даже отсюда. Она не похожа на остальных. Не такая пустая.
Он сделал паузу, наблюдая за мной, пробуя мою реакцию на вкус. Я стоял, как каменное изваяние. Не дать ему ничего. Ни единой эмоции. Это единственная защита, что у меня осталась. Любое слово, любой жест, любое неверно истолкованное дыхание он обратит против меня. Века, проведённые рядом с ним, научили меня этому простому правилу выживания: стань тенью, и, возможно, тебя не заметят.
– Я заметил, ты тоже это видишь, – промурлыкал Морок. – Она тебя забавляет, братец? То, как ты на неё смотришь. Словно голодный пёс на кость, которую ему бросили, но запретили трогать. Это забавно.
– Ты ошибаешься. Мне плевать на неё, – отрезал я, чувствуя, как слова царапают горло. – Для меня она такая же, как все. Очередная, не боле.
– Нет, – он покачал головой, и его улыбка стала шире. – Она другая. И ты это знаешь. В ней есть упрямство. Огонь. Таких ломать – особое удовольствие. И ты мне в этом поможешь.
Вот оно. Началось.
– Я хочу проверить её дар. Понять его пределы. Дай ей особое задание. Что-нибудь… изящное. Достойное её огня. Чтобы она показала всё, на что способна. Или сломалась, пытаясь.
Внутри у меня всё сжалось в ледяной комок. Я знал, что последует дальше. Это была его излюбленная игра: находить в людях самое светлое и заставлять меня, его тень, это светлое пачкать и ломать. Единственный призрачный шанс на спасение для неё – это провалиться. Провалиться с таким треском, чтобы Морок счёл её бездарной, ошибкой, пустышкой, не стоящей его внимания. Чтобы он разочаровался и вышвырнул её вон, обратно в её мир, в её нищету, которая после этого места покажется ей раем.
Моя жестокость – её единственный щит. Какая горькая, отвратительная насмешка.
– Хорошо, – глухо отозвался я. – Я дам ей задание.
– Вот и славно, – кивнул Морок, откидываясь на спинку кресла. – Пусть она соткёт для меня полотно. Из нитей лунного света, что собираются на поверхности болот в полнолуние, да из утреннего тумана, что цепляется за верхушки сосен. Работа тонкая, требует не столько умения, сколько… вложения.
Он улыбнулся. И от этой улыбки по моей спине пробежал холод, который не мог дать ни один зимний ветер. «Вложения» – он имел в виду жизненную силу. Колдовская пряжа, которую мог соткать лишь опытный мастер, вливая в неё часть своей души. Для новичка, для девчонки, едва научившейся работать с мёртвыми нитями, это было равносильно смертному приговору. Пряжа просто высосет её досуха, оставив пустую, безжизненную оболочку.
– Пусть твоя пташка покажет, на что способна, – подвёл он итог, и в его голосе прозвучали откровенно-насмешливые ноты. – Или сгорит, пытаясь взлететь. Мне любой исход по нраву.
Он протянул мне монету.
– Отдай ей. Скажи, что это аванс за труды.
Я взял холодный металл. Он всё ещё хранил едва уловимое тепло её пальцев, но теперь это тепло было осквернено ледяным прикосновением Морока. Я сжал монету в кулаке так, что острые края впились в ладонь. Боль отрезвляла.
– А теперь, ступай.
Я развернулся и вышел, не проронив ни слова, но чувствуя себя грязным. Спиной я ощущал его взгляд, полный торжествующего презрения. Он снова дёрнул за мои цепи, и я снова послушно поплёлся исполнять его волю.
Я нашёл её в мастерской. Был уже поздний вечер, остальные разошлись по своим норам, и только она одна сидела за пяльцами при свете одинокой лучины. Свет падал на её волосы, и они вспыхивали, как спелая рожь в закатном солнце. Она была так поглощена работой, что не слышала моих шагов. Я остановился в тени, глядя на её сосредоточенное лицо, на упрямую складку между бровей.
И в этот миг я возненавидел её. Возненавидел за её талант, за её упрямство, за этот чёртов внутренний огонь, который привлёк внимание моего брата. Возненавидел за то, что она заставила меня снова что-то чувствовать, кроме привычной апатии и ненависти к Мороку.
Я остановился за её спиной, намеренно отбрасывая на неё свою тень. Она вздрогнула и резко обернулась. В её глазах, серо-голубых, как небо перед грозой, на миг мелькнул испуг, но тут же сменился настороженностью. Она не боялась меня так, как остальные. И это бесило. Бесило, потому что её бесстрашие было сродни глупости мотылька, летящего на огонь.
– Хозяин дал тебе новое задание, – мой голос прозвучал грубо и глухо, как удар камня о камень.
Я бросил на станок мотки призрачно-серебристых и туманно-белых нитей, что забрал из хозяйских хранилищ. Они были холодными на ощупь, словно сотканными из инея.
– Полотно. Из лунного света и тумана. К исходу трёх дней должно быть готово.
Она перевела взгляд с нитей на меня. Она не была сведуща в магии, но женское чутьё, чутьё пряхи, подсказывало ей, что эти нити – не простые. Она коснулась их кончиками пальцев и тут же отдёрнула руку, словно обжёгшись холодом.
– Они… мёртвые, – прошептала она.
– Мертвее не бывает, – подтвердил я с усмешкой. – Придётся вдохнуть в них жизнь. Свою.
Отчаяние тенью легло на её лицо. Но потом она сжала губы, и в её взгляде снова вспыхнул тот самый упрямый огонёк. Искра, которая так злила меня и… не давала отвести взгляд. Она молча кивнула, принимая приговор. Не зарыдала, не стала молить о пощаде. Просто кивнула.
– Справишься – будешь жить, – прорычал я, сам не зная, кого больше пытаюсь убедить. – Нет – станешь ещё одной нитью в хозяйском гобелене.
Я развернулся, чтобы уйти, но её тихий голос остановил меня:
– Зачем ты это делаешь?
Я замер, не оборачиваясь.
– Приказ Хозяина, – бросил я через плечо.
– Нет, – её голос стал твёрже. – Зачем ты помогаешь ему? Ты ведь ненавидишь его так же, как и я. Я это вижу.
Я медленно повернул голову. Наши взгляды встретились. В её глазах плескался не только страх, но и что-то ещё. Попытка понять. Это было опаснее всего.
– Ты ничего не видишь, девчонка, – отрезал я, вкладывая в слова весь холод, на который был способен. – Ты видишь лишь то, что тебе позволяют видеть. Берись за работу. Время пошло.
Не дожидаясь ответа, я ушёл, чувствуя её взгляд в своей спине – растерянный, злой, обиженный. Хорошо. Пусть злится на меня. Пусть ненавидит. Это безопаснее, чем любое другое чувство в этом доме.
День тянулся, как смола. Я заперся у себя, пытаясь обтесать кусок старого дуба, но дерево не поддавалось, нож соскальзывал, а мысли были далеко. Они были там, в гулкой мастерской, где за станком сидела упрямая девчонка, прядь за прядью вплетая свою жизнь в мёртвое полотно.
Теневой сидел на балке под потолком, не сводя с меня своих умных, бусиноподобных глаз. Его молчание было громче любого крика. Он был моим судьёй, моим вечным укором. Он помнил всех. Всех тех, кого я не спас.
А Шмыг, напротив, вёл себя как обычно. Он притащил откуда-то надкусанный пирожок с капустой и, устроившись у меня на коленях, с упоением его доедал, громко чавкая. Он был моим единственным напоминанием о том, что жизнь может быть простой. Украл, съел, спрятался в тепле – вот и всё счастье. Я машинально гладил его лоснящуюся шёрстку, и это простое действие немного успокаивало.
К вечеру я не выдержал. Бесшумно, тенью, я прокрался к мастерской и заглянул в щель приоткрытой двери. Аглая всё ещё сидела за станком, но её движения стали медленными, неуверенными. Она побледнела, под глазами залегли тёмные круги. Нити не слушались её, рвались, путались. Она была обречена.
Увидев это, я почувствовал странную, горькую смесь злорадства и боли. Злорадства оттого, что её упрямство оказалось сломлено. Боли – оттого, что я сам приложил к этому руку.
Я вернулся в свою каморку и рухнул на лежанку, закрыв глаза. Но перед внутренним взором всё равно стояло её бледное, измученное лицо.
Ночь опустилась на усадьбу, укрыв её своим чёрным саваном. Я не спал.
Вдруг Шмыг, дремавший у меня в ногах, встрепенулся. Он поднял свою острую мордочку, повёл носом и бесшумно соскользнул на пол. Хорёк юркнул в щель под дверью и исчез в коридоре. Я не придал этому значения.
Но внезапно тишину разорвал отчаянный, хриплый крик. Он донёсся прямо из-под потолка моей каморки. Я рывком сел. На балке метался Теневой. Он бил крыльями, роняя чёрные перья, и кричал. Этот вопль был не просто птичьим криком. Так кричала часть моей души, почуявшая смертельную беду. Я вскочил, сердце, которое я считал куском льда, бешено заколотилось.
И тут я понял. Шмыг. Он не пошёл на кухню.
Я вылетел из каморки, как из пращи. Инстинкты, отточенные веками, вели меня. Не в мастерскую. В хранилище. Туда, где Морок держал самые опасные свои сокровища. Дверь, запертая на тяжёлый засов, была приоткрыта. Внизу виднелась узкая щель – лаз, достаточный для пронырливого хорька.
Сердце ухнуло в пропасть.
Я ворвался внутрь. На одной из полок, где хранились зачарованные мотки пряжи, зияла пустота. Пустота на том самом месте, где лежали кроваво-алые нити, спряденные из слёз девственниц, отдавших жизнь на алтаре Морока. Нити, которые не требовали жизненной силы от пряхи. Они пили её сами. Быстро, жадно, до последней капли.
Проклятье!
Я бросился обратно, несясь по гулким коридорам, как обезумевший.
Я влетел в мастерскую.
Пусто. Но потом мой взгляд метнулся к окну. Она стояла там, спиной ко мне. Её плечи мелко подрагивали. Она плакала. Тихо, беззвучно, утирая слёзы тыльной стороной ладони.
А на станке, на том самом месте, где должны были лежать лунные нити, алым пятном горел украденный моток. Он уже начал свою работу. Нити тускло, зловеще пульсировали в полумраке, впитывая её отчаяние, её жизненную силу, что незримо витала в воздухе.
Она отвернулась всего на мгновение, чтобы скрыть слёзы. И это мгновение спасло её.
Одним резким, хищным движением я подскочил к станку. Мои пальцы коснулись алых нитей. Они обожгли меня не холодом, а нестерпимым жаром, словно я сунул руку в костёр. Боль была не только телесной – она пронзила до самой души, выжигая что-то внутри. Я стиснул зубы, чтобы не закричать, сорвал проклятый моток, швырнул его в самый тёмный угол мастерской, где он тут же погас, и на его место бросил обычную, крашеную в алый цвет пряжу из своих запасов. На ладони, там, где нити коснулись кожи, багровым пятном расцвёл магический ожог. Я судорожно сжал руку в кулак, пряча его. В ту же секунду я отскочил назад, в тень у двери.
Успел.
Всё произошло за те несколько ударов сердца, что она потратила на свои слёзы.
Она глубоко вздохнула, провела ладонями по лицу и медленно повернулась. Её заплаканные глаза обвели пустую мастерскую. Она не заметила ничего.
Она снова села за станок, взяла в руки подменённый моток и горько усмехнулась.
– Ну что ж, – прошептала она в звенящую тишину. – Попробуем ещё раз.
А я стоял в тени, прижавшись спиной к холодной стене, и не мог заставить себя пошевелиться. Я смотрел на её тонкую, упрямую спину, на светлую косу, упавшую на плечо, и понимал, что только что пересёк черту.
Проклятый хорёк. Проклятый ворон.
И эта глупая, упрямая, невозможная девчонка, которая заставляет мою мёртвую душу чувствовать то, о чём я давно приказал себе забыть.
– Глупая девчонка… – выдохнул я в пустоту, и этот шёпот был похож на стон.
Я только что рискнул всем. Нарушил прямой приказ. Получил клеймо на память. Всё ради неё. Ради девчонки, которую я должен был ненавидеть.
Я медленно побрёл обратно в свою нору. И впервые за много-много лет я понял, что лёд вокруг моей души дал трещину. И в эту трещину начало просачиваться нечто новое. Нечто, куда более опасное, чем ненависть.
Надежда.
И она пугала меня до смерти.
ГЛАВА 7. ОБЕРЕГ ДЛЯ БРАТА
(От лица Аглаи)
Ночь спустилась на Прядильню, как тяжёлое, смоченное в дёгте одеяло, удушливое и непроглядное. Она сочилась холодом из каменных щелей, ползла по полу сквозняками, пахнущими гнилой листвой и безысходностью. Единственная лучина на краю станка, мой маленький, дрожащий маяк в этом океане мрака, отбрасывала на стены пляшущие, уродливые тени, превращая безмолвные прялки и веретёна в горбатых, застывших в ожидании старух.
Я сидела, сгорбившись, над хозяйским заданием – вышивкой на тёмном бархате. Узор был сложен и витиеват: охота теневых псов на лунного оленя. Красиво. И мёртво. Нити, что оставил мне Мрак, были холодны, как дыхание покойника. Они не грелись от тепла моих пальцев, вытягивали из меня последние крохи сил, впивались в душу тысячами ледяных иголок. Каждый стежок давался с таким трудом, словно я протаскивала нить не сквозь ткань, а сквозь собственные сухожилия. Руки одеревенели, спину ломило тупой, ноющей болью, а в глазах стояла мутная пелена от усталости.
Я проиграла.
Эта мысль пришла не со страхом или отчаянием, а с глухим, безразличным спокойствием. Я просто констатировала очевидное, как то, что ночь сменяет день, а за осенью приходит зима. Я не справлюсь. Не хватит ни сил, ни умения, ни самой жизни, чтобы закончить эту вышивку. Хозяин Морок дал мне невыполнимую задачу не для того, чтобы проверить моё мастерство. Он хотел насладиться моим увяданием. Увидеть, как гаснет искра, которую он заметил. Мрак был прав: «Хозяин любит красоту. Но ещё больше он любит смотреть, как она умирает».
Я откинулась на жёсткую спинку стула, закрыв глаза. Перед внутренним взором тут же возникло лицо Яруна. Бледное, осунувшееся, с лихорадочным блеском в огромных, как у совёнка, глазах. Я почти физически ощутила жар его сухой ладошки в своей. Вспомнила, как пела ему колыбельную в нашей последней ночи, а голос срывался, и слова застревали в горле комком невыплаканных слёз.
«Я вернусь, Яруша. Слышишь? Я обязательно вернусь с лекарством. Ты только жди».
Мои слова. Моя клятва. Пустая и глупая, как оказалось. Я не вернусь. Я сгину здесь, в этой каменной гробнице, стану ещё одной безымянной тенью, ещё одной порванной нитью на веретене чужой, тёмной судьбы. Моя жизнь оборвётся, и золото, что я прислала, рано или поздно закончится. И тогда хворь вернётся за Яруном, доделает своё чёрное дело. А матушка… Ох, матушка! Она останется совсем одна.
Горячая волна отчаяния и бессильной ярости поднялась из самой глубины души, грозя утопить меня. Я вцепилась пальцами в грубую ткань на коленях, сдерживая рвущийся наружу стон. Нет. Я не дам им этого удовольствия. Я не буду выть, как пойманный в капкан зверь. Если уж помирать, так с песней. С моей песней, а не с его.
Я распахнула глаза. Взгляд мой упал на станок, на хозяйскую вышивку. На этих теневых псов, рвущих клыками серебристую шкуру оленя. Это был его мир. Мир смерти, охоты, боли и угасания. Но это был не мой мир.
Нити лунного света и утреннего тумана… Какая издевательская, ядовитая поэзия. На деле же под моими руками лежали пучки колдовской пряжи, вытягивающие жизнь. Каждый узелок, каждая петля стоили мне вдоха. Я чувствовала, как вместе с теплом из тела уходит сила, утекает тонкой струйкой, впитываясь в это мерзкое, призрачно-серебристое переплетение. Узор, который велел соткать Хозяин, был сложным, витиеватым – хищный цветок с острыми, как бритва, лепестками. Он должен был стать украшением для покоев Морока, а стал моим личным надгробием. Ткань получалась холодной, как лёд в погребе, и совершенно безжизненной. Она не отражала свет, а жадно глотала его.
Плечи ломило от усталости, а в голове стучал тяжёлый молот, отбивая такт уходящим мгновениям моей жизни. Я прикрыла глаза, и перед внутренним взором тут же возникло лицо Яруна – бледное, осунувшееся, с лихорадочным блеском в огромных глазах. Его сухая, горячая рука в моей ладони. Его тихий, прерывистый шёпот: «Ты вернёшься, Глашенька?».
Вернусь… Я обещала.
– Не сдюжишь, девка, – проскрипел откуда-то из тёмного угла голос, похожий на шорох сухого листа. – Силушку-то побереги. Не на то тратишь.
Я вздрогнула, оглядываясь. Никого. Лишь тени плясали по стенам, вытягиваясь и корчась, словно живые. Это был он. Дед Житный. Невидимый дух этого дома, который с первого дня по-своему опекал меня. Его ворчание было сродни заботе старого, сварливого деда.
– А что мне делать? – прошептала я в пустоту, и губы едва слушались. – Приказ есть приказ. Не выполню – худо будет. И мне, и тем, кто дома ждёт.
Половица под станком сочувственно скрипнула. Из-под лавки высунулась любопытная мордочка Шмыга. Хорёк, этот маленький воришка и единственный друг моего тюремщика, подбежал ко мне и ткнулся влажным носом в щиколотку. Его тельце было тёплым, живым, и от этого простого прикосновения по глазам полоснуло едкими, злыми слезами. Я сглотнула ком в горле. Нельзя. Нельзя раскисать.
Шмыг, будто поняв моё состояние, ловко вскарабкался по платью мне на колени, свернулся клубком и тихо засопел. Его тепло было единственным, что сейчас не пыталось меня убить. Я машинально провела рукой по его гладкой шёрстке, и в этот миг меня пронзила отчаянная, острая мысль, ясная, как удар молнии.
Да, я умру. Скорее всего, умру этой ночью, так и не закончив этот проклятый узор. Моя жизнь, моя сила впитаются в эти нити, станут частью убранства в покоях чудовища. Он победит. Но если мне суждено умереть здесь, то последняя нить, что пройдёт через мои пальцы, будет соткана не для него. Она будет соткана для Яруна.
Я решительно отодвинула от себя хозяйское плетение. Пальцы дрожали, но теперь не от слабости, а от яростной решимости. Я вытащила из своей котомки моток простого, неотбелённого льна, который прихватила из дома. Тот самый, что мы пряли с матушкой долгими зимними вечерами. Он пах домом, сухими травами и дымком из нашей печи. В моих руках он был не просто пряжей. Он был памятью.
Шмыг на коленях поднял голову, посмотрел на меня своими чёрными бусинками глаз и снова уткнулся носом в складки юбки, словно одобряя.
Я заправила новую основу в станок. Прочь хищные, мёртвые цветы Морока.
Решение пришло само собой, ясное и острое, как лезвие ножа. Если мне суждено умереть здесь, то последняя нить, что пройдёт через мои пальцы, будет соткана для него. Для Яруна. Не для Хозяина. Не для этой проклятой Прядильни.
Я не буду вышивать ему узор. Я сотворю оберег.
Я закрыла глаза, отгоняя от себя холод и мрак мастерской. Я вернулась мыслями домой. В нашу избу, в тепло натопленной печи. Вспомнила, как матушка, склонившись над шитьём, учила меня древним знакам.
– Это, дочка, не просто узор, – шептала она, и её игла порхала, как птичка, оставляя за собой ровные стежки. – Это слово, сказанное без голоса. Это молитва, вплетённая в ткань. Вот этот знак, видишь? Солнечный колос. Он отгоняет хворь и дарует силу жить. Его ещё прабабка твоя вышивала на рубахах, когда мор на деревню пришёл. И обошёл он нашу семью стороной.