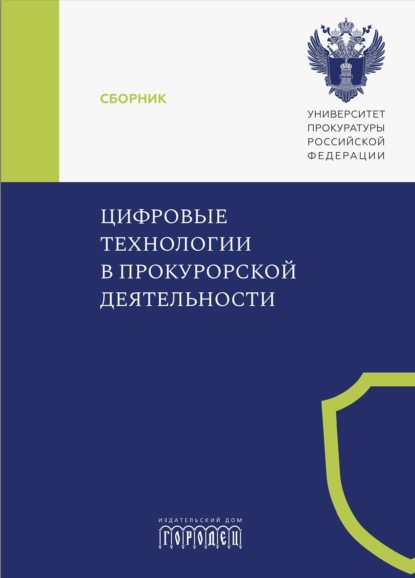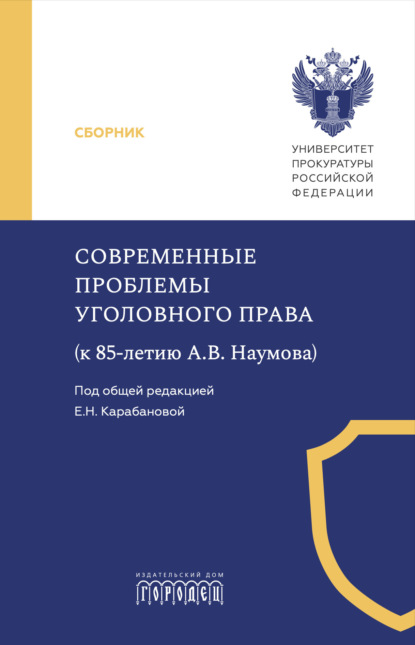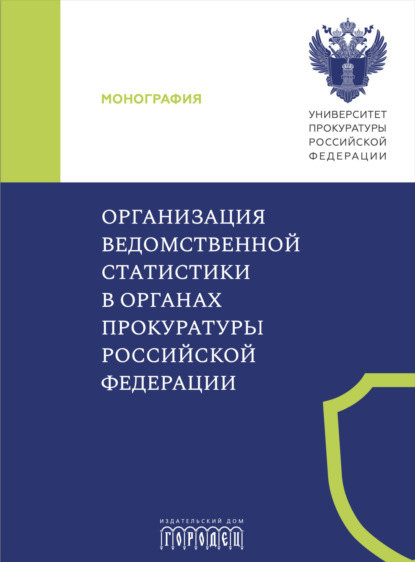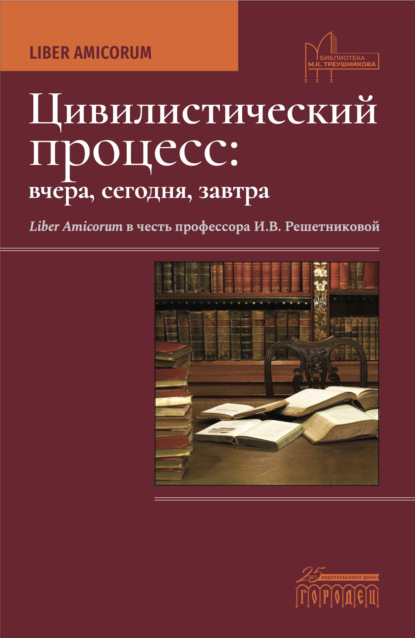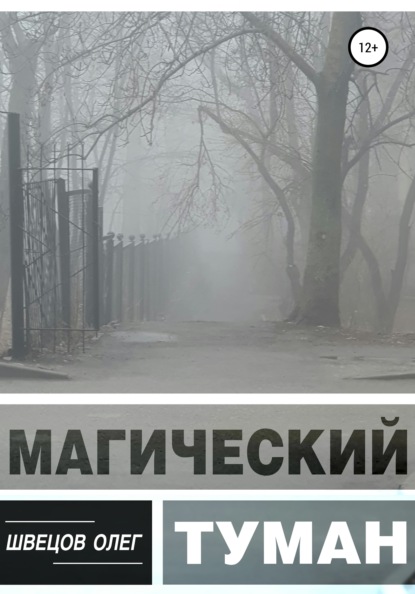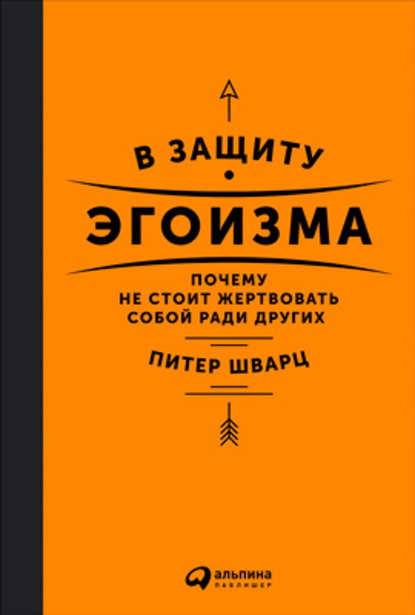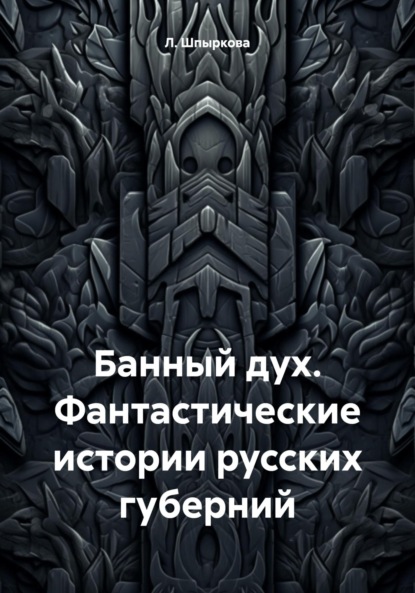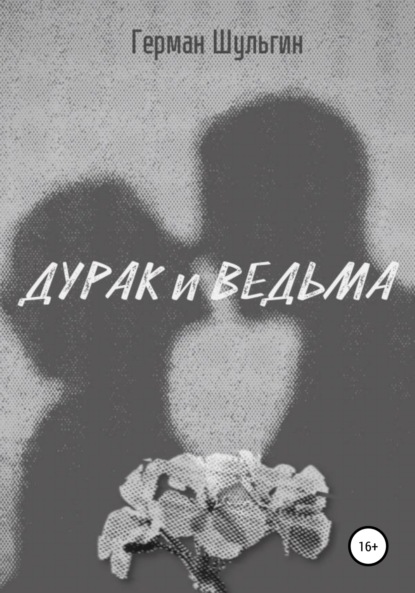Федерализм. Хрестоматия
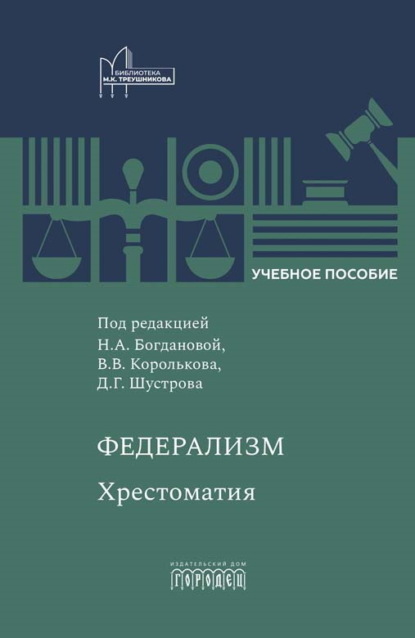
- -
- 100%
- +
Приводится по: Еллинек Г. Общее учение о государстве. 2-е изд. СПб: 1908. С. 286–295.
Коркунов Николай Михайлович (1853–1904)
Сравнительный очерк государственного права иностранных держав. Часть первая. Государство и его элементы
Глава III
Территория
§ 7. Право на территорию и ее границы
Территория государства есть то пространство земли, которое подпадает действию данной государственной власти. Поэтому территорией определяются границы государства, пределы государственного общения. Государство властвует только в пределах принадлежащей ей территории.
Право, принадлежащее государству на территории, есть право верховного господства (dominium eminens). Оно должно быть отличаемо от права собственности (dominium privatum), так как эти два права совершенно разнородны и могут в отношении к одной и той же части территории принадлежать разным лицам. Верховное господство есть право власти над всем, что находится и совершается в пределах территории, оно включает право юрисдикции в широком смысле (суд, полиция, законодательство), право финансового обложения, право пользования территорией для общественных целей и право исключать воздействие на данную территорию всякой другой власти. Но оно не включает, в отличие от собственности, право пользования территорией для извлечения из нее имущественных выгод.
Различие верховного господства и частной собственности установлено еще глоссаторами, в средние века. Рассказывают, что Фридрих Барбаросса задал как-то двум известным глоссаторам Мартину и Булгару вопрос, как понимать включение в императорский титул выражения dominus mundi: можно ли из него выводить, что император – собственник всех земель империи. Мартин дал именно такое толкование и получил за то в подарок лошадь. Но Булгар держался другого толкования, проводя различие между dominium eminens и dominium privatum, и потому лошади, конечно, не получил…
Верховное господство над территорией всегда принадлежит государству. Право собственности может принадлежать и государству (казенные земли), и частным лицам. <…>
Право частной собственности отдельных лиц признается неприкосновенным, не только по отношению к другим частным лицам, но и в отношении государственной власти. Осуществляя свои функции управления и законодательства, государственная власть может, правда, прийти в столкновение с частными правами отдельных лиц на отдельные части территории. Может явиться надобность воспользоваться частной землей для государственных надобностей. В таких случаях допускается принудительное пользование и даже принудительное отчуждение, но не иначе как за справедливое вознаграждение в форме т. н. экспроприации.
В современных государствах частная собственность на землю не соединяется вовсе с правами политического властвования над нею. В отношении суда, управления, законодательства и земля, находящаяся в частном владении, непосредственно подчиняется государственной власти. Но не всегда было так. При феодальном строе с правом частной собственности на землю соединялись права патримониальной власти, включавшей суд и полицию. Это, конечно, приводило к ослаблению государственной власти, естественно стремившейся поэтому к уничтожению подобных прав. Всех раньше это совершилось в Англии, где норманнское завоевание уже положило начало сильной королевской власти, подчинившей себе феодальных владельцев. Всего дольше патримониальная власть существовала в Германии, где до 1848 г. она сохранялась в весьма значительном объеме, а окончательно была уничтожена уже законодательством новой германской империи.
Так как государственное властвование ограничивается пределами территории, то весьма важно точное определение ее границ. <…>
<…> Что же касается сухопутной границы, то она не определяется никаким общим началом. Учения о т. н. естественных границах или о границах социальных, связывающие вопросы о пределах территории того или другого государства с очертанием земной поверхности, или с различием населения земной поверхности по национальностям и религиям, могут иметь большое значение, как практические идеи, руководящие деятельностью государственных людей. Но как юридический принцип, дли определения действительно существующих границ государству они не имеют никакого значения.
Юридическое значение представляет только порядок изменения границ. В средние века установился частноправовой взгляд на территорию, как на имущество, подлежащее отчуждению в целом и по частям по произволу правителя. Территория отдавалась в приданое, продавалась, закладывалась. В настоящее время действуешь, однако, начало неотчуждаемости и неделимости территории. Первый шаг в этом направлении сделан французской конституцией 1791 г., постановившей, что королевство едино и нераздельно. Это постановление было повторено в последующих французских конституциях и некоторых других… Но в такой абсолютной форме это начало не могло быть соблюдаемо. Отчуждение части территории иногда представляется решительной необходимостью. Поэтому в большинстве государств теперь принято лишь то начало, что отчуждение частей территории может происходить не иначе, как по постановлению законодательной власти. И действительно, такое постановление достаточно гарантирует от произвольного распоряжения территорией. Участие народных представителей обеспечивает достаточно, что отделение частей территории будет допускаться действительно лишь в случаях необходимости, или лишь по отношению к таким частям, которые не составляют одного целого с государством. <…>
Приводится по: Коркунов Н.М. Сравнительный очерк государственного права иностранных держав. Часть первая. Государство и его элементы. СПб., 1906. С. 51–54.
Котляревский Сергей Андреевич (1873–1939)
Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора
4. Децентрализация и федерализм
<…>
В глазах юристов государство унитарное и федеральное – это два качественно совершенно различных типа, смешение которых невозможно, как невозможно смешение основных категорий гражданского права. От их внимания, конечно, не укрылось, что, так сказать, степень федерализации может быть весьма различной: в одних странах главная и большая часть государственных функций осуществляется центральной властью, в других – правительствами отдельных штатов или кантонов. С другой стороны, и в унитарном государстве распределение власти бывает весьма различным: иногда все сосредоточено в центре, иногда многое предоставляется местным учреждениям, действующим более или менее самостоятельно. Очевидно, что с политической точки зрения – для познания реального характера власти в данном государстве эти различия имеют величайшую важность, но юридический метод не останавливается на таком постепенном переходе понятий. Как бы далеко ни шла в данном унитарном государстве децентрализация, его качественное, генерическое различие от федеративного сохраняется для юриспруденции в полной силе. Но, естественно, в определении того, где должна проходить демаркационная линия, мы не встречаем среди юристов особенного единогласия.
По теории Прейса, различие между децентрализованной частью единого государства, например, общиной, и зависимым государством, входящим в федерацию, состоит в том, что первая не имеет права располагать своей территорией, а вторая имеет. Но этому, очевидно, противоречит действительность: в Америке и в Германии, например, ни штаты, ни отдельные государства не могут располагать своей территорией. По Лабанду, только государство может иметь собственные державные права: община всегда осуществляет их, лишь представляя, так сказать, государство. По Иеллинеку, государство имеет эти права само по себе, община же или область получает их от государства. <…> Розин и Мейер указывают на различие целей государства и общины… Борель кладет в основу различия известное участие в создании высшей государственной воли, которое принадлежит штатам, или кантонам в федеративных государствах и которого лишены провинции и общины.
<…>
С политико-морфологической точки зрения децентрализация и федерализация суть явления, отличающиеся количественно, а не качественно: все зависит от степени распределения власти между центром и отдельными частями. В этом распределении можно различать два момента: компетенцию власти, т. е. содержание ее функций, и ее самостоятельность. Нельзя сказать, что эти два момента всегда параллельно возрастали, но, в общем, неоспоримо, что чем обширнее круг ведения местных учреждений в самом широком смысле этого слова, тем больше у этих учреждений и самостоятельности. Таким образом, с точки зрения политической морфологии мы можем расположить государства по степени увеличивающейся самостоятельности их отдельных частей относительно общего целого.
Здесь нам прежде всего приходится начать с государств, бесспорно унитарных, но отличающихся известной, большей или меньшей, долей децентрализации. При этом заметим, что практический интерес для нас имеет не административная децентрализация (т. е. передача особых полномочий агенту центральной власти на месте), – а децентрализация в форме самоуправления. Первый вид децентрализации относится, в сущности, к административной технике, но не меняет политического положения – существа распределения власти; при этой системе местные интересы не получают ни большей самостоятельности, ни большего признания. <…> Совершенно другое политическое значение имеет децентрализация в форме самоуправления: при ней известная часть государственной власти действительно переносится на местные органы, на местное самоуправление, при ней есть известное противоположение центра и периферии.
<…>
Переходя к политическим образованиям федеративного характера, мы встречаемся со следующими типами, установленными государственным правом; рассмотрим их в порядке уменьшения связи между отдельными частями. Во-первых, сюда принадлежит союзное государство – «Bundesstaat». Здесь над отдельными государствами стоит центральная власть: по определению Рема, «это есть государство, составленное из нескольких государств, которые все участвуют в его державной воле». Такое союзное государство является субъектом права, и этим оно отличается от простого союза государств, представляющего лишь правовое отношение. Союз государств (Staatenbund) есть лишь постоянное соединение отдельных государств; при этой форме в ее чистом виде требуется единогласие всех входящих в союз государств для изменения его устройства – и, следовательно, право выхода в случае несогласия. Союз государств вообще уже не есть государство, и грань, отделяющая его от союзного государства, – есть та самая, которая разделяет области государственного и международного права. Между этими двумя формами, приближаясь, однако, более к союзу государств, лежит так называемая реальная уния – постоянный союз двух или нескольких государств, имеющих общего монарха. За постоянными союзами идут уже временные и специальные международные соглашения. Таковы основные юридические категории; хотя политическая действительность далеко не вполне укладывается в них, мы можем воспользоваться ими, как руководящими типами.
<…>
<…> новейшая история характеризуется тяготением к более крупным организованным политическим соединениям. От союзного устройства к государственному единству перешел целый ряд государств… Будущее – и в материальном, и в духовном смысле – принадлежит, по-видимому, крупным политическим образованиям. Но это объединение нельзя представлять себе как централистическую нивелировку, как уничтожение исторически сложившихся своеобразий отдельных частей. Все большее значение получает в современном государстве местное самоуправление: в нем видят теперь могущественное орудие децентрализации политической свободы. Оказывается, далее, что между децентрализацией и федерализмом различие скорее количественное, чем качественное, что для политика, как теоретика, так и практика, – унитарное и федеративное государства не могут противопоставляться в виде двух абсолютно противоположных типов, не имеющих переходных форм. Так идут параллельно эти две тенденции, которые кажутся противоположными, – к объединению мелких политических тел и к самостоятельности частей в сложившемся крупном политическом соединении. Глубоко прав Брайс, указывая …, что политическая мудрость требует привить известные элементы федерализма государству строго унитарному, – требует в интересах самого государственного единства. За забвение этого принципа Дания заплатила утратой Шлезвига и Голштинии, Голландия – Бельгии, Англия, – быть может, своими американскими колониями. Число этих примеров можно было бы значительно увеличить в подкрепление вышеуказанного принципа, который есть не в меньшей мере принцип государственного благоразумия, чем политической морали.
Приводится по: Котляревский С.А. Конституционное государство. Опыт политико-морфологического обзора. СПб., 1907. С. 57–59, 64, 78–79.
Лазаревский Николай Иванович (1868–1921)
Лекции по русскому государственному праву. Т. II
§ 5. Учреждения централизованные, деконцентрированные, децентрализованные и органы самоуправления
<…>
I. Под централизованными учрежденьями разумеют такие, в которых вся полнота власти предоставлена центральным или же высшим учреждениям, так что местные или вообще подчиненные учреждения лишь подготовляют материал для решения, постановляемого учреждением высшим или центральным, или же изготовляют проект этого решения, представляемый высшему учреждению на утверждение.
Под учреждениями, деконцентрированными, разумеют такие местные (или подчиненные) учреждения, которым хотя и предоставлена в тех или иных пределах решающая власть, но так, что центральная (или высшая) инстанция имеет право не только отменить или изменить постановление местной (или подчиненной), но и может действовать вместо нее.
Сущность децентрализованной системы управленья составляет предоставление местным или подчиненным органам известной самостоятельной власти, причем дела, отнесенные к ведению местных органов, не могут помимо их разрешаться органами высшими (центральными). <…>
Самоуправление характеризуется тем, что местное учреждение в делопроизводственном отношении и в отношении личного состава ставится вне иерархической зависимости от центрального, причем зависимость личного состава местного учрежденья от учреждений центральных заменяется так или иначе создаваемою связью личного состава местных учреждений с местным населением.
Эти четыре системы государственного местного или вообще подчиненного управления не исключают одна другую в том смысле, что в каждом данном государстве применяется лишь какая-либо одна из этих четырех систем. Напротив того, в громадном большинстве государств местные учреждения представляют значительное разнообразие: одни организованы на началась централизации и лишены всякой самостоятельной власти, другие обладают ею в том или ином размере, наконец третьи организованы на началах самоуправления.
Иногда даже и в одном и том же учреждении эти четыре системы переплетаются между собою в том смысле, что это учреждение по одним делам является учреждением централизованным, по другим деконцентрированным, а по третьим децентрализованным. <…>
Приводится по: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному праву. Т. II. СПб., 1910. С. 28–29.
Кокошкин Фёдор Фёдорович (1871–1918)
Лекции по общему государственному праву
§ 60. Внутреннее разделение государства
Государственное устройство с точки зрения отношения частей государства к целому представляет три основные типа: 1) полной централизации; 2) административной децентрализации; 3) законодательной децентрализации.
1.
Централизацией государственной власти называется такая ее организация, при которой: 1) все непосредственные органы государства являются центральными, т. е. компетенция их простирается на всю территорию государства; 2) действующие на местах посредственные органы, безусловно, подчинены центральным <…>
2. Административная децентрализация (местное самоуправление) заключается в том, что отдельные части государства организуются в особые территориальные союзы, которым государство предоставляет осуществление известных функций управления. Организация этих, как их называют, самоуправляющихся союзов определяется общегосударственным законодательством; они не имеют самостоятельной власти, – но, вместе с тем, они являются отличными от государства юридическими лицами и имеют свои выборные органы (органы самоуправления), которые, в отличие от местных органов государства в собственном смысле этого слова, не подчинены безусловно центральным государственным органам, а только подлежат контролю с их стороны.
3. Законодательная децентрализация (областная автономия) представляет собой высшую ступень развития децентрализации. Сущность ее сводится к тому, что отдельные части государства обладают своими непосредственными органами в виде местных законодательных собраний, которые совместно с центральной властью издают местные законы. Организация таких местных законодательных собраний, а также и существующих в данной области других учреждений определяется, обыкновенно, всецело или отчасти местным законодательством. Поэтому соответствующие территориальные союзы обладают частичной политической самостоятельностью и занимают промежуточное положение между самоуправляющимися провинциями и несуверенными государствами…
Приводится по: Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. 2-е изд. М., 1912. С. 305–306.
Жилин Александр Алексеевич (1880 – после 1945)
Учебник государственного права. Пособие к лекциям. Ч. 1. Общее учение о государстве в связи с основными началами иностранного государственного права
Государство в целях управления разделяется на части, отдельные местности, в которых различные задачи управления осуществляются особыми местными органами.
В зависимости от большей или меньшей самостоятельности этих органов различают централизацию и децентрализацию государственного управления. Сущность централизации состоит в том, что при этой системе местные органы имеют лишь вспомогательное значение. Они подают советы и составляют проекты, а действительная решающая власть находится в руках органов центральных, дающих указания местным органам и утверждающих их мероприятия. При децентрализации местные органы получают власть самостоятельно действовать и окончательно решать входящие в их компетенцию вопросы, а за центральными органами остается лишь право высшего руководства, надзора и иногда право перерешать некоторые дела в качестве высшей инстанции.
Децентрализацией является всякое вообще перемещение власти из центра в местность. Она может касаться не только управления, но также и суда, и законодательства, в последнем случае нося наименование автономии, (что по-гречески означает возможность самому устанавливать для себя законы).
Начиная с Токвилля, в науки различают иногда политическую и административную централизацию. Политическая централизация состоит в сосредоточении в руках центральных органов функций, имеющих особо важное общегосударственное значение, каковы, например: законодательство, международные сношения, военное дело, государственные финансы. Эта централизация большинством ученых признается очень полезной для успешного осуществления современными государствами их задач. Особенно полно проводится она обычно в унитарных государствах, но в известных случаях она имеется и в государствах, построенных на федеративных началах.
Сущность федерализма и отличие его от децентрализации– не в том или ином распределены задач и функций управления между центральной властью и частями государства, а в том, что в федеральном государстве составляющая его части участвуют в организации верховной власти государства в качестве несуверенных государственных союзов.
Административная централизация, система, при которой вопросы даже чисто местного значения разрешаются центральными органами и все управление, иногда до мелочей, подчиняется их указаниям, в новое время вызывает против себя сильные возражения. Особенно развившаяся в западноевропейских государствах в эпоху так называемого полицейского государства, эта система постепенно уступает место административной децентрализации. Классической страной централизации считается Франция, где, как это указал Токвилль, она устанавливается еще в эпоху старого порядка. Закрепленная затем законодательством времен консульства и первой империи, лежащим до сих пор в основе французского местного управления, она подвергалась неоднократно критике ряда известных французских ученых и постепенно была смягчена позднейшими законами. Усиливая значение центральной власти и укрепляя единство в государственной деятельности, административная централизация имеет, однако, много темных сторон и при более или менее значительном ее развитии ведет к нежелательным результатам. Она опасна прежде всего в политическом отношении, так как приучает население всего ждать от центральной власти и за все считать ее ответственной. Убивая самодеятельность в среде местных агентов власти, она приучает их к беспрекословному выполнению велений центральных органов и, развивая в них пассивность и инертность, облегчает возможность государственных переворотов, что было показано особенно на примере Франции, где всякое правительство, водворявшееся в Париже, находило в местных органах покорных исполнителей своей воли.
При централизации неизбежна медленность в разрешении дел, во многих случаях приносящая значительный вред. Самое решение вопросов управления в центре, лицами, не знакомыми с местными условиями и судящими о них по докладу местных агентов, не всегда может быть правильно и часто ведет к шаблонному, формальному отношению к делу центральных органов, погашая дух инициативы и предприимчивости у органов местных, не имеющих самостоятельности, связанных на каждом шагу необходимостью получения указаний и разрешений из центра. Наполеон III в этом отношении совершенно справедливо говорил, что «направлять можно издали, а хорошо управлять можно только вблизи».
Система децентрализации, передавая разрешение дел местного значения в руки местных органов и приближая таким образом власть к населению, сообщает этим органам больше энергии и побуждает их, в сознании большей ответственности за свои действия, самостоятельно ими предпринимаемые, к более старательной, добросовестной деятельности. Она ускоряет разрешение целого ряда вопросов местной жизни, освобождает их от излишней волокиты.
Децентрализация может осуществляться в двух формах: в форме правительственной децентрализации, когда решение местных дел передается из рук центральных органов государства в руки местных представителей государственной власти, местных чиновников, и в форме децентрализации в виде самоуправления, когда самостоятельное заведывание этими делами вручается лицам, принадлежащим к местному обществу. Ценность самоуправления заключается в том, что здесь управление местными делами находится в руках лиц, наиболее в них заинтересованных.
Назначаемые правительством чиновники не имеют тесной постоянной связи с местностью. Стремясь к повышению, к перемещению на высшую должность, они прежде всего следят за указаниями своего начальства и нередко местные интересы отступают у них на второй план. Органы самоуправления, составляемые из местных жителей, постоянно находясь в круге местных интересов, в тесном соприкосновении с местным обществом, на себе ощущая потребности местной жизни и результаты местных мероприятий, во многих случаях особенно пригодны для заведывания местным управлением с знанием дела, живым к нему интересом и внимательным отношением.
Приводится по: Жилин А.А. Учебник государственного права. Пособие к лекциям. Ч. 1. Общее учение о государстве в связи с основными началами иностранного государственного права. Пг., 1916. С. 381–384.
Златопольский Давид Львович (1919–2002)
Государственное устройство СССР
Глава I
Понятие и принципы государственного устройства СССР
§ 1. Понятие государственного устройства
<…>
Государственное устройство – это обусловленная диктатурой господствующего класса форма государственных связей между государством в целом и его частями, их правовое положение, административно-территориальное деление и система гражданства.