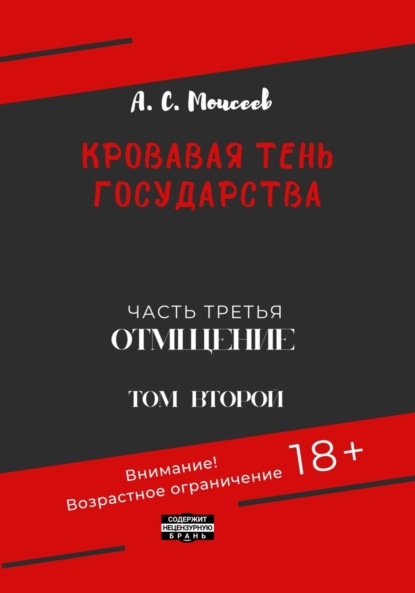Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
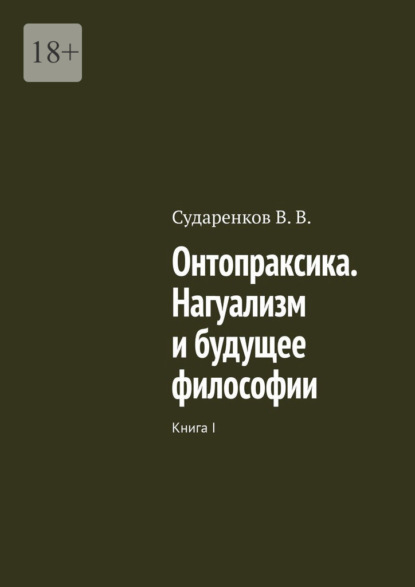
- -
- 100%
- +
Итак, приготовьтесь войти в лабиринт. Это, пожалуй, самая изощренная и красивая из всех философских тюрем, когда-либо построенных человеческим гением. Но наша цель – не заблудиться в ней с восхищением, а найти в ней трещину – ту самую, что ведет не к очередному зеркальному коридору, а к тишине за его пределами.
2. Предтечи: Язык как граница мира
Прежде чем войти в ослепительный и запутанный лабиринт постмодернизма, мы должны разобрать его фундамент. Как любое грандиозное интеллектуальное сооружение, он не возник на пустом месте. Его стены были возведены мыслителями, которые с беспощадной точностью указали на первичный материал, из которого сложена наша реальность – на язык. Их прозрения были подобны первому удару молотка по зеркалу: трещина пошла именно оттуда.
Людвиг Витгенштейн: От каркаса мира к языковым играм
Наш путь начинается с человека, который, возможно, больше любого другого философа XX века определил его интеллектуальный ландшафт. Людвиг Витгенштейн – фигура почти мифическая, аскет, инженер и гений, совершивший уникальный философский подвиг: он создал две радикально различные, но равно фундаментальные философские системы. И обе они были посвящены языку.
В своем раннем magnum opus, «Логико-философском трактате», Витгенштейн предстает перед нами как последний рыцарь идеала точности. Он ищет абсолютно ясный, незыблемый язык, который мог бы без искажений отразить логическую структуру мира. Знаменитый афоризм 5.6 – «Границы моего языка означают границы моего мира» – в этом контексте звучит не как приговор, а как программа. Мир – это совокупность фактов, а язык – их логическая картина. Если мы сможем очистить язык от метафизических бессмыслиц, построить его по строгим законам логики, как математику, тогда наша карта мира будет идеально соответствовать территории. В этой модели язык – это еще не тюрьма, а скорее совершенный оптический прибор, который, будучи правильно настроен, позволяет увидеть мир как он есть.
Но сам Витгенштейн стал первым, кто усомнился в этой стройной картине. Его поздняя философия, сконцентрированная в «Философских исследованиях», – это акт интеллектуального мужества, редкий пример того, как мыслитель публично и радикально пересматривает свои догмы. Здесь происходит коперниканский переворот: язык – не идеальная картина мира, а набор инструментов в ящике. Есть молоток, отвертка, клей, линейка. Каждый инструмент хорош для своего дела. Значение слова – это не его связь с объектом в мире, а его употребление в конкретной жизненной практике, в той или иной «языковой игре».
Что такое «языковая игра»? Это не развлечение, а целостная форма жизни, со своими правилами, целями и участниками. Команды на стройке, молитва в церкви, флирт в баре, научный диспут – все это разные языковые игры. Спросить «что такое время?» вне конкретной языковой игры (например, вне контекста физики или расписания поездов) – значит произнести бессмыслицу. Правила игры не являются чем-то абсолютным и неизменным; они вырабатываются в процессе и могут меняться. И главное – у этих игр нет внеязыкового фундамента. Нет той «прочной скалы», на которую надеялся ранний Витгенштейн. Мы движемся по зыбкой почве, опираясь на правила, которые сами же и создаем в процессе движения.
Здесь, в этой концепции, и рождается зародыш будущего лабиринта. Если значение рождается не из связи с миром, а из правил игры, то реальность начинает ускользать, заменяясь бесконечной цепью отсылок внутри самой языковой системы. Мы перестаем говорить о мире и начинаем играть в языке.
Фердинанд де Соссюр: Рождение значения из различия
Параллельно и независимо от Витгенштейна, в лингвистике совершается своя тихая революция. Швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр предлагает модель, которая станет краеугольным камнем всего последующего структурализма и постструктурализма. Он разделяет знак на две части: означающее (звуко-буквенный образ, например, слово «кот») и означаемое (понятие, ментальный образ кота).
Но главное открытие Соссюра в другом. Значение, утверждает он, рождается не из позитивной, внутренней сущности знака, и не из его связи с реальным объектом в мире. Оно рождается из различия. «Кот» – это «кот» только потому, что он не «пёс» и не «кит». Значение – это продукт системы, сетки различий. Оно негативно, реляционно и системно.
Давайте вдумаемся в радикальность этого подхода. Когда я говорю «дерево», в моем сознании всплывает не некий платоновский идеал дерева и уж тем более не конкретный тополь за моим окном. Всплывает концепт, который определен исключительно своим местом в сети других концептов: он не «камень», не «река», не «облако». Язык – это не номенклатура для мира, а автономная система плавающих дифференциалов. Соссюр отделяет язык (langue) – социальную, объективную систему – от речи (parole) – ее индивидуального воплощения. И именно система, а не индивидуальный опыт, является первичной.
Психологически это находит прямое подтверждение. Возьмите, к примеру, знаменитый феномен «слепого пятна» в восприятии цветов. У народа химба в Намибии есть несколько отдельных слов для оттенков зеленого, которые для носителя русского или английского языка выглядят как один цвет. И что удивительное, носители языка химба буквально видят эти оттенки по-разному, их мозг обрабатывает зрительную информацию иначе. Их языковая система буквально формирует их сенсорный опыт. Язык не описывает мир – он его фильтрует и структурирует на самом фундаментальном, доконцептуальном уровне.
Зародыш лабиринта
Так что же мы имеем к середине XX века? Два мощнейших интеллектуальных течения – поздний Витгенштейн и структурализм Соссюра – сходятся в одном, хотя и исходят из разных предпосылок.
1. Язык автономен. Его связь с миром «как он есть» проблематична, если не иллюзорна. Референция (связь слова с вещью) отходит на второй план, уступая место значению, которое определяется внутри самой системы.
2. Реальность конструируется. Наш опыт мира не является чистым, непосредственным данным. Он всегда уже пропущен через призму языковых категорий, грамматических структур, бинарных оппозиций (добро/зло, природа/культура, мужское/женское), которые мы воспринимаем как нечто само собой разумеющееся.
3. Нет точки Архимеда. Не существует некой внеязыковой, объективной позиции, с которой можно было бы оценить истинность наших высказываний. Мы всегда находимся внутри той или иной языковой игры, той или иной структуры.
Это и есть тот фундамент, на котором будет воздвигнут лабиринт зеркал. Витгенштейн и Соссюр показали, что стены нашей комнаты состоят из языка. Они были диагностами, трезвыми и точными. Но их последователи, очарованные мощью этого открытия, совершат роковую ошибку: они объявят, что кроме этих стен, ничего и нет. Они примут карту за территорию, меню – за обед, а бесконечное отражение зеркал – за подлинную глубину мироздания.
С точки зрения нагуализма, произошло нечто иное. Мы наблюдаем триумф Тоналя – того острова описания, который, достигнув невероятной сложности и изощренности, начинает отрицать само существование океана Нагваля, его породившего. Языковые игры Витгенштейна и структуры Соссюра – это описание самой сложной и тонкой работы тоналя по самоорганизации и самоподдержанию. Но это описание, возведенное в абсолют, становится ловушкой. Оно подобно тому, как если бы аквариумная рыбка, составив исчерпывающую науку о стекле, воде и водорослях в своем аквариуме, пришла к выводу, что весь мир исчерпывается ее аквариумом.
Следующий шаг был неизбежен. Если язык – это автономная система различий, не имеющая выхода к реальности, то что мешает нам деконструировать ее до основания? Что мешает показать, что любой текст содержит в себе семена собственного разрушения? Именно этим и займутся герои следующего раздела – Деррида и Фуко, архитекторы того самого лабиринта, в который мы сейчас готовимся войти.
3. Триумф деконструкции: Деррида и исчезновение присутствия
Если Витгенштейн и Соссюр заложили фундамент лабиринта, то Жак Деррида стал его гениальным и неутомимым архитектором. Его философия – это не просто очередная теория, это землетрясение, которое подрывает саму почву, на которой стояла западная мысль на протяжении двух с половиной тысячелетий. Деконструкция – его главное детище – это не метод в привычном смысле слова, не набор инструментов для анализа. Это скорее вирус, который, будучи внедрен в текст, обнажает его скрытые, часто постыдные механизмы работы, его внутренние противоречия и неразрешимые апории. Деррида не строил новые системы; он показывал, что любая система изначально обречена на провал, ибо построена на подавлении собственной нестабильности.
Критика логоцентризма: Нет ничего под солнцем, кроме текста
В основе всей западной метафизики, утверждает Деррида, лежит «логоцентризм» – неистребимая вера в некий прочный, внеязыковой центр смысла, в Присутствие. Этим центром в разное время выступали Бог, Разум, Истина, Cogito, Материя, Трансцендентальный Субъект. Этот центр придает системе устойчивость, служит точкой отсчета, гарантом смысла. Он – то солнце, вокруг которого вращаются все планетарные системы философских понятий.
Деррида объявляет этому солнцу войну. Он показывает, что этот центр – иллюзия, необходимый для функционирования системы фантом. На самом деле, центр парадоксален: он должен быть частью системы, которую структурирует, и одновременно находиться вне ее. Он должен быть трансцендентным. Любая попытка описать его, помыслить его, втягивает его в игру языка, лишая статуса неприкасаемого абсолюта. Таким образом, логоцентризм – это метафизическая тяга к стабильности, к наличию (presence) некой исходной, самотождественной истины.
Но Деррида идет дальше. Он заявляет: «Il n’y a pas de hors-texte» – «Нет ничего вне текста». Этот афоризм часто понимают превратно, как утверждение, что книг не существует. Нет, он означает нечто более радикальное: нет никакого доступа к реальности, который не был бы уже опосредован знаковыми системами, контекстами, следами других значений. Мы обречены иметь дело не с вещами, а с текстами о вещах, которые, в свою очередь, являются текстами о других текстах. Референция – прямая связь слова с вещью – уступает место интертекстуальности – бесконечной игре отсылок одного текста к другому.
Дифферанс: Двигатель смысла, который невозможно увидеть
Сердцевиной дерридианской мысли является неологизм différance (с французским «а», неразличимым на слух). Это понятие, которое нельзя определить классически, ибо оно обозначает сам процесс, делающий любое определение возможным и невозможным одновременно. Différance – это гибрид двух значений французского глагола différer: «различать» и «откладывать».
1. Пространственное различение. Как и у Соссюра, значение существует лишь в сети различий. «Свет» – это то, что не «тьма», не «тяжесть», не «тишина». Но Деррида добавляет, что это различение – не статичное состояние, а активный, насильственный акт проведения границы. Чтобы нечто обрело смысл, нечто иное должно быть отброшено, подавлено, маргинализировано.
2. Временная отсрочка. Значение никогда не присутствует здесь и сейчас. Оно вечно откладывается, «скользит» по цепочке означающих. Поймать его – все равно что пытаться поймать тень. Что такое «дом»? Это крыша? Стены? Очаг? Безопасность? Воспоминание детства? Концепт из учебника по архитектуре? Значение «дома» постоянно ускользает, отсылая нас к другим понятиям, другим контекстам, другим воспоминаниям. Оно не присутствует, а лишь намекает на свое присутствие через бесконечную отсрочку.
Différance – это, таким образом, двигатель, который вращает вселенную смысла, но сам он не является ни смыслом, ни понятием, ни чем-то существующим. Он – условие возможности значения и одновременно условие его невозможности как чего-то стабильного и самотождественного. Это почерк, который мы можем увидеть только по его следам на бумаге, но никогда – в момент его написания.
Деконструкция на практике: как читать тексты против них самих
Что же делает деконструктор, вооруженный этим знанием? Он не «разбирает» текст на части, как механизм. Он вступает с ним в своего рода дзюдо, используя его собственную силу против него. Он ищет в тексте момент, когда его логика дает сбой, когда подавленное, маргинальное значение вдруг подрывает главный тезис.
Классический пример – деконструкция оппозиции «природа/культура». Западная мысль всегда рассматривала природу как нечто первичное, данное, а культуру – как вторичное, наложенное. Но что такое «природа»? Это концепт, созданный культурой! Само различение между природным и культурным является культурным актом. Деконструкция показывает, что каждый термин в бинарной оппозиции зависит от своего «другого» и содержит его в себе в подавленном виде. Природа не существует до культуры, она конституируется через нее.
Другой пример – понятие «дополнения» (supplément) у Руссо. Руссо противопоставляет «естественное» (речь, непосредственность) «искусственному» (письмо, которое он называет опасным дополнением). Но Деррида показывает, что сама «естественная» речь уже содержит в себе структуру письменности – отсрочку, отсутствие, возможность повторения. Письмо не просто добавляется к речи извне; оно было ее скрытым условием с самого начала. Таким образом, подавленный, маргинальный член оппозиции (письмо) оказывается структурно первичным.
Психологическое измерение: Травма, которую нельзя артикулировать
С точки зрения психологии, деконструкция находит поразительные параллели. Она работает как искусный терапевт, который слушает не только то, что говорит пациент, но и то, что он замалчивает, о чем говорит с оговорками, противоречиями, обмолвками. Симптом (например, фобия или навязчивое действие) – это и есть то «подавленное» текста бессознательного, которое прорывается наружу и подрывает сознательный, логичный нарратив, который пациент рассказывает о себе.
Более того, сама структура травмы соответствует логике différance. Травматическое событие не может быть полноценно пережито и ассимилировано в момент его совершения. Оно не «присутствует» в памяти как связная история. Оно существует лишь в виде отсроченных, фрагментированных следов – ночных кошмаров, телесных зажимов, непроизвольных воспоминаний-вспышек (flashbacks). Его значение вечно ускользает, оно не поддается прямой артикуляции. Психоанализ, по сути, и есть практика деконструкции ложного, цельного «Я» пациента, чтобы столкнуть его с его собственным неразрешимым, травматическим ядром.
Триумф и тупик: Философия как искусство подозрения
Триумф деконструкции был оглушительным. Она дала в руки гуманитариям инструмент невероятной мощи. Теперь можно было показать, что любой закон, любой политический манифест, любой научный труд, любой литературный текст содержит в себе внутренние противоречия, скрытые иерархии и подавленные голоса. Философия окончательно превратилась в «искусство подозрения», в бесконечную герменевтику недоверия.
Но за этот триумф пришлось заплатить страшную цену – цену тотального релятивизма и паралича воли. Если любой текст можно деконструировать, если любая позиция оказывается заложником своих же подавленных оппозиций, то как действовать? Как выбрать между одним политическим курсом и другим, если оба они в равной степени «нестабильны» и «логически несостоятельны»? Если «истины» нет, а есть лишь бесконечная игра интерпретаций, то фашистский дискурс оказывается ничуть не хуже гуманистического – он просто другая языковая игра. Деконструкция, начав как освободительная критика всех догм, сама превратилась в догму, объявившую, что за пределами текста и интерпретации ничего нет.
Взгляд из нагуализма: Тональ, пожирающий сам себя
С позиции нагуализма, проект Деррида – это апофеоз и одновременно агония Тоналя. Это описание мира, которое достигло такой степени рефлексивной сложности, что начало деконструировать само себя. Тональ, остров означенного, объявил войну самому понятию «острова», разоблачив все свои попытки обрести твердую почву как фиктивные. Это гигантский, саморазрушающийся акт интеллектуальной честности, который, однако, зашел в тупик, потому что не признает ничего, кроме самого себя.
Деконструкция блестяще показывает, что все наши описания мира – это конструкции, лишенные прочного фундамента. Но она останавливается перед последним, решающим шагом. Она не признает, что существует нечто до описания, до языка, до текста. Она отрицает Нагваль – немыслимую, неописуемую, но ощущаемую основу, из которой все описания возникают.
Практика нагуализма предлагает выход из этого тупика не через дальнейшую деконструкцию, а через радикально иной шаг – остановку мира. Если деконструкция – это бесконечное усложнение текста, то остановка мира – это приостановка самого процесса текстуализации. Это не создание нового, более «правильного» описания, а временный выход за пределы всякого описания в опыт прямого, невербализуемого восприятия энергии. Деконструкция говорит: «Всё – текст». Нагуализм отвечает: «Текст – это лишь одна, очень узкая полоса спектра. Есть целый океан за ее пределами, и к нему можно обратиться лицом, если перестать наконец читать».
Таким образом, триумф деконструкции обернулся ее собственным поражением. Она освободила мысль от тирании Логоса, но заточила ее в бесконечном лабиринте самореферентных зеркал. Она была необходима как горькое лекарство от метафизических иллюзий, но сама стала иллюзией того, что кроме иллюзий ничего не существует. И именно в этой точке предельного отчаяния от перспективы вечно скользить по поверхности смысла, никогда не касаясь дна, рождается запрос на то, что лежит по ту сторону текста.
4. Власть/Знание: Фуко и тотальный дискурс
Если Деррида показал, что текст не имеет дна, то Мишель Фуко продемонстрировал, что тексты – или, как он предпочитал говорить, дискурсы – имеют зубы. Они не просто плавают в безвоздушном пространстве интертекстуальности; они прорастают в плоть и кровь социальных институтов, формируют тела, калечат судьбы и производят саму реальность, в которой мы живем. Его концепция «власть/знание» (pouvoir-savoir) – это, возможно, самый трезвый и безжалостный анализ того, как абстрактные идеи превращаются в конкретные практики подчинения и как невинные, на первый взгляд, поиски истины оказываются переплетены с механизмами власти.
От суверенной власти к биовласти: Анатомия нового режима
Чтобы понять революционность Фуко, нужно увидеть, какую модель власти он отвергает. Классическая, «суверенная» власть – это власть монарха, который может сказать: «Вот моя межа, и всякий, кто ее переступит, лишится головы». Это власть отнимать жизнь, власть негативная, репрессивная, действующая через прямой запрет и публичную казнь.
Фуко же описывает рождение в XVII—XVIII веках совершенно иного типа власти – биовласти (biopouvoir). Это власть не отнимать жизнь, а управлять ей. Власть не над смертью, а над жизнью, над популяцией как биологическим видом. Ее интересует рождаемость, смертность, здоровье, гигиена, сексуальность. Она не говорит «умри», она говорит «живи» – но предписывает, как именно тебе следует жить, чтобы быть полезным, здоровым, продуктивным и нормальным членом общества.
Эта власть действует не через меч палача, а через бесчисленные и, казалось бы, благостные практики: сбор статистики, медицинские осмотры, санитарные нормы, образовательные программы, градостроительное планирование. Она рассеяна по всему социальному телу, воплощена в чиновниках, врачах, учителях, психологах. Ее идеальная метафора – паноптикум Иеремии Бентама: круговое здание тюрьмы, где надзиратель, находясь в центральной башне, может видеть всех заключенных, в то время как они не видят его. Заключенные, не зная, наблюдают ли за ними в данный момент, начинают внутренне дисциплинировать сами себя. Власть становится невидимой, но оттого – тотальной.
Дискурс как система производства реальности
И здесь мы подходим к сердцевине теории Фуко. Знание (savoir) – это не нейтральное отражение предзаданной реальности. Оно является продуктом дискурсивных практик – правил, которые определяют, что может быть сказано по определенному вопросу, кем, в какой форме и с какими последствиями. Дискурс – это не просто речь; это система, которая производит объекты, о которых можно говорить. Не существует «безумия» самого по себе, пока дискурс психиатрии не конституирует его как объект научного изучения, не классифицирует его, не описывает его симптомы и не выделяет его из континуума человеческого поведения.
Таким образом, Власть и Знание неразделимы (отсюда и дефис в понятии «власть-знание»). Власть производит знание, а знание, в свою очередь, легитимирует и усиливает власть. Не существует власти без дискурса, который ее рационализирует и оправдывает, и не существует знания, которое не было бы вплетено в отношения власти.
Давайте рассмотрим это на трех ключевых для Фуко примерах-лабораториях:
1. Психиатрия и рождение «безумца».
В Средневековье и эпоху Возрождения «безумец» мог быть юродивым, одержимым, провидцем или просто маргиналом. С рождением клиники в XIX веке дискурс психиатрии конституирует его как больного. Его экзистенциальный бунт, его инаковость переводятся в регистр симптомов, диагнозов и прогнозов. Власть врача заключается не только в том, чтобы запереть его, но и в том, чтобы истолковать его, навесить на него ярлык, вписать его жизнь в историю болезни. Знание о безумии (его классификация) дает власти над безумцем легитимность, а практика изоляции и «лечения» дает психиатрии новый материал для производства знания. «Душевнобольной» – это не естественная категория, а продукт этого союза власти-знания.
2. Тюрьма и производство «преступника».
Фуко в «Надзирать и наказывать» начинает с шокирующего описания публичной казни – театра суверенной власти. А затем показывает, как ее сменяет совсем иной механизм – тюрьма с ее расписанием, надзором, трудом и экзаменами. Целью становится уже не покарать тело, а исправить душу. Преступник конституируется не просто как нарушитель закона, а как девиантная личность, чья психика, биография и среда подлежат изучению и коррекции. Криминология, психология, социология производят знание о «преступном типе», а пенитенциарная система использует это знание для управления им. Преступник – это не тот, кто совершил преступление; это тот, кого дискурс криминологии и институт тюрьмы определили и создали как преступника.
3. Сексуальность и конституирование субъекта.
Общепринято считать, что викторианская эпоха была эпохой подавления сексуальности. Фуко утверждает обратное: это была эпоха невиданной дискурсивной интенсификации сексуальности. О ней не молчали – о ней говорили, писали, ее классифицировали, ее делали объектом медицинских, педагогических, психиатрических исследований. Появились «гомосексуалист», «нимфоманка», «извращенец» – не как грешники, а как типы личности, субъекты со своей особой, достойной изучения природой. Власть производила все новые и новые виды сексуальности, чтобы ими управлять. Сам акт исповеди, перенесенный из религиозной в медицинскую и психоаналитическую сферу, заставлял человека постоянно высказывать правду о своем желании, тем самым конституируя его как «сексуального субъекта». Мы стали обществом, одержимым признанием в своих желаниях, веря, что в этом признании – ключ к нашей подлинной сущности. Но, по Фуко, эта «сущность» и была создана самим дискурсом, который принуждал нас ее искать и высказывать.
Психологическое измерение: Интериоризация надзирателя
С точки зрения психологии, анализ Фуко объясняет механизм формирования супер-эго в масштабах всего общества. Паноптикум – это не просто тюремная архитектура; это метафора нашего ментального устройства. Мы все – и надзиратели, и заключенные в одном лице. Мы с детства усваиваем «нормальные» модели поведения, сексуальности, здоровья, успеха. Мы сами начинаем надзирать за собой, испытывать чувство вины за свое «несоответствие», стремиться к самодисциплине и самокоррекции. Психолог в кабинете, проводя тесты и ставя диагнозы (СДВГ, депрессия, биполярное расстройство), является агентом этой власти-знания. Он не просто помогает; он каталогизирует, нормализует и индивидуализирует – прикрепляет к человеку ярлык, который одновременно и объясняет его страдания, и закрепляет его за ним как за его личной проблемой, отвлекая от социальных и политических ее причин.