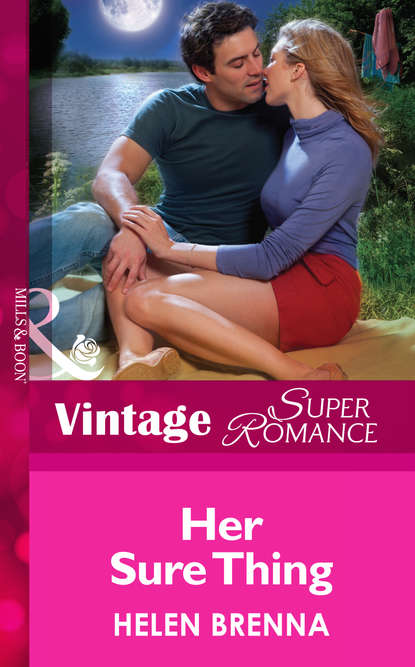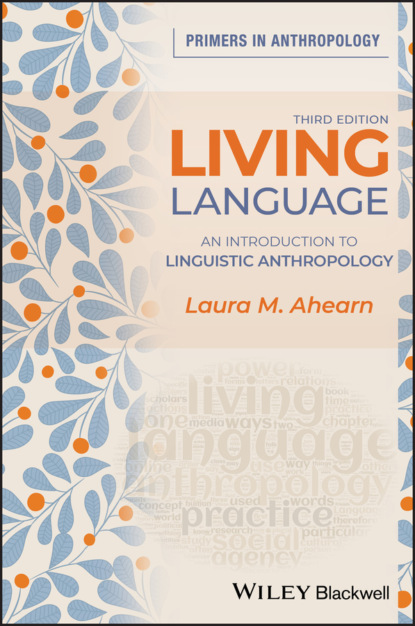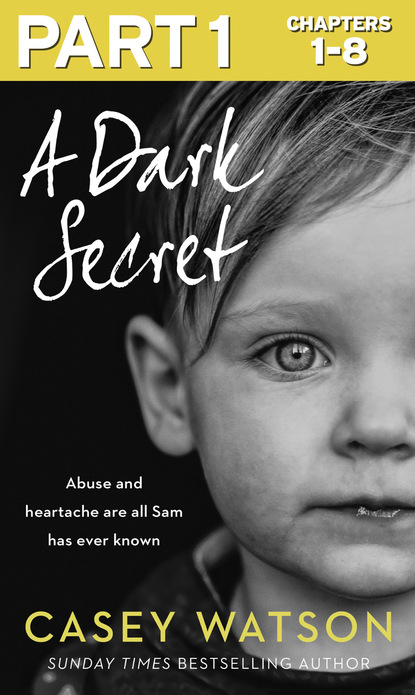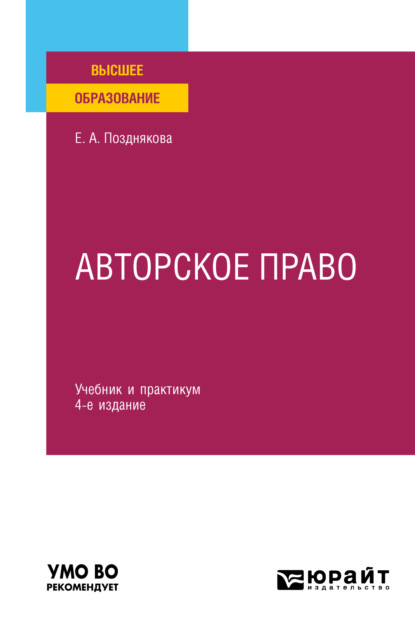Томские трущобы. Человек в маске. В погоне за миллионами
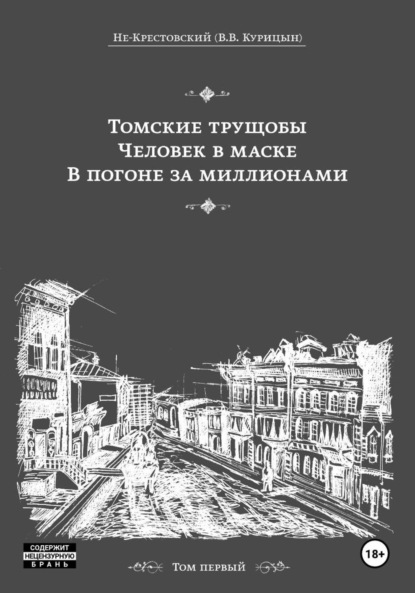
- -
- 100%
- +

Предисловие
«Томские трущобы» Не-Крестовского (В. Курицына) – одна из самых известных томских книг с необычной «издательской судьбой». Написанная и дважды изданная в начале XX века, в советский период книга оказалась «в немилости» у советской власти. Это неудивительно, ведь здесь не было ни классовой борьбы, ни рабочих-протестантов, ни тяжелой крестьянской судьбы… Действовали в ней главным образом мошенники и преступники, задумывавшие свои «темные дела», успешно – или неуспешно – их совершавшие, а потом отмечавшие свои успехи в ресторанах и в гостях у «томских гейш». «Томские трущобы» были частью городского фольклора, своеобразной «тайной» местного населения, знания о которой передавались из уст в уста. Но передавались не только слухи – по рукам ходили рукописи, перепечатанные под копирку на печатных машинках.
Одним словом, выпав из сферы официального литературоведения и книгоиздания, роман продолжал свое существование на уровне фольклора и самиздата. Неудивительно поэтому, что, как только в 1990-е годы подул «ветер перемен», журналисты воспользовались возможностью «легализовать» «Томские трущобы». В 1990 году томское издательство «Красное знамя» переиздало роман, установив при этом тираж в 50 тысяч экземпляров. Книга стала важной вехой общественного подъема 1990-х годов, символом свободы, перемен и новых возможностей.
Две тонкие узкие книжечки – «Томские трущобы» и «Человек в маске», – лаконично оформленные, тогда оказались в библиотеке у каждого уважающего себя томича. А с появлением первых онлайн-библиотек роман Не-Крестовского благополучно был загружен в сеть, и с этого времени оказался доступен всем желающим.
Так вот, и в начале двадцатого века, и в начале двадцать первого все так же остается актуальным вопрос: почему книгу «Томские трущобы» читают? В чем секрет ее «живучести» и популярности у читателей? Ведь этот роман не был единственным произведением, созданным томским писателем: и до революции 1917-го, и после в Томске были замечательные поэты и беллетристы: Г. Гребенщиков, Г. Вяткин, И. Гольдберг, В. Шишков, П. Казанский и многие другие… Не-Крестовский (под таким псевдонимом писал В. Курицын) не являлся самым крупным и известным среди них.
Опять же, «Томские трущобы» – книга очень специфическая. Это авантюрный уголовный роман, где можно найти и преступления, и мистику, и роковую любовь, и загадочную шайку «Мертвая голова», и тайные игорные притоны, и запутанные интриги… В начале XX века такие романы называли – «чтиво», это была массовая литература для непритязательной публики. А в 1990-е годы иметь роман на своей книжной полке пожелал каждый интеллектуал.
Думается, что читательский успех «Томских трущоб» основан по меньшей мере на трех составляющих – на «трех китах».
Во-первых, действие в романе разворачивается не столице, не в каком-то российском городе или символическом месте, в котором читатель узнавал бы приметы Томска. Герои романа живут непосредственно в этом городе, встречаются в реально существующем томском районе Болото и на железнодорожной станции Межениновка, заходят в известную дореволюционную гостиницу «Европа», участвуют в скачках на томском ипподроме, прогуливаются по Лагерному саду, уезжают по делам в Барнаул и Ново-Николаевск (нынешний Новосибирск) и т.д. При желании можно было не просто представить себе маршруты героев, а пройти по ним в реальном городе. Читатель без труда мог вообразить себя на месте романных героев и вместе с ними окунуться в неповторимую атмосферу дореволюционного Томска.
Вторая составляющая успеха романа заключалась в его реализме, что особенно важно было для дореволюционного читателя. В.В. Курицын в «Томских трущобах» описал положение дел в Томске, весьма близкое к действительности. Город в конце XIX – начале XX века был опасным местом, где постоянно грабили и убивали людей, подкидывали младенцев, устраивали поджоги и погромы… Страницы томской дореволюционной периодики предоставляют любому желающему возможность самостоятельно убедиться в том, что томские будни были наполнены насилием и уголовщиной. Благодаря Не-Крестовскому читатели получали возможность заглянуть в этот закрытый «параллельный мир» криминала, с которым обыватели были вынуждены постоянно существовать бок о бок, практически не имея возможности от него защититься.
Ну и в-третьих: главный недостаток «Томских трущоб» – его «бульварность» и авантюрность – это, как водится, и его главное достоинство. Этот уголовный роман, в котором есть вероломные красавицы и благородные разбойники, где ведутся поиски сокровищ (в томской тайге!) и совершаются жестокие преступления – его действительно интересно читать! Причем главная интрига романа – личность главного преступника, собственно Человека в маске – не раскрывается вплоть до заключительной главы второй книги.
Одним словом, «Томские трущобы» – замечательный дореволюционный детектив… и отдельным детективом оказалась попытка восстановить его полный текст.
Дело в том, что целиком роман так и ни разу не вышел отдельной книгой. Издали первую часть, «Томские трущобы» – дважды до революции, один раз в 1991 году (издательство «Красное знамя») и один раз в 2013 году (издательский дом «Ленинград»). Дважды издавали первую часть романа «Человек в маске» – первую главу под названием «Герой томского полусвета»: в 1908 году и в 1991-м (в том же издательстве «Красное знамя»). И вот в этом-то переиздании «лихих девяностых» годов «Человек в маске» закончился следующим «послесловием»:
«Продолжения не последует?
Районная общественно-политическая газета «Томское предместье», публиковавшая роман «Человек в маске», 19 октября 1991 года сообщила:
«Должны разочаровать читателей, ожидающих продолжения романа В. Курицына (Не-Крестовского) «Человек в маске». Сотрудники редакции встретились с теми томичами, которые коллекционируют редкие издания или имеют их в так называемых «списках» (перепечатанными на машинке). Второй части романа ни у кого не оказалось.
Оставалась последняя надежда на Научную библиотеку Томского университета. Там мы просмотрели подшивки газеты «Сибирская жизнь» начала нынешнего века, где сотрудничал В. Курицын. Тщетно. В научно-библиографическом отделе библиотеки нам выдали справку: в отделе редких книг имеются романы Не-Крестовского «Томские трущобы» (наша газета перепечатала его в 1990 году по «спискам») и «Человек в маске» – только первая часть.
Мы бы рады были ошибиться, но выходит, что «Человек в маске» оказался неоконченным романом. Несмотря на это, редакция продолжит поиски…»
Добавим к этому сообщению еще одно предположение: «Человек в маске» мог быть составной книгой общего романа «Томские трущобы». И, судя по всему, автор просто не успел написать вторую часть этой книги. Последовала скоротечная кончина…
Тем не менее издательство печатает «Человека в маске» как отдельную книгу».
Вот так, внезапно, издатели «потеряли» целый роман и досрочно «похоронили» его автора (Курицын умер в 1911 году, первая часть «Человека в маске» окончена в 1908-м).
Между тем «Человек в маске» оказался самым объемным произведением Курицына. Он состоит из пяти частей:
1 – «Герой томского полусвета» (45 глав) – 1908 г.
2 – «В омуте шантажа» (42 главы) – 1908 г.
3 – «Король преступников» (41 глава) – 1908-1909 гг.
4 – «Тайна золотого ключа»(51 глава)– 1909 г.
5 – «Ценою крови» (53 главы) – 1909-1910 гг.
И конечно бесполезно было искать его в газете «Сибирская жизнь» – ведь печатался он в газете «Сибирские отголоски». По этому первоисточнику и был восстановлен полный текст романа.
Именно благодаря Научной библиотеке ТГУ, в которой сохранились уникальные фонды дореволюционных сибирских газет, стало возможным «вернуть» роман современным читателям. Увы, в Томске часть газетных номеров все-таки отсутствовала – пришлось искать их в библиотеках Санкт-Петербурга и Москвы во время командировок. И, к сожалению, качество газетных подшивок исключало возможность хоть какой-то автоматизации – весь роман пришлось набирать вручную, сверяя текст с газетными оригиналами. Ушло на это около трех лет, а на последнем этапе поджидал очередной сюрприз…
Роман «Томские трущобы», который переиздан в 1990-х годах и размещен в интернет-библиотеках, как бы это мягко сказать… процентов на тридцать не совпадает с оригинальным текстом Не-Крестовского. При сверке текстов не устаешь удивляться разнообразию несовпадений.
1. Пропуск слов, предложений
– И то, надо выпить, – взялся Александр за бутылку. – Прямо невозможная погода! (в переиздании 1990 года нет этих слов)
***
Филька сделал выразительный жест рукой.
– И не пикнет! (в переиздании 1990 года строка отсутствует)
–Ну, айда, ребята!
***
Этот прием на языке мошенников обозначается термином: «смирить стекло» (в переиздании строка была пропущена).
***
… Метель продолжала бушевать, вздымая столбы и кружа их вдоль улицы… (в переиздании 1990 года предложение отсутствует).
2. Изменен порядок слов
Ни один мускул не дрогнул на лице Александра, он только слегка нахмурил брови… (было: на его лице).
3. Замена слов
Свет электрических лучей (было: электрического фонаря) прорезал темноту.
***
– Нам надо торопиться, ребята, – начал Александр (в переиздании 1990 года: – Наши, поди, торопятся ребята! – заметил Александр).
***
Снежная пурга засыпала им глаза, едва они вышли из сеней. (В переиздании 1990 года: Сильная пурга слепила им глаза, валила с ног)
***
Вся обстановка кабинета: мягкая мебель, обтянутая черным сафьяном (было: драпри), тяжелые бархатные драпи (было: занавески), дорогой пушистый ковер, застилающий почти весь пол комнаты – все говорило о богатстве хозяина этого кабинета.
4. Изменение формы слова
Сашка вытащил из кармана небольшой электрический фонарик с запасной батареей (было: батарейкой), нажал кнопку и осветил сени.
***
– Все спят, кажись (было: кажется)!
5. Изменение названий глав
1907 год
1990
Любовь победила (глава 13)
Ссора
В вертепе продажной любви (глава 10)
В гостях у «тетеньки»
В старом доме (глава 9)
Пленница
Тоня в интернет-версии стала Таней; одного из своих героев – Сашку Пройди-Света – Курицын предпочитал называть Александром, издатели 1990-х годов – Сашкой… 14-я глава «Томских трущоб» в переиздании вообще пропущена – ее пришлось восстанавливать по книге 1908 года (издатели 1990-х годов изящно «выкрутились» из ситуации, пронумеровав главу № 13 – № 13-14 – тем самым сохранив оригинальное количество глав).
И вот наконец теперь мы можем сказать: «Томские трущобы» возвращаются к своим читателям во всем своем первоначальном замысле, во всех трех книгах – пусть последняя и не была дописана автором.
* * *
Но был ли Курицын «первооткрывателем» этого жанра – романа «из местной жизни», публиковавшегося на страницах периодического издания? Конечно нет.
В дореволюционной России романы – как и другие художественные произведения – довольно часто публиковались как в журналах, так и в газетах. Стихотворения, рассказы, очерки, фельетоны можно было встретить и на страницах сибирских, в том числе и томских, периодических изданий.
Первым романом, который появился на страницах томской газеты, был роман-фельетон «Не столь отдаленные места» (Сибирская газета, 1886-1888)1. Его автором был известный русский писатель К.М. Станюкович, отбывавший административную ссылку в Томске. Роман был подписан псевдонимом «Н. Томский».
Специфика этого произведения заключалась в «узнаваемости» его персонажей и мест, где происходило действие. Основные события романа разворачивались в сибирском городе «Жиганске», в котором легко угадывался город Томск. Среди действующих лиц были жиганский губернатор Ржевский-Пряник, в котором читатели узнавали томского губернатора И.И. Красовского, редактор Шайтанов (редактор «Сибирской газеты» А.В. Адрианов), чиновник Пятиизбянский (управляющий томской казенной палатой М.А. Гиляров) и т.д. В сюжет романа были вплетены и такие события, происходившие в Томске в 1881-1888-х годах, как публикация «корреспонденции» из Томска в «Московских ведомостях» Каткова, появление оппонента «Сибиркой газеты» – «Сибирского вестника», потрясшее своей жестокостью убийство целой семьи в Томске и так далее.
Роман был написан в разгар полемики «Сибирской газеты» и второй частной газеты Томска, «Сибирского вестника», и отражал видение К.М. Станюковича (как члена редакции «Сибирской газеты») специфики развития томского общества. Публикация в газете придала роману-фельетону особую публицистичность, он перекликался с газетным контекстом и приобретал значимость и глубину, исчезнувшую при его переиздании отдельной книгой. Сыграла свою роль и пространственная организация текста: в газете главы публиковались небольшими частями, заканчивались, по законам жанра, «на самом интересном месте», что придавало динамичность повествованию. Роман был напечатан в газете практически полностью, в нее не вошли только последние две главы и эпилог. Целиком он был опубликован в Санкт-Петербурге в 1889 году, вошел в собрания сочинений К.М. Станюковича 1897 и 1907 годов (под названием «В места не столь отдаленные»), в 1964 году был переиздан в Новосибирске.
Долгое время роман-фельетон К.М. Станюковича был единственным примером создания целостного романного произведения, опубликованного в газете. Следующие публикации были скорее попытками выйти на уровень полноценного «газетного романа». Речь идет прежде всего о двух произведениях, которые публиковались в газете «Сибирский вестник»: это роман-хроника «В житейском омуте» (автор – В.А. Долгоруков, псевдоним «Г.В. Суздальский», отрывки из первой части «Литературная богема» были опубликованы в 1890 году), и роман «Весенние грозы» (автор – Дм. Арсеньев, в 1905 году были опубликованы пролог и девять глав первой части под названием «Веяние времени»).
Автор первого романа, В.А. Долгоруков, представитель знаменитого российского рода Долгоруковых, литературно одаренный человек, попавший в Сибирь как уголовный ссыльный, задумал свое произведение как достаточно объемное и по охвату материала, и по проблематике. Роман-хроника должен был состоять из трех частей: «Литературная богема», «Мишура и грязь» и «Тюрьма и край неволи», и охватить 1860-е и 1870-е годы (Сибирский вестник. 1890. № 67). Сюжет был выстроен вокруг судьбы молодого графа Нагорева, в котором угадывались автобиографические черты самого Долгорукова: он входил в редакции столичных периодических изданий, находился в окружении «золотой молодежи» Петербурга, попадал под влияние мошенников и т.д. Вторая часть, судя по замыслу, должна была описать уголовную авантюру, в которую оказался вовлечен главный герой, а третья – рассказать о суде и ссылке в Сибирь.
Публикация романа была прекращена по неизвестным причинам, но в целом можно сказать, что Долгоруков не справился с жанром романа. Его герой малоинтересен, событийный ряд довольно беден, жизнь Петербурга показана схематично и т.д. О художественных достоинствах романа говорить можно с большой натяжкой.
Роман «Весенние грозы» Дм. Арсеньева был заявлен как «роман из двух частей с прологом». Пролог (он имел собственное название «Под Мукденом») в этом произведении имел особую ценность и значимость. Динамично, образно, можно даже сказать – кинематографично автор описывал в нем отступление русских войск после Мукденского сражения во время русско-японской войны 1904-1905 гг. Диалоги, жанровые сценки, разномасштабные зарисовки переносили читателя в гущу событий, воссоздавали общую атмосферу военного времени. Пролог служил и завязкой действия: на поле боя неожиданно встречались старые друзья (раненый офицер Нефедьев, медсестра Мария Карасева, врачи военного госпиталя), что давало автору возможность перенести действие в прошлое, описать момент знакомства главных героев. Однако первая глава оказалась излишне затянутой, динамика была утрачена, а вскоре и сама газета была закрыта цензурой в 1906 году. Трудно судить о том, насколько удачен оказался бы этот роман, но сама попытка (и особенно пролог) вполне заслуживали читательского внимания.
Наконец в 1907 году в газете «Сибирские отголоски» начал печататься уголовный роман-хроника «Томские трущобы» В. Курицына, выступившего под псевдонимом «Не Крестовский». В 1908-1910 в этой же газете было опубликовано продолжение романа – «Человек в маске», а после его окончания В.В. Курицын попробовал свои силы в качества автора двух романов, которые публиковались в «Сибирских отголосках» одновременно в 1910 году. Хронология выглядела следующим образом:
– 24 января 1910 года завершилась публикация романа «Человек в маске» (Сибирские отголоски. 1910. № 14);
– 28 января началась публикация «романа-хроники из событий 1905 года» «В зареве пожара» (Сибирские отголоски. 1910. № 16);
– 20 мая параллельно с «революционным романом» начал публиковаться роман «В погоне за миллионами» (Сибирские отголоски. 1910. № 72).
Романы «В зареве пожара» и «В погоне за миллионами» и прекращены были одновременно, поскольку с 1 августа 1910 года газета «Сибирские отголоски» перешла от В.А. Долгорукова к В.Т. Молотковскому и М.И. Преловскому. Новые издатели первым делом сменили нумерацию «Сибирских отголосков» и в № 1 за 1910 год объявили, что газета будет выходить «в увеличенном формате, под новой редакцией и при новом составе сотрудников» (Сибирские отголоски. 1910. № 1). В обновленных «Отголосках» уже не нашлось места ни В.В. Курицыну, ни его романам.
В итоге роман «В зареве пожара» был опубликован в составе пролога «Побежденные», первой части «Весенние грозы» (32 главы) и второй части «Под знаменами свободы» (3 главы), а роман «В погоне за миллионами» остался на страницах газеты в виде десяти глав первой части «Под гипнозом страсти».
Тематически последние два романа Не-Крестовского коренным образом отличались друг от друга. В «революционном романе» шла речь о подготовке к событиям Первой русской революции и общественном движении в провинции, а во втором, заявленном как продолжение «Томских трущоб» и «Человека в маске», вновь началась охота мошенников за «легкими деньгами». Но на газетной полосе они размещались одинаково, поскольку принцип подачи материала определялся особенностью формата: главы были небольшого размера, размешались в «подвале» (нижней части) газетной страницы, каждая глава имела броское, чаще всего «интригующее» название, а в тексте глав постоянно встречались отсылки к событиям и героям, о которых говорилось в предыдущих номерах.
После того, как в «Сибирских отголосках» была прекращена публикация романов В.В. Курицына, в дореволюционном Томске была осуществлена последняя попытка «газетного романа» – в газете «Сибирский свет» на протяжении 1916-1917 годов публиковался роман В.В. Невского (псевдоним «Могуч») «Герои сибирского Чикаго». Он продолжил традицию авантюрного криминального романа на местном материале, только действие его разворачивалось в соседнем Новониколаевске (современный Новосибирск), так называемом «сибирском Чикаго». Этот роман не был окончен из-за закрытия газеты «Сибирский свет» в 1917 году, в связи с попыткой установления в Сибири советской власти.
Таким образом, очевидно, что романное творчество В.В. Курицына возникло в Томске не на «пустом месте». Оно оказалось частью традиции, зародившейся задолго до появления на рынке произведений Не-Крестовского и окончившейся только в связи с переходом томской журналистики от дореволюционного к советскому периоду развития. Однако вклад В.В. Курицына в развитие «газетного романа» чрезвычайно важен. Во-первых, он показал возможности этого специфического жанра, уловив потребность аудитории в развлекательном чтении, показал востребованность авантюрного романа у массового читателя.
* * *
Но все-таки, почему – «Не-Крестовский»? «Томские трущобы» – это «в пику» «Петербургским трущобам»? И вообще, кто это – В.В. Курицын, откуда он взялся на томском литературном «небосклоне»?..
Начнем с того, что биографические данные об авторе не просто скудны – они ничтожны. Мы до сих пор практически ничего не знаем об авторе. Вот буквально все известные факты о его жизни:
– Валентин Владимирович Курицын родился в городе Барнауле Томской губернии 28 июля 1879 г., в православной мещанской семье2;
– получил образование в Барнаульском горном училище;
– работал на частных золотых приисках, затем из-за проблем со здоровьем (всю жизнь Курицын страдал от легочных заболеваний) он переехал на постоянное жительство в Томск;
– в Томске стал служащим Сибирской железной дороги (с 1901 года), сотрудничал с газетой «Сибирские отголоски» и некоторыми другими периодическими изданиями3.
О семейной жизни Курицына достоверной информации нет, «в свидетельстве о смерти отмечено, что прямых наследников он не имеет»4.
Архивы не сохранились, писем не найдено…
Курицын прожил очень короткую жизнь, немногим более 30 лет. Он умер 18 января 1911 года от чахотки, был похоронен на Вознесенском кладбище в Томске. Газета «Сибирское слово писала» 21 января 1911 года:
«19 января с.г. на Вознесенском кладбище состоялось скромное придание земле тела умершего В. Курицына. Над могилой поэта в окружении немногочисленных друзей-литераторов Г. Гребенщиков произнёс прощальную речь, которая была полностью помещена в газете «Сибирская жизнь». По окончании похорон присутствующие товарищи покойного по перу собрались у одного из товарищей и посвятили несколько часов памяти покойного. Он умер от скоротечной чахотки 32 лет от роду».
Речь Г. Гребенщикова, которая был посвящена Курицыну, ярко отразила неоднозначное отношение известного сибирского писателя к своему «литературному собрату». Он отмечал, что томской публике этот «автор местных полубульварных романов «Томские трущобы», «В зареве пожара» и других» был известен «больше под псевдонимом «Не-Крестовский», при этом именно на публику возлагал вину за то, что у нее был востребован «лубочный товар», «ей больше по сердцу Пинкертоны» – и поэтому «как поэт В.В. Курицын не нужен был томичам», «как поэта его не хотели знать и не знали».5 И Г. Гребенщиков горько сожалел об отходе Курицына от своего поэтического призвания:
«Поэт-то в Курицыне был и долго боролся с бульварным романистом! Долгое время борьба эта причиняла тяжкую боль Курицыну-человеку. Долгое время разрушала она в нем лучшие уголки его души, наконец надломила организм и толкнула к единственному «русскому утешению» – рюмке… Но и беспощадность эта не вытравила в душе В.В. лучших человеческих черт, и с прекращением долгоруковских «Сибирских отголосков» – Курицын радовался случаю, что ему не нужно теперь готовить для них срочных лубочных фельетонов, – что, может быть, в глазах товарищей он вновь будет чистым, что, может быть, снова сможет призвать вспугнутую «романами» музу свою, которая у Курицына была нежной, элегически грустной и проникновенно вдумчивой…».6
В некрологе Г. Гребенщиков приводил в пример два стихотворения Курицына – «Казнь» и «Прости», которые, по мнению поэта, доказывали его талант и владение поэтическим словом. Оба они были посвящены размышлениям о смерти, об утрате молодости, счастья, и как нельзя лучше подходили к теме выступления Гребенщикова. Некролог заканчивался обращением к покойному собрату по перу:
«Чувствовал, должно быть.. И умер так, как и подобает умереть провинциальному писателю – бездомно, одиноко, всеми забытый и брошенный… Где-то в больнице на Плетневской заимке…
Ну что ж… Спи, брат! Отдыхай!»7
Несмотря на общую минорную тональность этого текста (что вполне объяснимо и в связи с обстоятельствами, и соответствует жанру некролога), обращает на себя внимание общий достаточно критический пафос выступления известного сибирского поэта: Курицыну ставилось в вину его «рабское служение» «грубой обывательщине», хотя и находились оправдания этому положению дел. При этом следует заметить, что Гребенщиков откликался на смерть далеко не всех литераторов, и сам факт некролога, принадлежащего перу томского «мэтра», показывал, что в литературном мире Томска Курицын занимал очень важное место, был хорошо известен и привлекал внимание не только публики, но и своих товарищей-писателей и поэтов.
Месяц спустя после смерти Курицына «Сибирская жизнь» еще раз упомянула о нем в публикации:
«29 января в 9-й день со дня кончины местного поэта В. Курицына – группа томских литераторов в квартире одного из товарищей покойного скромно справила своему собрату, так сказать, литературные поминки.
Друзей собралось немного, – да их и вообще у Курицына было немного, – делились воспоминаниями, читали стихи и отрывки из рассказов покойного и обменивались впечатлениями и мнениями о его творчестве. <…> В заключение товарищи-литераторы вынесли решение приступить к товарищескому изданию лучших произведений Курицына, для чего предпринять ряд действий к получению юридических прав на это издание, а затем собранию произведений и средств на издание» (Сибирская жизнь. 1911. № 23).