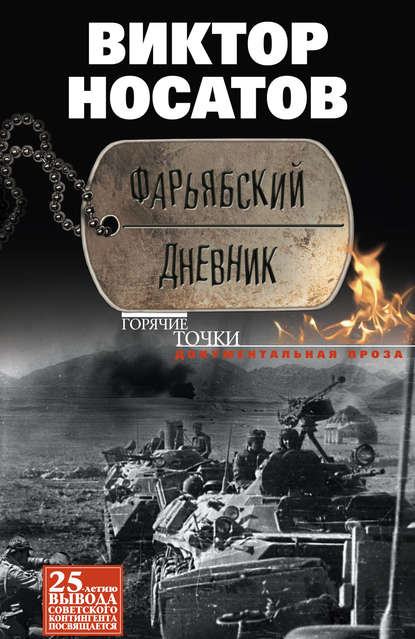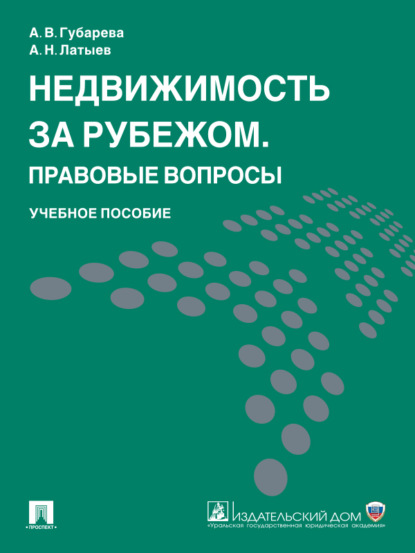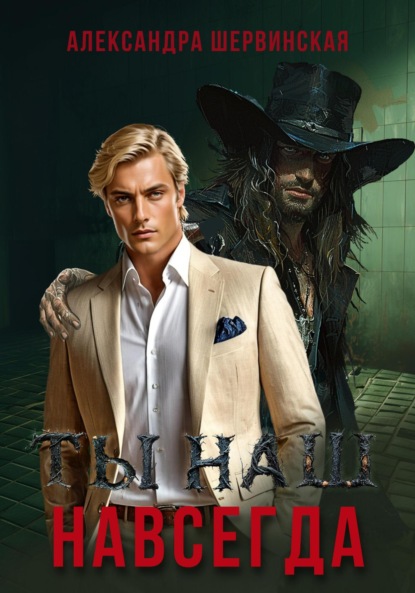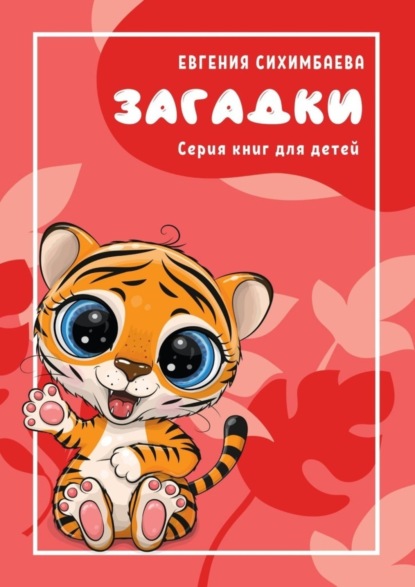Томские трущобы. Человек в маске. В погоне за миллионами
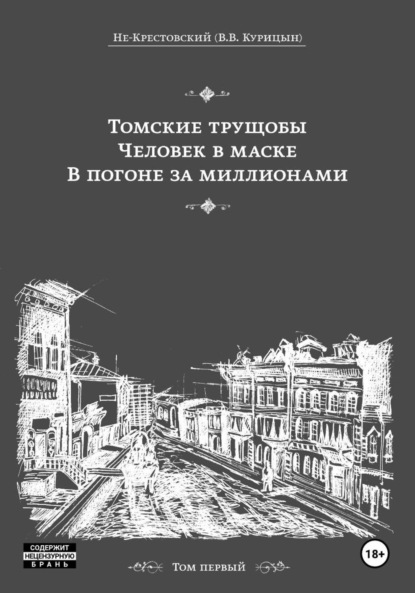
- -
- 100%
- +
К сожалению, инициатива литераторов не была реализована, и из всех произведений Курицына были переизданы только его пресловутые бульварные романы. Однако Курицын попробовал себя во многих жанрах, как поэтических, так и прозаических.
Первые литературные опыты Курицына появились в томской печати практически сразу же после его переезда в Томск, в 1902 году: в журнале «Сибирский наблюдатель» был опубликован его рассказ из приисковой жизни под названием «Подлость» (Сибирский наблюдатель. 1902. № 1). Знакомство Курицына с издателем этого журнала, В.А. Долгоруковым8, определило всю дальнейшую «литературную карьеру» молодого автора: с этого времени и до конца своей жизни Курицын был постоянным автором всех газетно-журнальных проектов Долгорукова. У нас нет никаких данных о том, на каких началах было основано это долговременное сотрудничество: может быть, главную роль играла экономическая составляющая, но могли быть и «литературное покровительство» таланта со стороны Долгорукова, и искренняя благодарность Курицына за доступ в мир литературы. Однако среди современников долгоруковские издания не пользовались особым уважением: они считались слишком бесцветными, «тусклыми»9, а сам издатель имел репутацию графомана. Тем не менее основная часть произведений Курицына была опубликована именно в газетах и журналах, выходящих под редакцией Долгорукова, в других изданиях публикации появлялись эпизодически.
Очерки Курицына в «Сибирском наблюдателе» 1902-1906 годов были основаны на его личном жизненном опыте, он осмыслял в них хорошо знакомую для себя тему – быт и нравы людей, работающих на золотых приисках. Однако Курицына интересовал не «производственный процесс», не противостояние труда и капитала, а духовная жизнь, взаимоотношения мужчин и женщин, любовные коллизии. Он тяготел к описанию трагических ситуаций, любовных неудач, что отразилось даже на уровне заголовков: «Подлость» (Сибирский наблюдатель. 1902. № 1), «Невозвратное. Из «Альбома силуэтов» (Сибирский наблюдатель. 1904. № 11-12) и др. В мире Курицына в центре внимания находятся люди, страдающие от унижений, обмана, насилия, но они не в силах противостоять злу и разочарованию. Это мужской мир, женщины здесь покорны и безгласны, но и мужчины не достигают счастья и довольства. Тяжелую атмосферу людского страдания сглаживают описания сибирской природы – величественной, прекрасной, как бы примиряющей людей с действительностью.
Сюжетные ходы первых очерков и рассказов Курицына нельзя назвать оригинальными и самобытными, они были характерны для массовой литературы начала XX века. Однако этнографическая составляющая произведений, погружение читателя в атмосферу золотых приисков, манящих обывателя своей неизвестностью, сыграла роль «приманки» для читательской аудитории журнала «Сибирский наблюдатель».
Жанр очерков, выбранный В.В. Курицыным, позволил автору чувствовать себя относительно свободным в творческом воплощении своих замыслов. В очерках переплетались документальное и художественное, однако для Курицына характерна не ярко выраженная авторская позиция, а стремление к позиции стороннего наблюдателя.
Некоторые из особенностей первых очерков В.В. Курицына можно встретить в его романах, что позволяет сделать вывод о том, что первые очерки литератора стали его «творческой лабораторией», в которой он апробировал будущие ходы и повествовательные приемы.
Кроме очерков, Курицын попробовал себя в жанре «стихотворения в прозе» (Сибирский наблюдатель. 1904. № 4), а в 1906 году он принял активное участие в сатирической журналистике: Долгоруков в 1906 году преобразовал «Сибирский наблюдатель» в журнал, а затем газету под названием «Сибирские отголоски», при которой в 1906-1909 годах выходил сатирическо-карикатурный отдел «Бубенцы». Здесь было опубликовано 16 произведений Курицына, из них 8 стихотворных, 8 прозаических. Курицын пробовал свои силы в разных жанрах, здесь и диалоги, куплеты, сценки с натуры, сон, пародии, «перепевы», афоризмы и т.д.
Сатирические произведения В. Курицына были в основном невелики по объему: буквально от двух-трех строчек до половины полосы. Максимальное количество текста содержит только «Сон Замухрышкина», который занял три с половиной колонки (1,5 страницы). Прежде всего, это было связано с концепцией журнала, в котором приветствовались именно небольшие материалы. С другой стороны, Курицын одновременно в 1906 году начал писать и публиковать роман «Томские трущобы», и ему могло не хватать времени на создание объемных сатирических произведений.
Темами для выступлений Курицына служила прежде всего политика: выборы, новые партии, введение военного положения в Томске, цензура, обострение рабочего вопроса и другие реалии революционной эпохи.
Вероятно, под влиянием революционной общественной обстановки В.В. Курицын решает попробовать себя в новом жанре – уголовном романе-хронике, где действуют представители социального «дна» – воры, убийцы, падшие женщины. Но именно в этом жанре писатель получил возможность оторваться от угнетающей его действительности: в мире «Томских трущоб» нет революций и военного положения, жизнь героев наполнена планированием преступлений, поражениями и победами – но не общественной жизнью. В этом отношении опыт сатирической деятельности В.В. Курицына оказался важным этапом его становления как прозаика «авантюрного», уводящего своего читателя в вымышленные миры.
Если первые свои произведения Курицын подписывал «Валентин Курицын», то в сатирической журналистике он использовал такие псевдонимы, как «Дон Валентино», «В.К.Кур», «Валентин К-цын». Первый роман Курицына был подписан также псевдонимом – «Не-Крестовский»: это была прямая отсылка читателя к известному писателю Всеволоду Крестовскому, автору романа «Петербургские трущобы» (опубликован впервые в журнале «Отечественные записки» в 1860-е годы, отдельным изданием впервые вышел в 1867 году). Отсылка – и одновременно отрицание, ведь Курицын – не Крестовский, а в романе описывались трущобы не петербургские, а томские. Эта «литературная перекличка» была понятна читателям газеты «Сибирские отголоски», в которой начал печататься роман «Томские трущобы». Псевдоним «Не-Крестовский» Курицын использовал и для других романов, сделав его своей «литературной маской».
Если читатель, открывая роман «Томские трущобы», ожидал найти пародию на «Петербургские трущобы» или «продолжение» на местном материале известного сюжета, то его ожидало явное разочарование. Роман Курицына был абсолютно самостоятельным произведением, которое тем не менее следовало некоторым принципам, на которых был в свое время основан роман Крестовского. Сходство заключалось в том, что как петербургский, так и томский авторы обратились к изображению социального «дна», к жизни мошенников, уголовников, воров и проституток. Но если Крестовский имел в виду постановку социальных задач и тем самым выходил за рамки бульварного криминального романа, то В.В. Курицын ограничился описанием будней «криминальных авторитетов» дореволюционного Томска, не претендуя на решение масштабных художественных задач. В «Томских трущобах» отсутствовал элемент социального романа, это менее всего «книга о сытых и голодных», как определял свои «Трущобы» Крестовский. Обращает на себя внимание и полное отсутствие положительных персонажей в романе Не-Крестовского: ни один из героев «Томских трущоб» не вызывает особых симпатий, а единственная любовная линия (Кочеров и Катя) оказывается довольно неубедительной.
Сюжет романа «Томские трущобы» заключался в описаниях уголовных авантюр нескольких главных персонажей, которые планируют и совершают ограбления и убийства (с разной степенью успешности), ведут переговоры и отмечают удачные дела в ресторанах, встречаются со своими «дамами полусвета». Внимание сосредоточено в основном на жизни двух людей: это Кондратий Петрович Егорин (человек с темным прошлым, домовладелец и коммерсант, который является главным организатором преступлений) и Иван Семенович Кочеров, молодой человек, вовлеченный Егориным в уголовный мир. Вокруг этих центральных фигур в романе действует целый ряд их знакомых: подельников, содержателей притонов, владельцев харчевен и т.д. Соответственно появляются и быстро исчезают из повествования жертвы преступлений, такие, как, например, иркутский купец Рогов. Действуют здесь и герои, которые становятся главными в последующих романах: это любовница Ивана Кочерова Екатерина Михайловна (Катя), преступники Сенька-Козырь и Сашка Пройди-Свет, сыщик Залетный («томский Шерлок Холмс»), представители «полусвета» Загорский и Шельмович и некоторые другие. Особняком в романе стоит загадочная фигура «Человек в маске», возглавляющего шайку «Мертвая голова»: его таинственные появления и вмешательства в авантюры Егорина придают сюжету дополнительную динамику.
Кроме линий собственно уголовной, мистической (связанной с «Человеком в маске») и любовной (романы Кати с Сашкой Пройди-Светом, а после его исчезновения – с Иваном Кочеровым), в романе четко прослеживается линия «этнографическая»: во многих главах Курицын дает яркие зарисовки жизни Томска начала XX века, описывает обстановку танцевальных вечеров, маскарадов, атмосферу скачек на ипподроме, меню ресторанов и харчевен и т.д.. Вот, например, описание маскарада в общественном собрании:
«В силу установившихся традиций последние маскарады – на святках 4 января и перед закрытием зимнего сезона – на масленице – проходят обыкновенно очень весело и оживленно. Народа бывает ступа непротолченная.
Так было и на этот раз. Когда Кондратий Петрович поднялся по лестнице в фойе собрания, его сразу охватила сутолока густой медленно движущейся толпы масок, мужчин в сюртуках и фраках, военных и студентов. Вся эта разношерстная публика смеялась, разговаривала, перебрасывалась конфетти, и от шарканья ног, шелеста шелковых юбок, смеха и перекрестного разговора стоял неясный, несмолкаемый гул. Спиртуозные запахи буфета смешивались с крепкими духами, запахом человеческого пота и дешевой пудры… Было тесно, душно, но весело» (Глава 30. «Свидание с человеком в маске»).
Подробности ограблений и убийств Курицын не смаковал, ограничиваясь перечислением совершаемых преступниками действий. Со своими жертвами они расправлялись в романе довольно хладнокровно, и только один раз в романе возникает момент душевной борьбы – во время разговора Ивана Кочерова с Егориным, который предлагал поправить расстроенные денежные дела очередным преступлением:
«Кочеров молчал. В душе его боролись противоречивые чувства: и опасения за свою безопасность, и жажда быстрого обогащения, и боязнь показаться трусом в глазах Егорина… не проснулось только в этой молодой безвольной душе, рано утратившей и совесть и веру, ни одного порыва возмущенного нравственного чувства…» (Глава 19. «Первый шаг к виселице»)
Роман окончился торжеством правосудия: Егорин арестован, Кочеров осужден и приговорен к повешению вместе с подельником Михладзе. Но Сеньке-Козырю удается сбежать, и уезжает из города Катя. Последняя глава прерывается на сцене перед казнью Кочерова:
«Здесь, щадя нервы читателей, мы опустим занавес и простимся с этими двумя из наших героев – навсегда!
Дальнейшая судьба лиц, выведенных на страницах этого романа, послужит предметом другого повествования. Развивая цепь последующих событий, более близких к нам по времени, мы еще не один раз встретимся с героями «Томских трущоб» (Глава 45. «Накануне казни»).
Читатели «Сибирских отголосков» действительно были уже заранее предупреждены о том, что их ждет продолжение романа: газета поместила объявление о новом «большом уголовном романе из местной жизни «Человек в маске» задолго до окончания «Томских трущоб».
Роман «Человек в маске» публиковался в тех же «Сибирских отголосках» на протяжении 1908-1910 годов. С одной стороны, он является продолжением романа «Томские трущобы», с другой – это произведение представляет собой целостный законченный текст, с собственным развернутым и полностью завершенным сюжетом.
Второй роман Курицына в полной мере раскрыл романные способности автора. Дело в том, что «Томские трущобы», несмотря на всю их известность и популярность, достаточно схематичны и наибольший интерес представляли и представляют из-за своей «привязки к местности». Однако «Человек в маске», кроме этого, содержит и характеры, динамично развивающиеся на протяжении повествования, и необычные сюжетные ходы, которые могут быть соотнесены с европейскими традициями авантюрных романов, и развернутые пейзажные зарисовки, и т.д. Несмотря на то, что у обоих произведений Курицына довольно много общих персонажей, которые «перекочевали» из «Томских трущоб» в следующий роман (это и собственно «Человек в маске» – Сергей Загорский, местный «криминальный авторитет» Сенька Козырь, сыщик Залетный, местная «этуаль» Екатерина Михайловна и др.), в «Человеке в маске» герои взаимодействуют и развиваются более глубоко, а подчас и весьма неожиданно.
Действие в этом романе развивается по нескольким линиям, и главная из них связана с новым героем – Станиславом Андреевичем Гудовичем, вокруг которого собирается новая «шайка» мошенников, промышляющих в основном карточным шулерством. К Гудовичу присоединяется его родственница – красавица полька Ядвига, и в этой же компании появляется Сергей Загорский. Авантюры Загорского, цель которых – быстрое обогащение – составляют отдельный сюжет романа, и они выводят читателя из «трущоб» на уровень томского «полусвета». В романе появляются зажиточные коммерсанты, основавшие «Сибирско-Британскую компанию» – Огнев, Дубинин, Вишняков, Беркович и другие. Знакомство этих людей с золотопромышленником Савелием Петровичем Бесшумных, который владеет тайной мифического Золотого ключа, организует повествование и позволяет Курицыну «увести» действие из города на природу, на хорошо знакомые ему сюжеты приисковой жизни.
Действие «Человека в маске», таким образом, происходит не только в Томске, но и в Барнауле, в Новониколаевске, на заимках и в тайге, на золотых приисках; герои путешествуют на пароходах и на лошадях, а не только перемещаются из ресторана в трактир, как это преимущественно происходило в «Томских трущобах». Любовных линий в романе несколько, но это по-прежнему чувства, которым не суждено сделать счастливыми людей – либо избранники являются недостойными людьми (любовь панны Ядвиги к Загорскому), либо судьба разлучает влюбленных (история Зары и Сеньки-Козыря), и т,д. Значительно усилена в романе и мистическая линия: «Человек в маске» предстает здесь как неуловимый «Король преступников», которому в результате удается погубить сыщика Залетного, а также оказывается вампиром, который пьет кровь своих жертв и таким образом сохраняет свою силу и молодость, и т.д. Многочисленные приключения героев, их взаимодействие, внезапное переплетение разных линий держит читателя в напряжении до самого окончания романа.
Что же касается нового уголовного романа – «В погоне за миллионами», – то он начался с появления в «великосветском притоне» уцелевшего героя «Человека в маске» – Станислава Андреевича Гудовича, который вновь ввязывается в сомнительные авантюры, связанные с неким загадочным «клубом обреченных Ваалу». Можно предположить, что если бы роман был продолжен, к читателю вновь вернулись бы и Сенька-Козырь (который, судя по предыдущим романам, вызывал большую симпатию у Курицына), и некоторые другие «сквозные персонажи» предыдущих романов.
Кроме романов, опубликованных в «Сибирских отголосках», известно по крайней мере об одном нереализованном проекте романа Не-Крестовского «Обреченные Молоху». О нем газета писала следующим образом:
«От редакции.
В наступившем 1909 г. окончится печатанием роман Не-Крестовского «Человек в маске». Часть III. Король преступников. Часть IV. Тайна Золотого ключа.
Кроме того, на страницах «Сибирских Отголосков» будет помещено новое произведение того же автора – сенсационный уголовный роман из кафешантанного мира под заглавием «Обреченные Молоху»
(Канвой для этого романа послужили действительные события недавнего прошлого)» (Сибирские отголоски. 1909. № 6).
Этот роман не был опубликован (а возможно, что не был и написан), но в том же 1909 году Курицын начал работу над другим романом – «Тайны томских ночей». В отличие от всех остальных, он публиковался не на страницах «Сибирских отголосков», а выходил в 1909 году отдельными небольшими выпусками, по главам, которые носили «сенсационный» характер: «Загородная кража 285 тыс. руб. из почтового вагона», «Туз пик – вестник смерти», «Загадочная драма в поезде», «Тайна прекрасной незнакомки», «В вертепе порока и страстей». До наших дней эти выпуски не дошли, только в Российской государственной библиотеке удалось отыскать один выпуск – № 2, под названием «Туз пик – вестник смерти». Глава открывалась характерной для Курицына зарисовкой поезда:
«Ночь опускалась над пустынной равниной.
Экспресс мчался быстрее птицы, сыпя в темноту ночи огненными искрами.
…Пусто, неприветливо и холодно было на полях, прилегающих к полотну линии.
Весело, оживленно и тепло в вагоне-столовой.
Пассажиры скорого поезда в этом прекрасно обставленном салоне чувствовали себя как в стенах ресторана…
Хлопали пробки откупориваемых бутылок, гремела посуда, суетились лакеи» («Тайны томских ночей». Глава 2. Туз пик – вестник смерти. Томск: Типография Приюта и Дома трудолюбия, 1909. – С. 3).
В поезде встречаются действующие лица романа: Петр Александрович Камнев, его попутчик мистер Ральф, таинственная незнакомка – дама под вуалью, Яков Ааронович Ганевич – «один из крупных железнодорожных подрядчиков, ворочавших миллионными делами», и т.д.
Глава представляла собой небольшую книжечку карманного формата, объемом всего 18 страничек, причем половину из них – 9 страниц – занимали рекламные объявления. Замечательно, что одно из этих объявлений было посвящено собственно роману:
«ТРЕБУЙТЕ ВЕЗДЕ
НОВЫЙ УГОЛОВНЫЙ СЕНСАЦИОННЫЙ РОМАН
«ТАЙНЫ ТОМСКИХ НОЧЕЙ»
Сюжет этого романа полон злободневного интереса. Действие происходит в наши дни. Рисуются «укромные» уголки сибирской столицы, начиная от отдельных кабинетов ресторанов и кончая тайными притонами дна» (Тайны томских ночей. Глава. 2. Туз пик – вестник смерти. Томск: Типография Приюта и Дома трудолюбия, 1909. – С. 17).
Судя по тому, сколько названий глав дошло до наших дней, можно с уверенностью говорить о том, что это произведение не было закончено.
Итак, «романная история» Курицына сложилась следующим образом:
«Томские трущобы», «уголовный роман-хроника в 2-х частях». Место и год публикации: «Сибирские отголоски», 1907-1908. Роман закончен.
«Человек в маске», уголовный роман из местной жизни. Продолжение романа «Томские трущобы». Место и год публикации: «Сибирские отголоски», 1908-1910. Роман закончен.
«Обреченные Молоху», «сенсационный уголовный роман из кафешантанного мира» (нереализованный проект романа). «Сибирские отголоски», предполагаемый год публикации – 1909.
«Тайны томских ночей», уголовный сенсационный роман. Место и год публикации: Томск, Типография Приюта и Дома трудолюбия, 1909 г.
«В зареве пожара», роман-хроника из событий 1905 года. Место и год публикации: «Сибирские отголоски», 1910. Роман не окончен, так как газета перешла в другие руки и изменила концепцию.
«В погоне за миллионами», уголовный роман из современной жизни. Продолжение романов «Томские трущобы» и «Человек в маске». Автор – В. Курицын, псевдоним «Не-Крестовский». Место и год публикации: «Сибирские отголоски», 1910. Роман не окончен, так как газета перешла в другие руки и изменила концепцию.
Появление авантюрных романов Не-Крестовского совпало с тенденцией расширения массовой аудитории в начале XX века, вовлечения в круг чтения газет малообразованного жителя российской провинции, из-за активизации общественной жизни (русско-японская война, Первая русская революция и т.д.) вынужденного обратиться к новым для него источникам информации. В этом смысле и Долгоруков, и Курицын уловили «дух времени» и вполне соответствовали читательскому запросу.
Но все-таки – как же быть с поэтическим даром «Не-Крестовского», на котором так настаивал Гребенщиков, – где искать поэтические произведения Курицына? В печати этих стихотворений остались буквально считанные единицы. Два их них, например, можно найти в литературных журналах Томска, которые указывали Валентина Курицына в качестве постоянного литературного сотрудника – «Молодая Сибирь» (1909) и «Сибирская новь» (1910). Стихотворения Курицына, опубликованные в этих журналах, действительно свидетельствуют о «нежной» и «элегически грустной» музе этого литератора. Характерным примером его поэтического творчества может служить, к примеру, следующее произведение:
* * *
«У берегов неведомого края,
Где дышит все безоблачной весной,
Где песни дивные, усталый слух лаская,
Навеют грузы нам о счастье светлом рая, -
Там отдохнем, родная, мы с тобой!
Нам тяжело, и оба мы устали…
О, друг мой бедный, полно, не грусти!
Из мира лжи, насилий и печали,
Уйдем туда – к таинственной той дали,
И скажем жизни гордое «прости»!
Там расцветет душа твоя больная,
Вернется смех и молодость твоя…
…У берегов неведомого края,
Последним сном навеки засыпая,
Я буду твой – навеки ты моя!» (Молодая Сибирь. 1909. № 2).
Разносторонний талант Курицына не смог развернуться в полную силу – и из-за его слабого здоровья, и из-за того малого количества лет, которое он прожил на свете, и из-за его тяжелых жизненных обстоятельств. Он не был по достоинству оценен современниками, но спустя столетие становится понятно, что Курицына можно с полным правом отнести к масштабным литературным фигурам Сибири, достойным исследовательского внимания.
* * *
Познакомившись в общих чертах с биографией и творческим наследием В.В. Курицына, нельзя не обратить внимание на следующий факт: события и впечатления жизни писателя отразились практически во всех произведениях Курицына, став их «документальной» основой. Так, первые «пробы пера» Курицына в «Сибирском наблюдателе» были основаны на опыте работы писателя на золотых приисках: «Катя. Рассказ из приисковой жизни» (Сибирский наблюдатель. 1904. №7-8), «Богатые знаки. Рассказ из приисковой жизни» (Сибирский наблюдатель. 1905. № 10) и др. [12]. Этот же опыт был использован Курицыным в романе «Человек в маске» – поиск таинственного «Золотого ключа» является одной из сюжетных линий этого произведения, а место действия в пятой части романа перемещается из Томска в Минусинскую тайгу, непосредственно на прииски.
Служба Курицына на Сибирской железной дороге обогатила его знанием о жизни этого специфического, замкнутого «железнодорожного мира» и отразилась в романах «В зареве пожара» (в одной из его глав описывается «химическая обструкция» в здании управления Сибирской железной дороги) и «Тайны томских ночей» (действие первых сохранившихся глав романа происходит в поезде).
Обращает на себя внимание, что действия всех авантюрных романов Курицына происходят не в экзотических странах, не в пустынях, джунглях или на пиратских кораблях. Автор подчеркивал «правдивость» своих произведений, утверждал, что в его сюжетах использовались факты, известные томской публике. Так, в 1907 году в заметке «От редакции» было следующим образом объявлено о продолжении первого романа Курицына:
«С настоящего номера начинается печатание второй части романа "Томские трущобы": "На пути к виселицам". Вторая часть романа посвящена описанию дальнейших похождений и трагической судьбы главных героев романа – Кочерова и Егорина. Попутно с этим рисуется ряд картин из уголовной хроники Томска за последние годы [выделено нами – Н.Ж., М.Н.]» (Сибирские отголоски. 1907. № 76).
Роман «Человек в маске» рекламировался газетой как «уголовный роман из местной жизни [выделено нами – Н.Ж., М.Н.]» (Сибирские отголоски. 1908. № 32). В 1909 году «Сибирские отголоски» сообщили читателю о планах опубликовать в течение года еще один роман Не-Крестовского, параллельно с уже выходящим «Человеком в маске». Газета писала:
«Кроме того, на страницах "Сибирских отголосков" будет помещено новое произведение того же автора – сенсационный уголовный роман из кафешантанного мира под заглавием "Обреченные Молоху" (канвой для этого романа послужили действительные события недавнего прошлого» [выделено нами – Н.Ж., М.Н.]) (Сибирские отголоски. 1909. № 6).
Этот замысел не был реализован Не-Крестовским, но обращает на себя внимание общий принцип использования в сюжете романов фактов из действительной томской жизни.
Подчеркнем еще раз и «топографическую документальность» его романов. Так, например, описывая преследование золотопромышленника Бесшумных двумя мошенниками, Курицын «вел» своего читателя по центральной томской улице – Почтамтской, – воссоздавая атмосферу городской жизни дореволюционного Томска:
«Несмотря на сравнительно ранний час дня, на Почтамтской царило праздничное оживление… Мимо Козыря двигались веселые парочки гуляющих, проходили пошатываясь люди в сильно приподнятом праздничном настроении, пробежала маленькая бойкая гимназисточка с коньками в руке, с недетской кокетливостью прятавшая свое личико в белую муфточку; ровным размашистым шагом прошел бравый блюститель порядка с полудюжиной медалей на черном сукне шинели…» (Сибирские отголоски.1908. № 111).