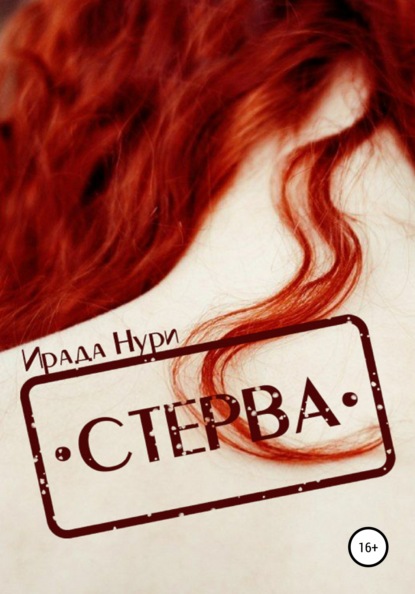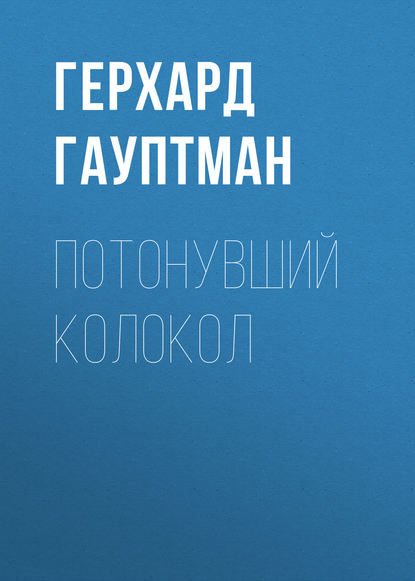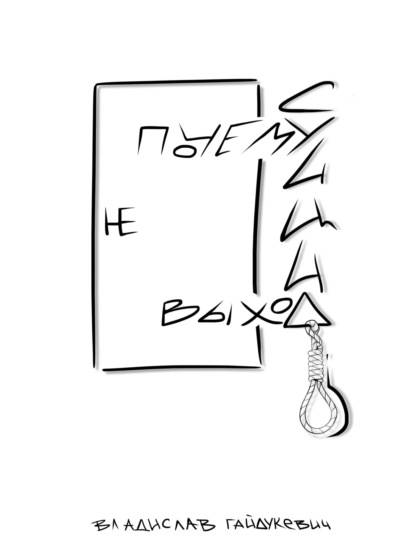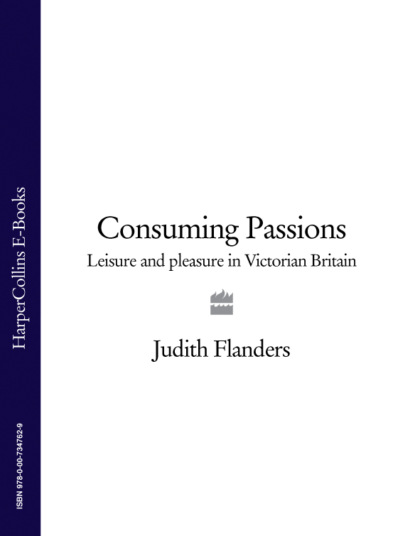Томские трущобы. Человек в маске. В погоне за миллионами
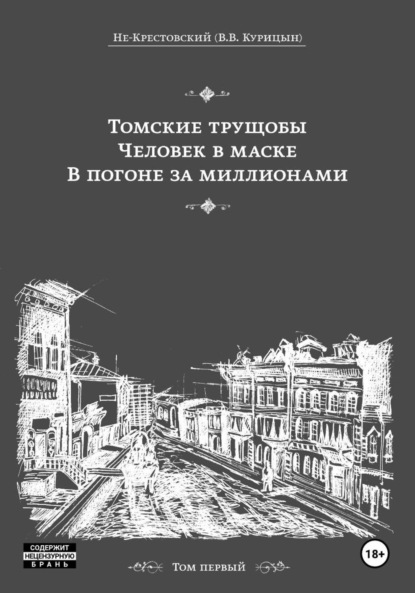
- -
- 100%
- +
Бытовые сценки, «репортажные зарисовки», диалоги оживляли повествование, придавая особую достоверность романному сюжету:
«На углу Благовещенского переулка густая толпа гуляющих была задержана неожиданным эпизодом чисто масленичного характера. Человек пять или шесть каких-то парней, пьяных вдребезги, в кошевке, запряженной парой лошадей, на самом углу столкнулись с извозчиком-лихачем тоже в парной упряжке. В извозчичьих санках сидели две девицы, чересчур крикливые костюмы которых и напудренные лица свидетельствовали о принадлежности их к какому-нибудь кафешантанному хору.
– Стой, сто-ой! Куда прешь, лешева голова?! – ругался извозчик. Парни отвечали тоже ругательствами. Произошло замешательство» (Сибирские отголоски.1908. № 111).
Описания событий, которые в романе происходили в заведениях, исчезнувших в XX веке, приобрели особую ценность для современного читателя. Борьба атлетов в томском цирке (прекратил свое существование в 1941 году – см.[18]), выступления артистов в Буфф-саду, проживание героев в гостинице «Европа» и т.д. давали и дают возможность погрузиться в контекст дореволюционной томской жизни. В качестве примера приведем характерную для Курицына зарисовку циркового представления:
«Около деревянного здания цирка стояла густая толпа. Был антракт дневного представления, и невзыскательная публика амфитеатра и галереи угощала себя сбитнем, орехами и даже водочкой, предупредительно запасенной ловким парнем, торговавшим копченой рыбой.
…Около кассы был давка в полном смысле этого слова. Сегодня вечером имел быть последний "субботник" – блестящее галло-представление из лучших номеров циркового репертуара, как это обещалось на громадных афишах, расклеенных по городу, и кроме того, должна была состояться решительная борьба между двумя атлетами, любимцами публики» (Сибирские отголоски. 1908. № 111, 113).
«<…>Оркестр заиграл марш. Один за одним выходили на арену цирковые атлеты. Их было человек десять. Крепкие мускулистые тела, затянутые в трико, глубоко вдавленные в плечи головы с низкими лбами и тупыми взглядами, какая-то особенная походка – тяжелая и вместе с тем напряженная, точно стерегущая врага, – производили впечатление чего-то грубого, звериного…» (Сибирские отголоски. 1908. № 114).
Поскольку действие романа «Человек в маске» происходило не только в Томске, но и в Барнауле, и в Новониколаевске, Курицын включал в произведение описания узнаваемых местными жителями достопримечательностей и этих городов.
Авантюрные романы Курицына были не случайно основаны на криминальных сюжетах. Изучая газетную хронику Томска конца XIX – начала XX веков, нетрудно заметить, что новости о грабежах, убийствах, мошенничествах занимали большую часть информационной повестки дня. В романе изображалась «обратная сторона» томских будней, теневая жизнь преступников, от которых постоянно страдали горожане.
Учитывая стремление Курицына к максимальной документальности, не может не возникать вопрос – откуда он черпал свои знания о криминальном мире Томска? Ведь диалоги в романе, описание преступлений выполнены беллетристом со знанием мельчайших деталей, с разъяснением специфических терминов, криминальных жаргонизмов. Приведем в качестве примера типичный разговор воров из романа «Человек в маске»:
«– Ишь, какой ты! – восхитился Филька. – Словно весь век "легавым" (сыщиком) был.
– Ну, это что! Дело знакомое. Я, брат, в Петербурге, когда еще по младости лет "с верхов шарманил" (кража из наружных карманов), так уж и тогда со всеми ихними штуками знаком был. Там, парень, в Питере-то, не Томску чета. Что ни шаг, то "шмель" (полицейский агент, имеющий наблюдение специально за карманными воришками)» (Сибирские отголоски. 1908. №109).
Не понаслышке были знакомы Курицыну и приемы карточных шулеров, которые он неоднократно описывал в романе:
«Загорский не довольствовался уже тем способом, который он применял в первые вечера, а прибегал и к "накладке". Поясняем нашим читателям, что "накладкой" называется колода карт, специально подобранных и употребляемых банкометом, когда он хочет бить наверняка шесть или семь карт подряд. Карты для "накладки" складываются таким образом, что непосвященный в дело будет только удивляться необыкновенному счастью банкомета, а отнести это к шулерскому приему не догадается. "Накладок" различают две: "марьяжная" и "затяжная". Первая употребляется редко и только разве среди пьяной или уже чересчур неопытной публики, так как ряд восьмерок или девяток – выигрывающих карт подряд, невольно обращает на себя внимание. Вторая же – "затяжная" накладка – излюбленный прием наиболее искусных шулеров, составляется так, что восьмерки и девятки в ней совершенно отсутствуют, а в выигрыше банкомет остается благодаря хитроумной комбинации в расположении карт, данных своему партнеру. Например, первую карту себе банкомет берет шестерку, останавливается на ней, тогда как понтирующий, получив первой картой тройку, второй – семерку и, следовательно, обладая "жиром", покупает третью карту пятерку и проигрывает.
Ниже мы еще вернемся к более детальному описанию подобных примеров» (Сибирские отголоски. 1908. № 89).
Конечно, эти глубокие познания в уголовной сфере Курицын черпал не из своего опыта приисковой жизни или работы в качестве служащего Сибирской железной дороги. Ответ кроется еще в одной биографической детали: близком знакомстве Курицына с издателем «Сибирского наблюдателя» и «Сибирских отголосков» В.А. Долгоруковым.
Всеволод Алексеевич Долгоруков (1850-1912), представитель княжеского рода «тех самых Долгоруковых», попал в Томск не по своей воле. В молодости, получив образование в Морском кадетском корпусе, он был вовлечен в уголовные авантюры. В 1870 году Долгоруков был осужден в Петербурге по делу за укрывательство мошенничества и лишен «особенных прав» – княжеского звания, а семь лет спустя уже в качестве ефремовского мещанина он вновь предстал перед Московским окружным судом в связи с громким расследованием «Дела о Клубе червонных валетов» (8 февраля – 5 марта 1877 г.). Преступная группировка из 48 человек обвинялась в «составлении преступного сообщества в целях похищения чужого имущества различными способами: посредством выманивания, подложного составления документов, введения в обман и проч., в принадлежности к этому сообществу, в мошенничестве, подлогах, присвоении и растрате чужого имущества, кражах, в грабеже, умышленном убийстве, в соучастии в этих преступлениях, в оскорблении должностного лица и в кощунстве».
После суда Долгоруков был отправлен в Сибирь как уголовный ссыльный и обратно в столицу он уже не вернулся. Всю оставшуюся жизнь бывший князь прожил в Томске, принимая активное участие в литературной жизни города. Первоначально Долгоруков сотрудничал с томской газетой «Сибирский вестник», с 1895 года он начал заниматься собственной издательской деятельностью: выпускал ежегодник «Путеводитель по Сибири и Средне-Азиатским владениям России», с 1899 года стал редактором-издателем «Дорожника по Сибири и Азиатской России», затем преобразованного в журнал «Сибирские отголоски» (в 1905 году), затем в газету «Сибирские отголоски». В Томске он был известен и как поэт: стихотворения Долгорукова публиковались в томской прессе под псевдонимом «Всеволод Сибирский», были изданы два сборника его стихов.
Имея юридическое образование, Долгоруков работал в качестве частного поверенного в Томском окружном суде, и конечно, мог многое рассказать о героях томского «темного мира». Но кроме этого, в Томске Долгоруков женился на Марии Петровне Аршауловой – сестре известного томского полицмейстера Петра Петровича Аршаулова, который имел неофициальное прозвище «томского Шерлока Холмса»10. Аршаулов успешно расследовал многие громкие дела в Томске – убийства, грабежи, и конечно, хорошо был знаком с «уголовным дном» Томска. Можно уверенно предположить, что именно Долгоруков и его окружение стали не только «источником вдохновения» Курицына, но и его консультантами в описании томского уголовного мира. Вот, например, «Предуведомление» ко второй части романа «Человек в маске»:
«Здесь, по мере последовательного развития романа, рисуется ряд мошеннических проделок, предпринятых рыцарями легкой наживы, и описывается громкое дело о подлоге миллионного завещания, составлявшее, до настоящего времени, фамильную тайну одной семьи [выделено нами – Н.Ж., М.Н.] из местного купечества» (Сибирские отголоски. 1908. № 121).
«Фамильную тайну» мог знать адвокат Долгоруков, но не мог знать чиновник Курицын.
Необходимо отметить, что поиск упоминаемых в романе криминальных фактов в газетной хронике Томска затруднен не столько объемом материала, который необходимо исследовать, сколько отсутствием «хронологических привязок» уголовных преступлений. Нет никаких указаний на то, что Курицын использовал события недавнего времени – он вполне мог опираться на криминальные «городские легенды», давние уголовные дела, о которых рассказывали ему Долгоруков или Аршаулов. С другой стороны, реальные томские преступления – как и описываемые преступления в авантюрных романах Курицына – были достаточно однотипными: нападения, грабежи, убийства, карточное шулерство в подпольных «игорных домах» и т.д. Любое преступление в Томске могло стать основой для построения романного сюжета, тем более что оно неизбежно трансформировалось в художественном пространстве романа.
Говоря о «документальности» романов Курицына, можно также отметить его строгое следование бытовым реалиям городской дореволюционной жизни в отношении, например, кулинарии. Беллетрист всегда подробно останавливался на заказах своих героев, которые они совершали в томских ресторанах (и в разных притонах): он перечислял напитки, которые было принято заказывать (коньяк, ром, грог, шампанское, пиво и т.д.), закуски, горячие блюда и т.д. В романе приводились примеры песен, звучащих в компаниях и на сценах, детально описывались женские и мужские костюмы. Эти мелкие детали, бытовые подробности до сих пор придают произведениям Курицына достоверность, и, несмотря на явные недостатки его романов – ходульность героев, однообразное времяпровождение (преступление – кутеж – неудачное преступление – кутеж – новое преступление) и др., – делают их одним из ценным источников сведений о жизни дореволюционного Томска.
Таким образом, ставка В.В. Курицына на «документальность» его авантюрных романов стала «ключом» к их непреходящему читательскому успеху. Разворачивание романного сюжета в узнаваемых городских пространствах, упоминание деталей дореволюционного быта томичей придало произведениям Не-Крестовского такое качество, как достоверность. В какой-то мере это облегчило писательский труд: В.В. Курицын мог не отвлекаться на придумывание несуществующих городов, домов, заведений, он буквально «срисовывал» их с натуры. Часть ситуаций, в которые попадали его герои, также были хорошо знакомы и автору, и читателям: это криминальные сюжеты, касающиеся грабежей, мошеннических проделок, деятельности разных «своден» и т.д. На этом вполне реалистичном романном «фоне» действия центрального злодея – «Человека в маске» – выглядели особенно необычно, поражали воображение неискушенных современников цинизмом, необъяснимым коварством и ловкостью ухода от закона.
Чтобы усилить «документальность» романа, В.В. Курицын обращался не только к своему собственному, не очень богатому, жизненному опыту, но, судя по всему, к «неиссякаемому источнику» сведений о криминальной томской жизни – к адвокату В.А. Долгорукову и полицмейстеру П.П. Аршаулову. Это позволило ему ввести в роман малоизвестные подробности сыщицкой работы, разнообразить речь героев уголовным «сленгом» (с обязательной расшифровкой употребляемых терминов), описать разные «криминальные схемы», основанные на реальных томских преступлениях конца XIX – начала XX веков.
Публикация авантюрных романов Не-Крестовского на страницах газеты «Сибирские отголоски» приводила к тому, что читатели начала XX века воспринимали его в контексте всего периодического издания, романы были «вписаны» в общую проблематику русской провинциальной жизни. В статьях и фельетонах «Сибирских отголосков» поднимались вопросы сложной криминальной обстановки в Томске, осуждалась женская проституция; постоянной темой для размышлений журналистов было положение дел в золотопромышленности, и т.д. Эти же проблемы присутствовали и в авантюрных романах, что придавало им дополнительный «документальный» характер.
* * *
В настоящем издании весь текст сверен с первой публикацией на страницах газеты «Сибирские отголоски» – как первой части («Томские трущобы»), так и второй и третьей («Человек в маске», «В погоне за миллионами»). В конце издания дан список улиц, заведений, учреждений, географических названий, упоминаемых в романах. В «Примечаниях» расшифрованы отдельные реалии томского быта начала XX века, даны сведения о реальных людях, живших в дореволюционном Томске. Книга иллюстрирована видами дореволюционных городов Сибири – Томска, Барнаула, Ново-Николаевска (Новосибирска), которые размещены в открытом доступе на различных интернет-ресурсах.
Особенности дореволюционной орфографии сохранены частично – в основном в передаче речи персонажей, как они представлены В.В. Курицыным.
Сохранена разбивка на абзацы: поскольку роман публиковался в газете, эта разбивка кажется излишне дробной современному читателю, но передает особенности авторского деления. Многоточия, которыми переполнены тексты, также оставлены в неизменном виде, как авторская пунктуация.
Итак, впервые читатели смогут познакомиться с полным текстом романа В.В. Курицына. Спустя более века «Томские трущобы», разбросанные на страницах полузабытых дореволюционных газет, частично переизданные (с ошибками и пропусками) – возвращаются в литературный мир Томска. Верим, что и на этот раз роман найдет путь к сердцу своей аудитории и снова станет востребованным у томичей, влюбленных в свой город.
Н.В. Жилякова,
М.В. Нисова
Томские трущобы
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ПО ПРИТОНАМ И ВЕРТЕПАМ
Глава 1. У «Никитки Рыжего»
…На одной из окраин г. Томска ютится старое, почерневшее от времени здание.
Над входной дверью видна вывеска следующего содержания: «Белая харчевня и чайная».
Место здесь глухое, малозастроенное.
Зимою улица бывает занесена сугробами снега, а осенью тонет в непролазной грязи.
О фонарях и помину нет.
Казалось бы, что при таких условиях дела «Белой харчевни» не должны быть в завидном положении, а между тем хозяин этого заведения на отсутствие посетителей пожаловаться не мог.
У него была своя «особенная» публика – народ темный и аховый.
Все городские жиганы, все «фартовые» ребята, начиная с карманных воришек и кончая крупными рыцарями ночи – опасными рецидивистами, – находили здесь приют и радушный прием, разумеется, в том случае, если они были при деньгах.
Некоторые же из «фартовиков», наиболее знакомых хозяину, имели и кредит.
В задней комнате харчевни, грязной и полутемной, был своего рода клуб: здесь собирались молодцы погулять после хорошей «работы», здесь назначались деловые свидания – обсуждались проекты всевозможных темных дел. Здесь же реализовывались и плоды этих предприятий: хозяин харчевни был вместе с тем и скупщиком краденого. Немудрено, что "Никитку Рыжего", так звался среди своей публики хозяин харчевни, знали и считали своим человеком все, кому не было уже места на больших оживленных улицах города, все те, кто, избегая столкновений с полицией, предпочитал городские окраины…
........................................................
В один холодный осенний вечер, когда харчевня была уже освещена двумя чадившими лампами, к буфетной стойке подошел новый посетитель.
Это был молодой, бравый парень могучего телосложения, одетый в старое рваное пальто и высокие сапоги, все забрызганные грязью.
Подойдя к стойке, он лихо заломил фуражку на ухо и протянул хозяину руку.
– Никите Ивановичу наше особенное!
Хозяин пристально вгляделся в подошедшего.
– Сенька! «Козырь»! Какими ветрами занесло? Где это ты пропадал?
– Далече – отсюда не видать, Никита Иванович! Ходил-бродил по белу свету – до Иркутска-города, до Байкал-озера! – бойко отвечал парень, оглядывая между тем посетителей харчевни.
– Ну, чем тебя потчевать прикажешь? За гривенник налить, што ль?
– Сыпь за гривенник!
Хозяин наклонился и достал из-под прилавка большой фаянсовый чайник, в котором он держал водку для «мелкого потребления».
Открытой торговли крепкими напитками здесь не производилось.
– Вот что, Никита Иванович! На той половине никого из «ветошных» нет? – спросил Сенька, выпивая стаканчик. «Ветошными» на жаргоне воровского мира называются все вообще люди, не причастные к нему, себя же молодцы, подобные Сеньке, называют «блатными».
– Никого нет. Проходи.
Сенька Козырь и хозяин прошли в маленькую комнату позади буфетной стойки.
Свет лампы, которую зажег хозяин, осветил грязные запыленные стены, два-три столика, обтянутые черной порванной клеенкой, и несколько простых табуреток.
Оба окна комнаты были плотно завешаны ситцевыми шторами.
– Дай ты, братец, мне пока што полбутылки да огурчиков солененьких парочку! Да никого из чужих сюда не запускай! Надо мне здесь с человеком одним повидаться.
Хозяин вышел из комнаты.
Козырь в ожидании водки принялся свертывать папироску.
– Кого ждешь-то? – спросил хозяин, подавая графинчик и закуску.
– «Самого», Егорина, – ответил Козырь вполголоса.
– Егорина! Э-э! да ты, стало быть, сегодня при деньгах будешь! Дело, стало быть, наклевывается.
Козырь покачал головой.
– Сам еще не знаю. Был я вчера у Петровича, сказывает: заказал ему «сам» упредить меня, чтоб подождать его у тебя. Зачем – не знаю.
– Давно ты в наших-то палестинах объявился?
– Третьеводнись приехал.
– А я уж думал «зацынтовался» ты? (попался полиции). Около года не было тебя.
– Ну, пока еще Бог милует! Выпей со мной, Никита Иванович, поздравь с приездом!
– Ну давай, наливай! Как не выпить с хорошим человеком!
– Что у вас в Томске нового? Как наша «хевра» (товарищеская воровская организация) поживает? – расспрашивал Козырь. – Кто из знакомых «засыпался»?
– Фомка кривой сидит с Митькой-цыганом; они за Истоком «засыпались».
– На «шниф» ходили, что ли? (кража со взломом).
– Какое! «Мокрый гранд» (убийство) было!
– Жалко ребят, – сочувственно отозвался Козырь, – хорошие товарищи были!..
...............
«Сам», или Егорин, которого поджидал Сенька, появился в Томске лет восемь тому назад. Пришел он в Сибирь по «Владимировке», был прописан как крестьянин из ссыльных к одной из подгородних волостей.
Прошлое Егорина для всех, знавших его, было тайной, за исключением одного человека, тоже выходца из России, поселившегося в Томске в конце 80-х годов, – некоего Кочерова.
Очевидно, было что-то общее в прошлом у этих людей.
По прибытии своем в Томск Егорин нашел приют у старого дружка – Кочерова, тогда уже зажиточного человека, имевшего свой домик и доходное дело – садовое и огородное заведение.
Понемногу и сам Егорин стал в люди выходить, денежки у него появились, торговлишкой занялся.
Знакомство с разными «фартовыми» людьми свел.
Приходилось ему и с полицией неприятности иметь: то в беспатентной продаже вина попадется, то краденые вещи у него найдут.
Вообще, репутацию себе составил нелестную, но как умный и бывалый человек, умел всегда выходить сухим из воды. Все же эти темные дела давали Егорину, очевидно, хорошие барыши, так как в то время, к которому относится наш рассказ, у него был уже собственный деревянный дом на Верхней Елани. При доме лавочка.
И никто, конечно, из видевших Егорина в сером арестантском халате, не признал бы его в настоящем положении, в роли домовладельца и коммерсанта.
В темном воровском мире у Егорина были свои помощники, вроде Сеньки Козыря, на которых он полагался вполне.
Глава 2. На удавку
…В дверь комнаты постучались.
– Кто там? – откликнулся хозяин.
– Выдьте на минутку! – раздался голос подручного. – Вас спрашивают!
Хозяин вышел за прилавок.
– Кто спрашивает?
– Со двора кличут… – тихо ответил подручный.
Никита Иванович вышел через темный коридорчик на заднее крыльцо и остановился у запертой двери.
– Кто здесь?
– Отвори, Никита Иванович, свои… – раздался за дверью сердитый, несколько хриплый голос.
Далее последовал раздраженный оклик на цепную собаку, завывавшую около крыльца.
– Цыц ты, проклятая! Не узнала?
– А, господин Егорин? Пожалуйте! Сенька Козырь давно вас поджидает…
Они прошли в дом.
– Ну и ночка выдалась, – заговорил Егорин, идя вслед за хозяином, – зги не видно!
– На лошади, аль пешком?
– На лошади – во дворе привязал.
– Не боишься, что угонят, – усмехнулся хозяин.
Сенька при виде Егорина отставил недопитый стаканчик и поднялся из-за стола.
– Заждался я вас, Кондратий Петрович… – начал он.
Егорин расстегнул пальто и присел к столу.
– Выйди-ка, Никита Иванович, «пострем» там около дверей, а мы тут потолкуем малость…
– Вот какое дело, – продолжал Егорин, когда они остались с Козырем наедине, – перво-наперво, скажи ты мне: вид у тебя есть?
– Есть «липовый». В Иркутске еще справил.
– Ну, а насчет монет-то, поди, не густо.
– Да не мешало бы принажиться малость! – усмехнулся Козырь, начиная понимать, о чем хочет говорить с ним Егорин. А тот молча прошелся несколько раз по комнате и, хлопнув Козыря по плечу, зашептал:
– Слушай, Семен, – есть «работа»! Будет у тебя и паспорт чистый, и деньгами получишь сумму немалую, только помни: седни ночью дело обделаем, а завтра утром садись в машину и уезжай из Томска. Здесь не хороводься – «засыплешь» и себя, и меня! Можешь ли так соответствовать?
Глаза Егорина пытливо впились в лицо парня.
– Что вы, Кондратий Петрович, али мне впервой! – даже обиделся Козырь. – Что я, присох, что ли, к Томску: знамо дело – были бы деньги да вид, а уж «шухор» не возьму (не попадусь с поличным).
– Ну так по рукам! – И Егорин вынул бумажник и протянул Козырю десять рублей.
– Велика ли «работа»-то? – спросил тот, пряча задаток.
– «Работа» пустая! «На удавку» возьмешь одного «фраера», да и того «подмоченного»! (Человека приезжего, доверчиво идущего на уловки преступников, напоенного до потери сознания).
– Ходит, «хозяин»! – уже весело отозвался Козырь. – А по «отделке» сколько?
– Пять красных и чистый документ, с которым куда хошь поезжай!
– Маловато, Кондратий Петрович, главная вещь – на дорогу деньги надо!
– Ну три четвертных, действуй только на совесть!
Егорин достал из кармана небольшой кусок сахарной бечевы, обильно натертый мылом, с петлей на конце.
– Вот тебе «струмент». Я теперь пойду, а ты малость обожди, а после тоже иди. Я буду ждать тебя на углу…
................................................
Часа два спустя к одному двухэтажному дому, на углу темного кривого переулка, подъехал коробок, забрызганный грязью, в котором сидел Егорин и еще кто-то.
– Сюда сворачивай, направо! Остановись около калитки!
– Тпрууу!
– Приехали? – спросил спутник Егорина.
– У цели своего странствия-с, – подобострастно ответил тот, вылезая из коробка.
– Сюда пожалуйте-с! Шагайте пошире-с: тут грязь!
– Ты, парень, – продолжал Егорин, обращаясь к импровизированному кучеру, – коня-то заведи во двор, поставь под навес, да смотри не спи! Вишь, ночь-то какая – зги не видно, того гляди уведут и с коробком вместе!
– Пошто спать, будьте покойны. Все будет в исправности!
Егорин и его спутник, оставив Сеньку Козыря с лошадью, вошли во двор.
– Сюда пожалуйте! Вот в это крылечко, – и Егорин постучал легонько в дверь.
Прошло минуты две…
…Все было тихо…
…Накрапывал мелкий надоедливый дождик…
– Спят, что ли, они? – досадливо пробурчал Егорин.
…Темный ставень окна, ближайшего к двери, прорезала полоска света.
Загромыхал дверной засов.
– Кто тутоха? – Раздался за дверью женский голос.
– Ну, пошевеливайся, тетенька, встречай гостей, – отозвался Егорин.
Дверь отворилась.
На пороге стояла немолодая уже женщина, одетая не без претензий на моду. Высоко держа над головой лампу, что давало возможность рассмотреть ее сухощавое, обильно напудренное лицо, она посторонилась, пропуская гостей вперед.
– Пожалуйте, Кондратий Петрович! Пожалуйте, гости дорогие! Милости просим!
Голос у нее был тихий, слащавый, с неприятным оттенком…
…Раздевшись в полутемной прихожей, где сильно пахло керосином от закоптелой лампочки, гости прошли в следующую комнату. Это было небольшое зальцо, оклеенное розовыми обоями. В простенке виднелось дешевенькое, все засиженное мухами зеркало.