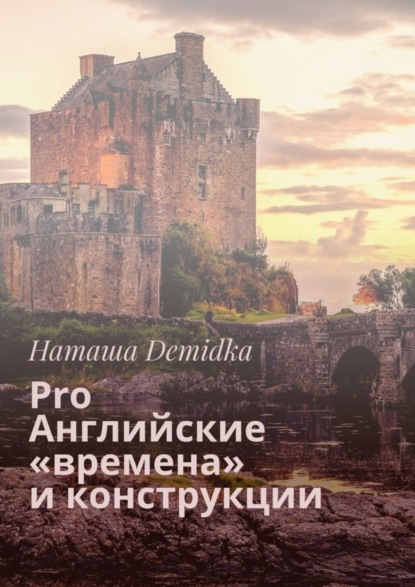- -
- 100%
- +
Лицо её оцепенело для вечности.
Камера выдала серию клацаний. Фотограф посмотрел в экран. Снова взглянул на Ольгу.
– Вы снимаетесь? – спросил он.
– В смысле?
Мужчина показал ей камеру. Экран бликовал отражениями, и ничего не было видно, да Ольге и не хотелось наклоняться к фотографу… она пожала плечами.
– Просто лицо знакомое.
– Сколько с меня? – спросила Ольга.
В гипермаркете уже стояли очереди перед кассами. Ольга набросала в тележку продукты, побродила зачем-то в отделе косметики, потрогала все эти невесть кому нужные яркие помады, приценилась – но положила обратно – к туши для ресниц, сублимированной, судя по цене, из слёз лесных фей или, быть может, из северного сияния, а потом, совершенно незаметно для себя, оказалась между стеллажей с алкоголем.
Рука её сама потянулась к красному сухому, приняла бутылку за шершавое горло и уложила к макаронам, к кефиру и хлебцам.
– О! Тоже видишь?
Голос прозвучал рядом.
Ольга почувствовала, как слова ощутимо толкают её в спину.
У неё перехватило дыхание.
Она обернулась.
Их было трое, но вначале она увидела только одного: в чёрной хромовой куртке с извивающейся змеёй, в лаковой причёске, в остроносых туфлях. Он улыбался. Не по-доброму улыбался. Как чешуйчатый холодный змей, готовый к броску.
– Поцы, – сказал змей, кивая на Ольгу. – Видали? Она, нет?
– Это… Ну, вроде… – промямлил второй, худощавый, в толстенных очках, стёкла которых вываливались из оправы, как брюхо из-под ремня. Он потёр шею и хихикнул. – Хотя… Мож, и не она. Или специально так сделала. Прикол.
– Простите? – пробормотала Ольга, не вполне понимая, зачем вообще стала что-то говорить.
– Пффф… – выдохнул третий: плотный, с выбритым затылком и кольцом в ухе. Он сделал резкий шаг вперёд; в кулаке у него Ольга увидела яркий пенал айкоса. – Даже если не она… Но похожа, капец просто…
– Давай щёлкну? – Змей достал телефон. – Ну? Димон?
– Мне некогда, – зачем-то сказала Ольга.
Она развернула тележку и принялась рассматривать полку, озаглавленную «Вина Кубани». Все этикетки слиплись для неё в одно пёстрое месиво, спутались в цветастую рябь.
– Не, ну я бы тоже не стал на её месте. – Она услышала за спиной голос очкарика. – Стрёмно же. Реально стрёмно.
Змей заржал. Согнулся, будто его ударили в живот.
– На её месте! – выдавил он. – На её месте!
Ольга толкнула тележку и пошла к главной аллее.
– Сильно, сильно!
– На её месте!
– Айс-квин! Ушёл мороз!
– Крутая тёлка. Вот реально! Без тормозов. Жалко, щас переобулась.
Ольга, спиной чувствуя их взгляды, свернула к пекарне и затерялась среди таких же тележек, как у неё.
Торговый центр обратился вдруг в громадного, поглотившего её зверя, полного направленных внутрь глаз… всё это было не так, неправильно, будто бы она влезла в чужую обувь: как в чужое тело, в чужую жизнь и все это видят… дышать ей стало трудно, приходилось стараться для каждого вдоха. Словно она делала что-то очень тяжёлое.
Над кем они смеялись? Что они увидели в ней?
Ольга придвинула тележку к стене и быстрым шагом – почти бегом – пошла к зеркалам в отделе одежды… Словно отражением, как документом, можно было что-то доказать.
Себе.
Им.
Она осмотрела себя, повертела головой.
Всё было в порядке.
В порядке…
Или, быть может, через её глаза смотрел на мир – на этот торговый центр, на хамоватых этих подростков – кто-то другой?
И они видели не её?
Не её…
Ольга вернулась к тележке, отстояла, не поднимая головы, очередь, рассчиталась, и быстро пошла к выходу.
Ей казалось, что она так и слышит их хохот, чувствует спиной липкие взгляды.
Её потряхивало.
Не от страха.
А – почему-то – от стыда.
И от ярости.
***Можно жить и на хлебцах. Вполне. Особенно если они – с вином.
Ольга сломала хлебец во рту, прижала к нёбу. Щедро плеснула в бокал из бутылки.
Подошла к окну.
И замерла.
Забыла сделать вдох.
Ломаный белым частоколом домов горизонт оказался размыт нежно-розовой акварелью, а над ним, выше, небо торжественно и сочно пульсировало алым. Густые, плотные полосы сиреневой поволоки тянулись между рваными облаками, стравливая им свою спелость. Солнце, падающее за крыши, мигнуло напоследок окнами домов. И погасло.
«Если бы, – подумала она, – если бы была хоть капля справедливости в этом мире, то сегодня непременно позвонил бы Пётр Валерьевич… пусть уже поздно, ничего, она бы пообщалась… позвонил и сказал… что после вот такого неба не нужно идти ни в какие классы, оставайтесь завтра дома, Ольга Олеговна, сказал бы он, наслаждайтесь жизнью, к чёрту обязательства, к чёрту всё… когда-то ведь нужно жить, в самом-то деле, объяснил бы, смущённо путаясь в словах, Пётр Валерьевич, не всё же выполнять повинности… просто свободный день, свободный для чего угодно, для себя, для вас… пусть это время пойдёт на что-то действительно полезное, а тетради и уроки… ну, потом, потом… подождут… а вы побудьте собой, я разрешаю».
Рассмеялся бы…
Ольга никогда не слышала, как он смеётся… Он бы, наверное, смутился своего порыва…
Смутился, сбросил звонок.
А она…
Она бы осталась.
Осталась дома.
Да.
Не потому, что лень идти на работу.
А потому, что устала делать – ну ведь можно признаться хотя бы самой себе? – всякую ненужную никому, бестолковую, повторяющуюся из года в год однообразную чепуху, а время идёт, тикает, сворачивается.
Время уходит.
Иногда нужно подумать о том, что важнее ежедневного расписания.
Много важнее.
О себе.
О себе самой.
О том, кто она и зачем она.
Не планировать. Не бежать.
А быть.
И сделать, наконец, что-то по-настоящему ценное.
Не для себя даже, быть может.
Не для себя…
Ольга тронула холодное стекло. Постояла. Посмотрела, как двор постепенно истаивает во вкрадчивой серости сумерек.
Потом решительно зашагала к шкафу, стаскивая на ходу растянутую домашнюю футболку. Сняла плечики с блузками, с офисными пиджаками, рубашками… всё это было серым, безликим.
Не к сейчас.
Ольга задумчиво поворошила тёмную одежду. Села на пол. Достала ящик, вытащила из него какие-то мятые свитера… нет. Не то.
Всё это не то.
Она потянулась в угол: там обнаружилась коробка; «может, что-то повеселее», – подумала Ольга и сняла крышку. Коробка оказалась забитой хламом: скомканным полотенцем, туристическим спальником, ленточным массажёром, несколькими дерзкими помадами времён юности, гирляндой, путеводителем по Стамбулу с замятой обложкой, какими-то неидентифицируемыми тряпками… а на дне… она тронула твёрдую гладкость, ощупала…
Пальцы огладили чуть шероховатый материал, пробежали чутко и беспокойно.
Отодвинули вбок оторвавшийся, едва держащийся лоскут.
Сами.
Будто не Ольга касалась этого старого потрёпанного пуанта – а обрётшие вдруг самостоятельность пальцы.
Воспоминание пряным маревом окутало её.
Потащило.
Тогда…
Девять ей было? Десять?
На том выступлении она должна была поочерёдно – с Майей… с Маечкой, как звала её Нина Максимовна – солировать в номере с психоделически раскрашенными зонтиками: все девочки… все, и Диана тоже… все расходились, крутили зонты. Фоном. Кордебалетом.
Она танцевала главную партию; она, а потом – Майя.
И в тот момент… уже под конец её соло, когда Оля обходила сцену… та нога…
Из зала этого точно видно не было, да и если видел кто-то, то всегда можно было списать на случайность, сказать, что просто задержалась, не перешла на своё место… но Оля без сомнений знала: Майя сделала это специально.
Специально.
Оля споткнулась.
Ошиблась.
Она качнулась, вытянула вперёд руки, некрасиво переступила, упала, и тут же встала, ощущая, как в груди её бушует пламя.
Ей удалось оттанцевать свою концовку. Оттанцевать чисто, хорошо.
Она перешла в кордебалет. Взяла зонт. Встала рядом с Дианой. Та попробовала что-то сказать, но Оля посмотрела на неё, и Диана замолчала.
В центре, под софитами, делала свою часть Майя. Делала идеально. Отточено. Так, как не делала никогда на репетициях.
Никогда.
Она будто поставила на этот танец всё.
Словно до этого только притворялась, а сейчас исполняла с яростью, воодушевлением и восторгом, заражающим зрителей. Словно это решающий миг всей её жизни. Самый важный.
Безупречно.
После номера Оля не стала подходить к ней: зачем. Она и так всё знала.
Гримёрка наполнилась родителями, шумом, смехом. Мама положила руку ей на плечо и говорила что-то спокойным, уверенным голосом: так, как родители привыкли говорить с детьми, поучать, напутствовать; Оля не слушала. Она не знала ещё, что будет, но тело её было словно ожидающая обратного отсчёта ракета, начинённая чем-то разрушительным и смертоносным. Ей хотелось с воплем ударить кулаком в стену. Проломить её.
Взорвать всё.
Взорвать!
Это она должна была получить приз.
Она.
Она заслуживала этого.
Все девочки потом побежали к кулисам и стали, толкаясь, вытягивая шею, слушать объявления ведущего. Оля отправила Диану с ними, налила себе чай из чужого термоса и стала смотреть в стену.
Сердце её колотилось так, будто бы она всё ещё на сцене.
Где-то там зал взрывался радостными аплодисментами, музыкой, шумом. Голосами. Это было неважно.
Неважно.
Оля разулась, села на пол, обхватила ладонями ноги, уложила лицо в колени: потянулась, потянулась, проживая знакомую боль, чувствуя привычные запахи пота и грима.
Она ждала.
Ждала.
Майя зашла через пять минут. А может, через месяц. Или через сто лет.
Это тоже было неважно. Оля готова была ждать вечность.
К груди Майя прижимала охапку цветов.
И кубок.
– Привет, – хрипло сказала Оля, как будто они не виделись больше двадцати лет, и она всё это время ждала разговора. – Ты…
Майя принесла со сцены всё ещё торжественное и изумлённое лицо. Дышала она глубоко и шумно.
Оля поднялась.
Не сгибая коленей, достала с пола стакан, поставила его на стол и зачем-то выровняла так, чтобы ручка глядела параллельно направлению кромки, подошла к Майе…
Подошла к Майе, и толкнула её.
Толкнула.
Майя раскинула руки и упала в груду одежды.
– Ой, – сказала Оля.
Цветы разлетелись в стороны. Кубок откатился под стол.
– Мне… – Майя зло и отчаянно блеснула глазами. – Ты не понимаешь! Дура! Мне нужно! А не как тебе…
Оля подошла ближе. Обнаружила в своей руке пуант. И что есть сил ударила им Майю.
В лицо. В щёку. Со звучным шлепком. По-настоящему.
А потом – ещё раз.
Посмотрела на пуант в своей руке. Он часто дрожал, словно ему не терпелось ещё раз попробовать… повторить этот новый для него танец.
В раздевалку с шумом стали возвращаться девочки.
Оля размеренно, не спеша подняла кубок, подхватила свою одежду, сунула всё в сумку, а потом как была: в пачке, босиком, выбежала в коридор, оттолкнув Диану; та взвизгнула, ступила в сторону.
А на следующий день, рано утром, от них ушёл отец.
Ушёл.
Отец.
Ушёл, виновато тронув её щёку. Не глядя в глаза. Забросил на плечо маленькую сумку. Огладил привычным своим жестом бороду. И ушёл.
Оля нашёптывала себе, что не виновата, что это не из-за неё, не из-за этого, она ведь просто хотела… нет… Вечером она пошла на мусорку и швырнула этот кубок туда. Во тьму отбросов.
Но в глубине души она знала.
Знала.
Если бы не она. Если бы она была послушной. Без желаний. Без острых кромок. Если бы вела себя правильно. Как нужно. Так, как следует. Как от неё ждут.
То ничего такого не случилось бы.
Много позже она выяснила обстоятельства его ухода: пока они с мамой были на выступлении, он ездил к «потаскухе», и что-то там было с трусами, с помадой, но всё равно, всё равно она чувствовала, как мистическим образом накликала на всех беду.
Большую беду.
И она поклялась себе быть нормальной.
Нормальной.
Не выделяться.
Не высовываться.
Не побеждать.
Не жить.
Ольга вытащила из коробки тот самый пуант. Прижала ко лбу. Слеза упала с её ресницы на голый живот: Ольга почувствовала, как она прожигает кожу, словно кислота.
«Всё это… – бессвязно подумала она. – Всё нелепо как-то… Сделано накриво… Сляпано. С прорехами, и оттуда глядит что-то ужасное… наблюдает. Зачем тогда это надо?».
Она тонко, беззвучно почти застонала и уложила себя на бок.
Пуант грел её сердце.
***Телефон, наверное, давно уже возился на беззвучном; Ольга, лёжа с бокалом вина в ванне, не сразу вынырнула в реальность. В душный густой полумрак.
Она потянулась, поставила бокал, стряхнула с руки пену и взяла телефон.
Мария Владимировна.
Пять пропущенных.
Экран снова ожил, предлагая двинуть пальцем зелёный кругляк.
– Машк, ну не сейчас, пожалуйста, – прошептала Ольга и запустила телефон обратно на тумбочку. – Давай уже потом… Завтра…
В дверь постучали. Тактично, одним пальцем… он всегда так делал, демонстративно предупреждая, что ценит приватность, что чуток и полон понимания… Лучше уж вломился бы нахрапом и вытащил её, мокрую, в меру пьяную, несчастную, и лучше бы у него были голубые глаза и борода… но нет… чего нет, того нет.
– Ты как там, Оленёнок?
– Иди, – сказала Ольга, и с плеском поднялась, чтобы достать пробку. – Нормально.
– Уверена? Может, помочь? Спинку?
– Иди, – сказала она.
Зеркало уже отпотело и показало ей клочки пены на худых – не спортивных, а просто худых – руках…
Ольга отвернулась. Размашисто обдала себя струёй из душа, вылезла и резко накинула халат.
Голова у неё кружилась. Ей хотелось… хотелось крикнуть, или подпрыгнуть, или пнуть что-нибудь хрупкое, податливое… чтобы покатилось, упало, чтобы хрясь – и вдребезги.
Вдребезги.
В крошево.
Она взяла бокал. Оценивающе посмотрела на него. Подняла к светильнику: спираль старой, допотопной ещё – винтажной, можно сказать – лампы окрасилась в пурпур вина.
Ольга качнулась.
Повернулась к ванне. Примерилась.
Отвела назад руку…
Бокал подрагивал в её руке, ожидая бросок; он словно бы умолял о секундном торжестве, когда всё – в хруст, в звон.
А что потом – неважно.
Ольга подумала, как будет убирать осколки.
Объяснять.
Придумывать слова.
Она хмыкнула.
В один глоток выпила остатки вина.
И аккуратно поставила пустой бокал рядом с раковиной.
Потом подхватила телефон, вытерла ноги о коврик и вышла в комнату.
В холод ночи и непроверенных ещё тетрадей.
– В окно посмотри, – крикнул он из спальни. – Ты всё? Спать?
Она сомнамбулически отодвинула штору.
Здесь, в ночи, припухла плотной взвесью пурга; через белую непогодь Ольга увидела в освещённом окне напротив силуэт парочки в обнимку: они, видимо, тоже смотрели в этот неожиданный снеговей, смотрели и видели – что?
Что? То же, что видела и она?
Вряд ли…
Вряд ли.
Быть может, им мнилось, что там, на улице, готовится случиться по второму разу Новый год… или они радовались уюту в то время, как за стеклом зябко завывает, кружит… а может, они просто стояли рядом, забыв про мысли, про слова, про свет и отсутствие света, про весь остальной мир.
Каждый видит своё.
У каждого в глазах – особенный образ.
Даже если смотреть на то, что знакомо.
Ольга вернулась к столу.
Протянула руку к тетрадям.
Отодвинула их… стопка рассыпалась колодой карт.
Подцепила пальцем корешок и вытащила из-под завала «Анну Каренину».
Взяла бутылку.
Выпила. Прямо из горлышка.
Вино было уже тёплым.
Страница открылась сама, словно готовилась к этому заранее, словно компоновала там, в темноте, буквы, складывала их, тасовала, и как только учуяла свет – то раз! определила каждой своё место.
Андрей любил Толстого. Читал «Каренину», снисходительно принимая её насмешки о «дамском романе»… а потом и она сама – страница за страницей – втянулась, почувствовала, впитала в себя старомодный тон этого нелепого бородатого мужика в сапогах… мужика, умевшего говорить точно о невыговариваемом, о призрачных пустяках, оказывающихся на деле самым главным.
Тогда, до свадьбы, они много говорили об Анне, о том, что она пыталась… пыталась, пробовала, билась как могла, но у неё не вышло, потому что препятствия, потому что общество, Вронский и ещё этот, как его… предрассудки, правила, княгини всякие, салоны, сплетни… Ольга сделала глоток и поняла, что мысли её путаются.
Она осторожно разрешила себе ещё несколько секунд повспоминать Андрея, их смех, их молчание, одни на двоих вдохи и выдохи, это его «мама моя тихая», и то, как он звал её совушкой, Оулкой… разрешила, а потом с силой зажмурилась, чтобы прекратить. Потому что… потому лучше этого было бы не делать.
Нетвёрдым шагом она сходила в спальню – «Ну, ложишься уже? Нет. Точно? Я потом. Давай уже, я местечко тебе нагрел. Спи» – и выудила из тумбочки найденный сегодня тюбик помады.
Вернулась к столу.
Зачем ей помада, она не понимала.
Сняла колпачок, повернула… Сосредоточенно посмотрела на алое жало. Что-то в этом было неприличное, дерзкое, словно старшеклассница надменно выпячивает кому-то фак… Ольга засмеялась.
Засмеялась и громко икнула.
Быстро зажала себе рот.
Сделала на невидимую публику большие глаза – чтобы поняли и извинили за неловкость.
– Олюш? – обеспокоенно спросил он из кровати. – Ты чего?
– Да спи уже! – крикнула она.
Ольга положила цилиндр – как сейчас она увидела, обшарпанный, поцарапанный – меж страниц и принялась читать: «Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила…»; лёгкое щекочущее покалывание на шее напомнило ей тот вечер, когда она точно так же сидела перед книгой, а Андрей тихо подошёл сзади, подкрался, и мягко запустил руки ей в разрез кофты… клятвенно обещанные Ольгой самой себе шестьдесят страниц так и остались в тот вечер недочитанными.
Хотя Анна…
Хотя Анна упорно и с озлоблением противоречила Вронскому, когда он говорил ей, что положение её невозможно, и уговаривал её открыть всё мужу, в глубине души она считала своё положение ложным, нечестным и всею душой желала изменить его. Возвращаясь с мужем со скачек, в минуту волнения она высказала ему… «высказала ему», – прошептала зачем-то Ольга… высказала ему всё; несмотря на боль, испытанную ею при этом, она была рада этому. После того как муж оставил её, она говорила себе, что она рада, что теперь всё определится, и по крайней мере не будет лжи и обмана.
Не будет лжи…
Не будет обмана…
Ольга словно увидела себя со стороны: замотанную, уставшую, с начинающим обвисать лицом… вот она перед развалившейся стопкой ненавистных тетрадей, с дешёвым вином из гипермаркета… с мужем в спальне, чьё лицо не хочется вспоминать… и ведь главное – не будет уже ничего… не будет… всё с ней уже случилось, всё произошло, и впереди только вот такое… жалкое, жалкое… остались в её жизни только орущие школьники, выдохшиеся коллеги, безликие и безымянные соседи, зимняя слякоть, непогодь, йогурты по акции, внесение показаний ГВС и ХВС, кэшбеки за подписку, бессмысленные слова случайным людям… всё… была Оля, и – всё… Сплыла. Остался призрак. Пар, дымка. Ничто. Призрак той девочки с зонтом. С зонтом и украденным кубком.
– Господи… – неслышно прошептала она. – Как же я…
На плечо её мягко легла рука.
Ольга содрогнулась.
Толкнула нечаянно пустую уже бутылку, и она покатилась по столу, оставляя за собой бордовую тонкую дугу.
Задышала, чтобы успокоиться.
– Ну? – сказал он. – Идёшь? Уже всё с тетрадями?
– Ты… – сказала она, не оборачиваясь. – Я же просила не подкрадываться… не надо подкрадываться ко мне!
– Оленёнок…
– Я не олень! Не олень! Хватит!
– Ну Олюш…
Он принялся оглаживать ей спину. Кончиками пальцев щекотно прошёлся по шее. Коснулся мочки уха.
– Давай не сейчас. – Ольга мотнула головой. – Просто… Не надо. Иди. Я потом.
***Видно было совсем ничего, и оттого Ольга шла частыми мягкими шагами. Осторожно.
Всматривалась. Щурилась.
Под ногами у неё хлюпала влажная жёлтая земля, простроченная жилками грязного снега, а из земли торчали колышки: низкие, не до колена даже. Нелепые.
По колышкам прокинуты были вяло висящие верёвки. Ни от чего они не могли уберечь; так, бутафория только и музейная избыточность, сообщающая о том, что всё здесь предусмотрено, не о чем переживать и беспокоиться.
Туман, туман, позёмка и сизая мгла придавливали Ольгу, путали и ворожили. Будто во сне.
Она знала, что видела это раньше. Или чувствовала. В другом времени, быть может. С другой собой. Но тогда всё было как-то немного иначе… проще? Или, наоборот, непонятнее?
Ей казалось, что рядом – протяни руку и коснись – кто-то дышит, но дышит не опасно, а… тоже обыденно, как нужно, как ведут себя забредшие сюда люди. Самые заурядные, обыкновенные.
Но вот внизу…
Там, под заскорузлой коркой земли, чувствовалось что-то… напряжённое ожидание? едва сдерживаемая дрожь? Ольга остановилась. Мир тут же покачнулся, просел, утробно буркнул и вспучился. Двинулся: вверх ударила огромная, мощная струя мутного пара.
Толстенный столб воды и пара – вверх.
Грохотнул, утянул за собой все звуки с земли в серое ничто.
Гейзер.
Это гейзер.
Громадный, ошеломляющий гейзер.
Влага воздуха стала враз аммиачной, сернистой. Резкой.
Ольга запоздало отшатнулась. Не от испуга, а потому что так нужно.
Вода замерла, словно у неё перехватило дыхание от вида сверху, а потом грузно осыпалась брызгами. По лицу Ольги поползли горячие капли.
В рокот падающих струй вплёлся вдруг визг: неправильный, нездоровый; рядом с опавшей в лужу струёй оказался вдруг – кто? что?
Взъерошенное облачко липкого тумана укрыло на секунды мир, а потом истаяло, и…
Ольга почувствовала, как сердце её перевернулось.
Он стоял на задних лапах, шерсть его была свалявшейся, клочкастой, морда… морда – в пене, а грязные зубы оскалены: медведь.
Медведь.
Ольга посмотрела на колышки… они, наверное, острые, и если вытащить, то… да, нужно вытащить и ударить в мохнатое его сердце… но нога её не двинулась к колышку, рука не протянулась, всё её тело усохло в известняк: скрипит, трётся, удар – и в прах, в осад.
Медведь упал на передние лапы.
Тяжко побежал к Ольге.
Он мотал головой, словно встряхивал внутри себя докучливых насекомых. Откуда-то из-за загривка шагам его вторил ритмичный звон, похожий на вызов телефона.
Шаг.
Шаг.
Шшшхт…
Неотвратимо. Грузно.
Всё внимание Ольги, всё то, что она привыкла считать собой, пряно ужалось где-то под сердцем, и её захолонуло ледяной оторопью: вот так… так… теперь это… это что, вот так вот и… вот так и закончится всё?
Мир остановился.
Остановился.
Он не прокручивался в череде воспоминаний, не подсовывал самые яркие моменты, нет.
Он растянулся. Не дал сделать вдох.
И медведь тоже впечатался в это янтарное недобытие, застыл. Так странно: он и бежал, нёсся прямо на Ольгу, с выпученными его глазами, с измазанной слюной мордой, и – висел, недвижно висел в паре шагов от неё.
Ольга втянула тугой воздух. Тут же картинка сдвинулась, поплыла, звонок отмер и задребезжал снова, словно звал проснуться – Ольга явственно, с накатывающим жутью восторгом знала, что спит – но просыпаться ей было страшно, страшно, потому что там… там было ещё хуже.
Медведь сильно толкнулся лапами.
С рыком завис в прыжке.
Глядел он не в Ольгу.
Рядом проявилась – соткалась из шёпотов и криков – смуглая черноволосая девушка, легкомысленно одетая в короткую кожаную юбку и кожаную же косуху; уши её оттягивали огромные серьги, а на голове пышно покачивалась ставшая недавно актуальной старомодная причёска. Вся она была яркой. Вызывающей. Вульгарной. Обращающей на себя внимание.
Ольга наконец додышала длинный свой вдох и вытолкнула из себя первую ноту крика, но тут красотка обернулась к ней: лицо у неё оказалось неправильным, тревожащим, не по размеру, что у неё с лицом? что не так? что? а медведь пастью своей уже здесь, вот уже. В висках у Ольги загудело электричеством, до сипа, до судорог, вся она сжалась, потому что поняла, но не обратила это понимание в мысль, запретила себе.
Красотка медленно приоткрыла губы и беззвучно произнесла, пытаясь специально для Ольги преувеличенно чётко артикулировать, чтобы она разобрала, но всё равно слова её были непонятны. Слова тонули в неизбывном звонке телефона, который никто не хотел брать.
Медведь ударил. Ударил девушку.
Подмял под себя.
Та скомкалась листом бумаги.
Ненадолго неопрятную эту кучу накрыла волглая муть, отошла, и под огромной лапой с чёрными когтями, с космами колтунов, Ольга снова увидела лицо; оно выглядело прорехой, разрывом.