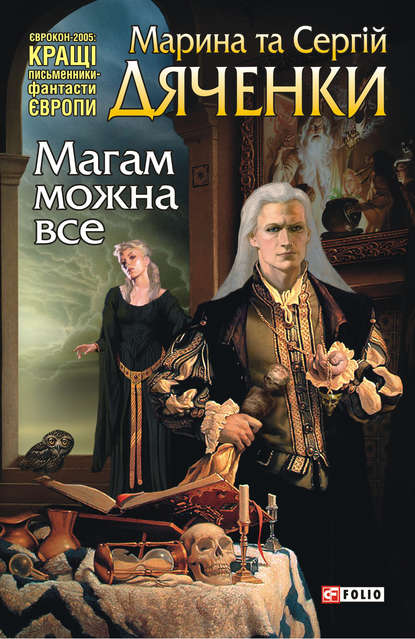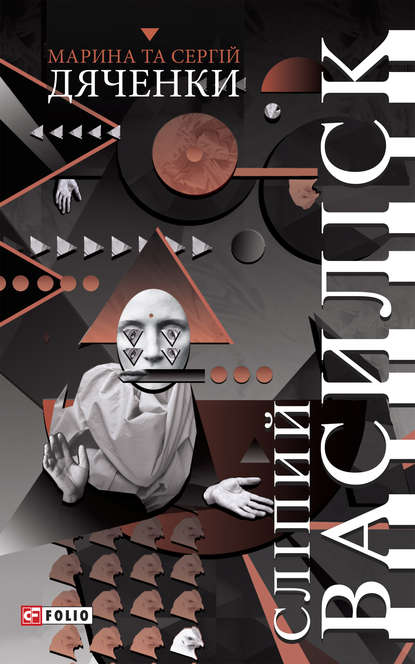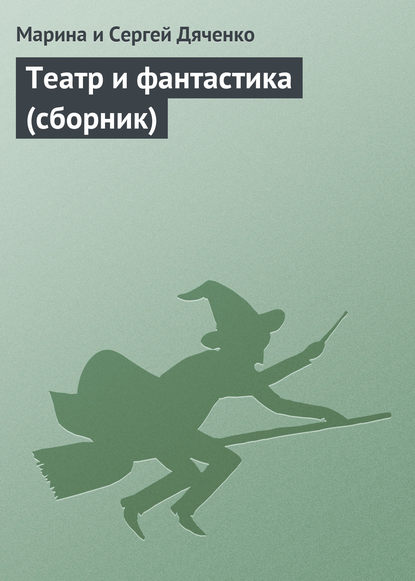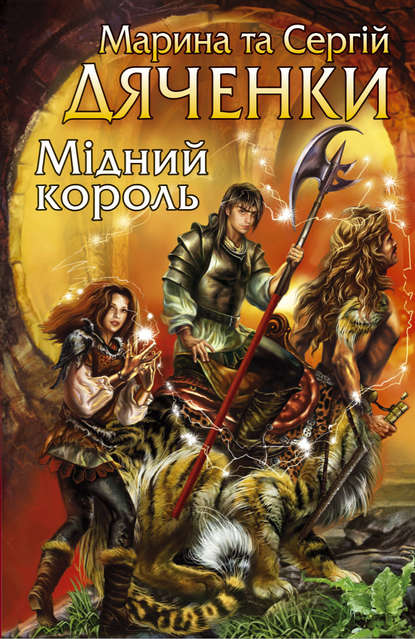Измаильская эскалада, или Тайная война Екатерины Второй против Запада
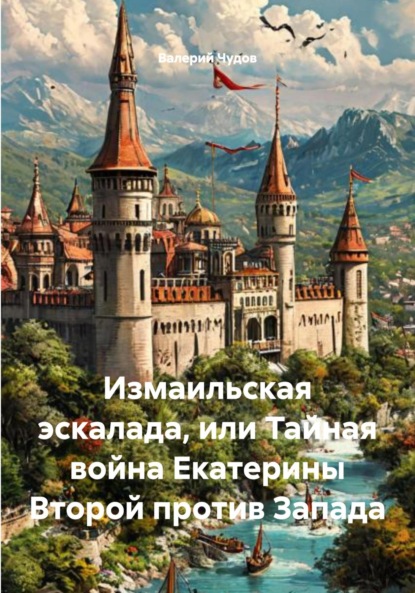
- -
- 100%
- +

«Измаильская эскалада1 города и крепости, в половине противу турецкого гарнизона в оном находящемся, почитается, за дело, едва ли еще где в истории находящееся, и честь приносит неустрашимому Российскому воинству».
Екатерина Вторая, императрица российская
Пролог
В конце 1790 года внимание не менее десяти европейских государств было приковано к маленькой точке на карте – турецкой крепости Измаил на Дунае. Такой интерес был продиктован разными желаниями правителей этих держав.
Когда, после блестящей кампании российской армии 1789 года, завершившейся победой при Рымнике и падением крупнейшей турецкой крепости Бендеры, начались мирные переговоры, западноевропейская дипломатия приняла сторону Турции и сделала все, чтобы не допустить окончания войны на условиях, предложенных Россией.
В конце лета 1790 года мирные переговоры России с Турцией зашли в тупик. Австрия под давлением Пруссии вышла из войны. Россия осталась одна в войне с Оттоманской Портой. В городок Систово за Дунаем съехались западноевропейские дипломаты, которые решили путем дипломатического шантажа заставить Россию подписать мир с Турцией на условиях, выдвинутых Пруссией, поддержанных Англией и Голландией. В случае отказа пойти на уступки (по примеру австрийцев) России грозились войной на западных границах. Российское правительство отказалось принять участие в Систовской конференции. Екатерине Второй нужно было разрушить козни «миротворцев», нанести противнику новый удар и заставить его пойти на мирные переговоры. «Мы ожидаем известий из-под Измаила, – писала императрица Потемкину, – то есть истинно это важный пункт в настоящую минуту, он решит – мир или война».
Таким образом, взятие Измаила приобретало, помимо военного, чрезвычайно важное значение в большой дипломатической игре.
Кроме того, императрице Екатерине Второй необходимо было покорение Измаила, чтобы поставить точку победной кампании 1790 года, в которой российские войска провели ряд успешных боевых операций и вышли к Дунаю.
Турция, фактически уже понесшая поражение от России, но чувствуя за собой мощную поддержку европейских правителей, не соглашалась ни на какие уступки по сравнению со своими требованиями в начале войны. Ей, во что бы то ни стало, нужно было удержать свою твердыню и оттянуть мирные переговоры, с надеждой, что Пруссия и Польша откроют военные действия в тылу российских войск. Турецкий великий визирь всячески уклонялся от обсуждения с русскими условий мира.
Пруссия, стремясь взять на себя роль вершительницы судеб Европы, поставила себе цель противодействовать усилению России. Она заключила договор с Турцией, пообещала ей помочь вернуть Крым и придвинула войска к границам России. Ей было очень выгодно, чтобы российская армия завязла в обороне Измаила.
Польша питала надежду освободиться от влияния России, опираясь на союз с Пруссией. И поэтому с вниманием следила за противостоянием на Дунае.
Англия, заключив договор с Голландией и Пруссией, желала ограничение власти России и старалась принять меры по спасению Турции. Следовательно, была заинтересована, чтобы крепость устояла.
Швеция, хоть и подписала мир с Россией, но желала её ослабления. Посему поражение русских войск под Измаилом встретила бы с радостью.
Австрия и Дания, под давлением Пруссии, отказались от своих союзнических обязательств с Россией, но втайне желали её победы на Дунае.
Даже Франция, заключившая ранее торговый договор с Россией, была заинтересована в сильной Оттоманской империи.
Вот так, совершенно неожиданно, на дунайской крепости Измаил завязался узел интересов влиятельнейших государств Европы.
Самыми опасными для России были Англия и Пруссия. Они же были и самыми агрессивными. Англия – потому что у нее был большой, сильный флот. Пруссия – потому что ее войска стояли на границе с Россией.
Остальные страны не были столь опасными.
Польша ничего не значила без Пруссии. У Швеции очень корыстолюбивый король, который за деньги мог быть и врагом и союзником. Франция была занята своими внутренними делами: там произошла революция. Голландия была далеко и не настолько сильна, чтобы бороться в одиночку с Россией.
Глава 1. Селим Третий, падишах Оттоманский
Султан хмурился. Это был высокий, крепкий молодой человек, двадцати девяти лет, с небольшой черной бородкой и выразительными темными глазами на смуглом лице.
Он сидел в Зале Приемов дворца Топкапы2. В одиночестве. И наедине со своими мрачными мыслями. А сокрушаться было от чего.
Селим Третий взошел на престол полтора года тому назад, когда его дядя, султан Абдул-Хамид Первый, выпив чашку кофе, отошел в мир иной. Селим Третий считался в Турции ниспосланным для проведения реформ. Перед рождением Селима, астролог предсказал его отцу, султану Мустафе Третьему: если принц родится при определенном противостоянии планет, ему будет суждено возродить империю Османа. И потому правитель приказал врачам и бабкам, дежурившим в комнате роженицы, «обеспечить» рождение ребенка именно в тот счастливый час. Принц родился немного раньше, но от султана это скрыли. Таким образом, сложилось убеждение, что Селим самим небом предназначен для великих дел. Такую судьбу внушали ему с детства. Мустафа даже брал десятилетнего сына на заседания Дивана3, чтобы мальчик привыкал к государственной деятельности. Однако после смерти Мустафы Третьего, падишахом стал его брат под именем Абдул-Хамид Первый. И Селиму пришлось пятнадцать лет ждать своего часа в «золотой клетке», где обычно держали наследников. Тем не менее, даже находясь в изоляции, не очень строгой, он интересовался делами государства. Наследник получил хорошее европейское образование, имел пристрастие к западноевропейскому театру, музыке, искусствам и поэзии, европейскому военному искусству. Он с юношеских лет понял, что Османской империи необходимы преобразования, особенно в военной области. Несмотря на ограничения, юноша имел возможность общаться со сторонниками реформ. Врач его отца, Лоренцо, много рассказывал ему о Европе и европейской армии. Еще не будучи султаном Селим, при посредничестве врача, через французского посла, тайно написал Людовику Шестнадцатому с просьбой дать ему советы о том, как поднять османские вооруженные силы до уровня европейских. В дальнейшем он продолжал вести с ним активную переписку.
Селим пришел к власти в полном расцвете сил, двадцати восьми лет, в трудном для Османской империи и знаменательном для мировой истории 1789 году, когда началась Великая французская революция. Она несколько улучшила международное положение турецкого государства, поскольку отвлекла от него силы европейских держав. Но в то же время Селим Третий также получил в подарок от предшественника неудачную для турок австро-русско-турецкую войну.
Энергичный и деятельный молодой правитель, вступив на престол, был полон желания провести преобразования, которые вернули бы Турции её потерянные земли и славу. Но от предшественника ему досталась не только огромная империя, но и множество нерешенных проблем. Государство нуждалось в переменах.
Поэтому, после церемонии «опоясывания мечом Османа»4, Селим Третий в своем первом султанском рескрипте (хатт-и-шериф) написал: «Страна погибает, еще немного и уже нельзя будет ее спасти». Значит, нужны реформы. Но проводить их во время войны с Россией невозможно. Наиболее опытные члены Дивана предлагали начать переговоры с русскими о мире. Однако честолюбивый султан выбрал путь на продолжение войны до победы. И обнародовал фирман5, в котором пообещал, что «он либо лишится своего трона, или отомстит за Очаков».
Сразу начались военные приготовления. Мужчины от двадцати до тридцати пятилетнего возраста призывались под знамена, и 200 тысячное войско должно было собраться у Шумлы и Силистрии. Сам султан и его мать, равно и многие из вельмож, отдали свое серебро для обращения в монету.
Однако ожидания султана не оправдались. Несмотря на все усилия, боевые средства Порты оказались слабыми. Последовали поражения под Фокшанами и Рымником. Сдались крепости Хотин, Аккерман, Бендеры. К концу года русские войска стояли в Молдавии и Бессарабии.
Чтобы начать успешно новый 1790 год, следовало вновь пополнить войско. Срочно был отдан приказ набирать в армию из мужского населения всех округов, начиная с семилетних мальчиков. Селиму нужна была скорая победа в войне. И вот в июле, чтобы осуществить стратегический прорыв, повернуть вспять ход событий, после молебна армия Селима Третьего выступила под священным знаменем пророка к Дунаю. В циркулярном известии великого визиря6, который возглавлял армию, объявлялось, что войско предпринимает поход «с божьей волей, с надеждой на спасение и возвращение исламских областей, крепостей и подданных и на расплату с врагами веры». Эта огромная армия направлялась к Исакче, где находились склады боеприпасов, провианта и наиболее удобное место для переправы на левый берег Дуная. В спешке собирали продовольствие, фураж, ремонтировали дороги и станции между Шумлой и Исакчи.
Но на Дунае предполагалось ограничиться лишь оборонительными действиями. Для чего в дунайские крепости Килия, Исакча, Тульча и Браилов предполагалось ввести сильные гарнизоны. А Измаил, сильнейший оплот османов на Дунае, занять гарнизоном в 30 тысяч человек, под начальством известного своей храбростью трехбунчужного Айдозлы Мехмет-паши.
Главный же удар нанести на Кавказе наступлением сорокатысячным корпусом трехбунчужного Батал-паши к Кубани. И уже оттуда высадить сильный десант в Крыму с помощью флота в 40 линейных кораблей и вернуть полуостров Оттоманской империи.
Селим Третий вздохнул. Сейчас уже конец октября, а хороших вестей нет. Только плохие. Армия Батал-паши понесла сокрушительное поражение на Кубани. Сам Батал-паша попал в плен. И вот последнее известие: Килия капитулировала почти без боя. Гарнизон в пять тысяч человек покорно сдался. Предатели!
Султан скрипнул зубами. Что делать? Чтобы подавить растерянность, он бережно взял лежащий рядом нэй и начал играть на этой незатейливой свирели из тростника. Полилась тихая, грустная мелодия.
По закону Османской империи, каждый мужчина, не исключая султана, должен уметь какому-нибудь ремеслу. Селим с детства выучился играть на нэе7 и танбурине8. Слыл хорошим исполнителем. Сам писал музыку и стихи. Вот и сейчас у него родилась новая композиция.
Он так увлекся игрой, что не слышал, как открылась боковая дверь и вошла женщина с гордой осанкой. Несмотря на возраст – сорок пять лет – и небольшую полноту, на ее лице еще лежал отпечаток былой красоты. Не желая прерывать игру, она остановилась. Это была мать падишаха – валиде-султан, вдова султана Мустафы Третьего. Грузинка по происхождению. Еще девочкой ее выследили и похитили абреки, чтобы продать в жены султану. В Серале юная грузинка получила имя Михр-и-шах (Луноликая шахиня). Девочка была не только хороша, но и умна. Правда, у нее был один «недостаток»: она обладала присущим жительницам Гюрджистана независимым нравом. Это качество в гареме жестоко каралось, и соперницы Луноликой ожидали ее скорого падения. Однако она не только выжила, но и сумела стать любимой женой султана. Мустафа настолько уважал ее, что иногда, увлекаясь другими женщинами, старался встречаться с ними «на стороне». Михр-и-шах сумела получить хорошее образование, владела несколькими языками.
Почувствовав взгляд, Селим оторвался от нэя и недовольно повернул голову. Никто не имеет право войти сюда без его разрешения. Кроме валиде… Султан отложил свирель, поднялся и подошел к матери. Взял ее за руку, подвел к небольшой кушетке, усадил и сел рядом.
– Рад тебя видеть, моя валиде, – произнес он тихим голосом.
– Но почему печален мой лев? – спросила она в ответ.
Жена султана никогда не называли своего сына по имени. Только арсланым – мой лев. Как и все матери, султанша с большой нежностью относилась к своему сыну. После его рождения она сама кормила его грудью. И Селим оказывал большое уважение матери, считал ее женщиной весьма умной.
Как и все валиде, Михр-и-шах имела большую силу при дворе. Она переехала во дворец Топкапы, когда ее сын прошел церемонию «опоясывания мечом Османа».
Михр-и-шах хорошо помнила тот апрельский день.
Извилистые улицы Стамбула оцеплены янычарами. Толпы зевак. Большой кортеж. Впереди – глашатаи, вельможи и великий визирь. За ними – задрапированная карета в сопровождении бостанджи (солдат дворцовой стражи султана). Шестеркой лошадей правит сам главный евнух султанского гарема. Идущие следом придворные кидают в толпу монеты. За ними катятся десятки экипажей с наложницами. Наконец процессия подъезжает к дворцу Топкапы. В переднем дворе ее встречает новый султан Селим Третий. Михр-и-шах выходит из кареты. Правитель целует ей руку и ведет новую хозяйку гарема во дворец. Для него, как и для каждого турецкого султана, это главная женщина в империи. А для остальных – самая могущественная дама у османов.
– Ах, валиде, трудно быть падишахом такой огромной державы, как османская, – пожаловался Селим матери.
Михр-и-шах, как никто другой, знала своего сына. Несмотря на свою внешнюю деятельность и воинственность, он был человеком мягкого нрава, в некоторой степени даже слабохарактерным. Больше чем к политике и военному делу, его влекло к мистике, зрелищам, поэзии и музыке. По молодости он не обладал еще той твердостью и отвагой, проницательностью и силой, которые бы позволили ему без ошибок командовать государством. Но Селим был ее сын. Поэтому она улыбнулась и сказала:
– Это минутная слабость, мой лев. Ты правитель самой большой державы в мире. Ты мудр и могуществен. У тебя большая армия и сильные крепости. Не все сразу получается, нужно время, чтобы выйти тебе на правильный путь.
Она видела, как преображается при ее словах Селим. Он выпрямился, расправил плечи, в глазах появился огонь. Но продолжал жаловаться:
– А пока, моя валиде, одни неудачи…
– У тебя много сторонников, мой лев. Тебе помогут твои друзья…
В это время вошел капы-ага, начальник белых евнухов, охраняющих ворота Счастья, что ведут в третий двор Топ-капы – личные покои султана. Он остановился у двери и поклонился.
– Что тебе? – спросил султан.
– Прибыл Кючук Хусейн-паша, повелитель.
Селим посмотрел на мать. Та поняла взгляд.
– Я ухожу, мой лев. Не буду мешать твоим государственным делам.
Селим подождал, пока она не исчезла за боковой дверью, и приказал служителю:
– Пусть войдет.
Вошел небольшого роста, худощавый мужчина с большими усами, которые делали его вид воинственным. На вид ему было тридцать с небольшим. Он остановился у входа, поклонился.
– Приветствую тебя, мой господин.
Это был Кючук Хусейн-паша. Прозвище «Кючук» (Маленький) он получил из-за маленького роста. По происхождению грузин, Хусейн воспитывался в султанском дворце вместе с принцем (будущим султаном) Селимом. Сразу по вступлению на престол Селим назначил его лейб-камердинером (баш чухадар).
– Проходи, – сказал султан, – присаживайся.
Он подождал, пока посетитель устроится на кушетке, и обратился к нему:
– Хусейн-паша, ты мой друг. Самый близкий, кроме валиде и моей сестрички. Ты всегда был откровенным со мной. Скажи, что мне делать?
– Править, мой господин.
– Ты помнишь, когда я взошел на престол, то обратился к чиновникам, чтобы мне говорили правду, – всю правду? Я им сказал договориться с шейх-уль-исламом9 и риджалами10, чтобы покончить со злоупотреблениями.
– Я помню, мой господин.
– И вот прошло полтора года и ничего не изменилось. Взяточничество и казнокрадство чиновников, самоуправство пашей и вельмож. В результате – смуты в провинциях, оскудение казны. Сегодня, после заседания Дивана, каймакам-паша11 доложил мне, что некоторые аяны12 завели себе свои армии. И это в то время, когда нашему войску не хватает людей. Когда мы терпим поражение за поражением! А великий визирь сидит в Шумле и ничего не делает!
– Ах, мой господин, что он может сделать, если треть его армии разбежалось, не дойдя до Дуная. Янычары превратились в толпу ленивых разбойников, которые только шантажируют султана, а воевать не умеют. Они уже изжили себя. Тебе надо новое, дисциплинированное, обученное по-европейски войско. Оно нужно не только для войны с Россией, но и чтобы навести порядок внутри страны.
– Я знаю, но как собрать это войско, когда идет война?
– Надо закончить войну и заняться преобразованиями. У тебя есть англичанин Мустафа и француз Тотт. Они уже много сделали для улучшения нашей артиллерии.
– Ты считаешь, что надо заключить мир с русскими? Но моя гордость не позволяет пойти на это. Кроме того, я буду настаивать, чтобы русские вернули Крым. Без этого – мира не будет!
– Я военный человек и готов умереть за тебя на поле боя, если ты скажешь продолжать войну. Тебе решать.
– Придется с реформами подождать немного. Я считаю, время для перемирия не пришло. Мы еще сильны. Нас поддерживают иностранные правители… – Селим поморщился. – Лучше бы они, вместо обещаний, открыли военные действия и ударили в тыл России. А пока нам надо рассчитывать на свои силы. Нужно остановить русских на Дунае.
– На этой реке у нас надежные крепости.
– Одна уже сдалась! – мрачно заметил султан.
– Многое зависит от начальника гарнизона. Там у нас есть Измаил во главе с бесстрашным Айдозлы Мехмет-пашой. Он никогда не пойдет на сдачу крепости.
– Да, это наша надежда. Измаил – несокрушимая твердыня с гарнизоном в целую армию. Кроме того, на носу зима, и вряд ли русские предпримут какие-нибудь действия. А чтобы укрепить веру гарнизона Измаила, я пошлю туда фирман. Пусть защитники крепости бьются до последней капли крови. И кто спасется или сбежит – будут казнены.
– Ты очень проницателен, мой господин.
На этом султан отпустил своего друга и остался один со своими невеселыми мыслями. В раздумье он взял в руки танбурин и принялся сочинять новую музыкальную композицию.
Глава 2. Екатерина Вторая Алексеевна,
императрица Российская
Екатерина задумчиво перебирала бумаги, что принес ей статс-секретарь по военным делам Турчанинов, одновременно слушая его доклад.
Обычно она вставала в шесть утра, но сегодня поднялась позже. Чувствовала себя слабой после болезни. Однако уже в восемь часов, выпив крепкий кофе со сливками и гренками, императрица вошла в кабинет. На столе по заведенному раз и навсегда порядку, на одних и тех же местах, лежали приготовленные документы. Екатерина давно считала себя русской и во всем была патриоткой. Даже платья для фрейлин велела шить по русским образцам. Единственно, что у нее осталось от немецкой принцессы, так это дотошность в государственных делах. И потому, прежде чем подписать документ, она непременно прочитывала его и делала свои пометки. Во время чтения бумаг перед ней ставилась табакерка с изображением Петра Первого. Как правило, прежде чем приняться за работу, императрица мысленно спрашивала у изображения этого великого человека, чтобы он делал на ее месте? Что бы он повелел и что запретил. Занятия государыни продолжались до девяти часов утра. В это время она никого не беспокоила, но и к ней никто не обращался. После девяти императрица начинала принимать сановников с докладами.
Теперь вот, после обер-полицмейстера и обер-прокурора дошла очередь до Турчанинова. Это был маленький человек, такой гибкий, что кланяясь, казалось, становился в два раза меньше. Когда, бывало, государыня отдавала ему приказания, он, желая выразить почтение, сгибался так, что и ее величество, будучи сама невысокого роста, вынуждена была также нагибаться, чтобы разговаривать с ним. Тем не менее, она ценила его за ум, образованность и ловкость в делах.
Внезапно императрица прервала речь своего подчиненного и спросила:
– А нет ли известий от светлейшего князя?
Вопрос ее величества казался лишним. Если бы курьер прибыл, ей бы уже доложили. Но Турчанинов ничем не показал своего удивления. Он был опытным царедворцем. Раз государыня спрашивает, значит, она беспокоится о делах южной армии, ведущей боевые действия с Турцией у Дуная, и которой командует князь Потемкин-Таврический. Оттуда уже почти месяц докладов не поступало. Поэтому статс-секретарь развел руками, будто отсутствие вестей его вина, и, поклонившись, ответил официально:
– Никак нет, ваше императорское величество.
– Хорошо, Петр Иванович. Продолжай, – повелела императрица.
Дослушав до конца доклад, она отпустила его.
Когда Турчанинов скрылся за дверью, Екатерина встала из-за стола и, кутаясь в теплый халат, прошла к окну. Мороз уже начал рисовать узоры на стекле, а ведь только вчера еще лил дождь. За окном было темно. Первый день ноября.
«Уж конец года недалеко, – подумала императрица. – Но итоги подводить рано».
Она недаром беспокоилась о делах на юге. Именно там решалось сейчас, наступит ли мир с Турцией или нет. А мир этот был очень нужен.
В феврале умер австрийский император Иосиф Второй, единственный союзник России в войне с Османской империей. Заступивший на его место нерешительный Леопольд, подчиняясь давлению Пруссии, в июле заключил перемирие с Турцией, оставив своего союзника один на один с противником. Однако не прошло и месяца, как последовал дипломатический ответ России. Война со Швецией, которая длилась два года, закончилась миром. После чего была переброшена часть войск на юг, и российская армия вышла к Дунаю.
В конце августа последовала сокрушительная победа русского флота на море. Адмирал Ушаков разгромил турецкую флотилию капудан-паши13 у Тендры. Эта победа очищала море от неприятельского флота, мешавшего русским судам пройти к устью Дуная для содействия армии. Турки, не рискуя бороться с российскими войсками на суше, заперлись в дунайских крепостях Килие, Измаиле, Тульче, Исакче. Понимая, что армия противника измучена и уже наступает дождливая осень, они надеялись на неготовность русских атаковать укрепления.
Кроме того, на продолжение войны Турцию подталкивали Пруссия, Англия и Нидерланды. Пруссия, к тому же, обещала поддержать и Польшу, если та начнет военные действия против России. Поэтому русское правительство вынуждено было держать на польской границе два больших корпуса.
Такое положение дел вызывало обеспокоенность у императрицы. Оттого-то, она, после заключения мира со Швецией, просила Потемкина ускорить активные действия на Дунае. И вот уже двадцать девять дней от главнокомандующего всеми российскими сухопутными и морскими войсками на юге нет известий.
Дверь в кабинет отворилась, и вошел статс-секретарь Безбородко. Он числился вторым членом в Коллегии иностранных дел, хотя фактически являлся ее руководителем. Президент этого ведомства, вице-канцлер Остерман, слыл натурой бесцветной и сколь-нибудь важного влияния на дела не оказывал. Именно поэтому все нити руководства были в руках Безбородко. С наружностью медведя он соединял тонкий, проницательный ум и редкую сообразительность.
Екатерина полностью доверяла Безбородко. Тот умел сглаживать конфликты, находить золотую середину даже в чрезвычайно запутанных ситуациях. Не был упрям. Ему были присущи огромная работоспособность, умение ставить вопрос и формулировать мысли. Всё схватывал на лету и отлично владел словом. Чтобы написать бумагу, Безбородко хватало одной минуты. Никто не мог справиться лучше него с написанием писем и указов. Большое количество информации проходило через руки Александра Андреевича, которую он непременно доносил до императрицы. Выдержать огромную нагрузку ему помогала цепкая память. За все это Екатерина и ценила своего статс-секретаря и часто делилась с ним своими планами.
Безбородко подошел к императрице и поклонился. Соблюдая установленный этикет, Екатерина ответила поклоном и дала поцеловать руку.
Не давая начать доклад, она спросила его:
– Как там дела в Систове, Александр Андреевич? Всё заседают?
После выхода австрийцев из войны, в этом приграничном турецком городке начались переговоры турок с представителями государств, враждебных России: Пруссии, Англии, Голландии. Были там и австрийцы. На этой конференции необходимо было выработать условия мирного договора между Россией и Турцией.
Вопрос императрицы удивил Безбородко. Ведь он занимался шведскими делами, а турецкими ведал Потемкин. Но статс-секретарь не подал виду и ответил почти сразу, давая знать, что он и там контролирует ситуацию:
– Так точно, государыня, заседают. Но. по моим сведениям, пока без результатов. Турки продолжают упираться и не идут на уступки.
– Да я знаю. И ничего не меняется вот уж несколько месяцев?
– Заупрямились османы, и это несмотря на то, что поражены повсюду от ваших доблестных войск, государыня!