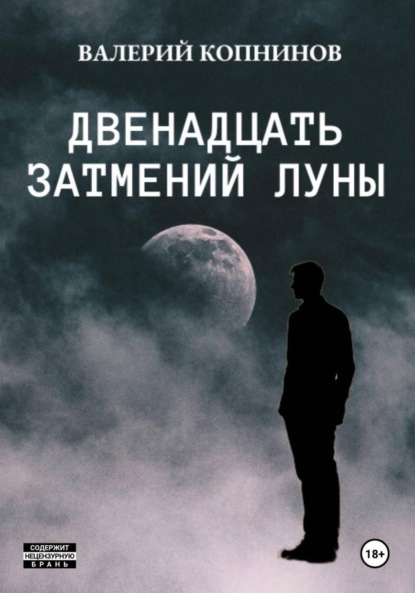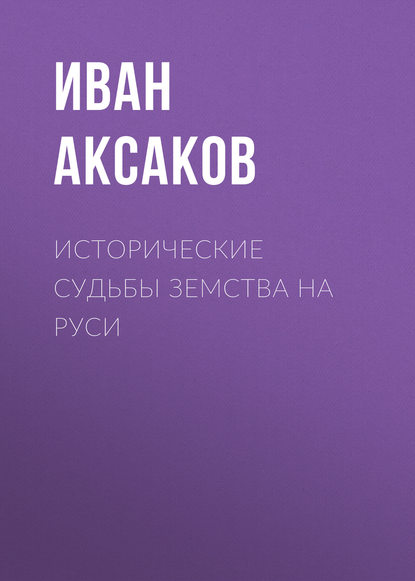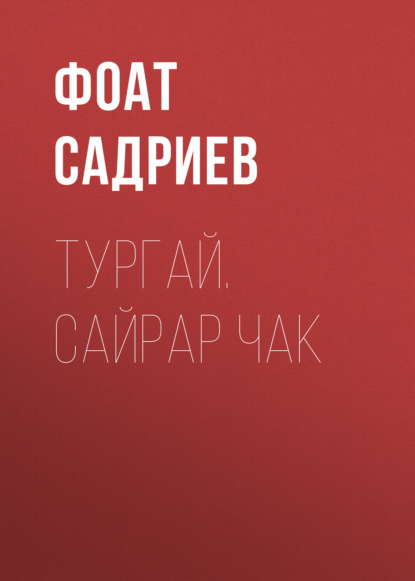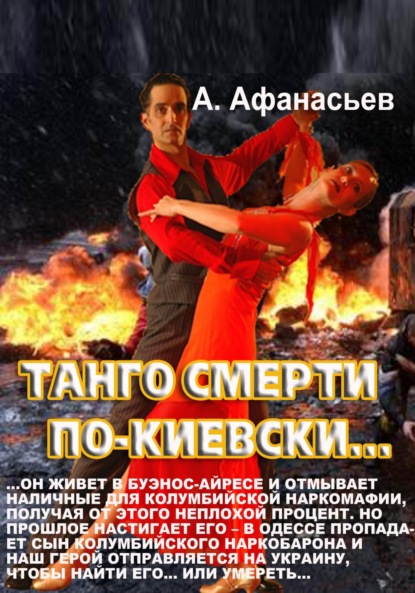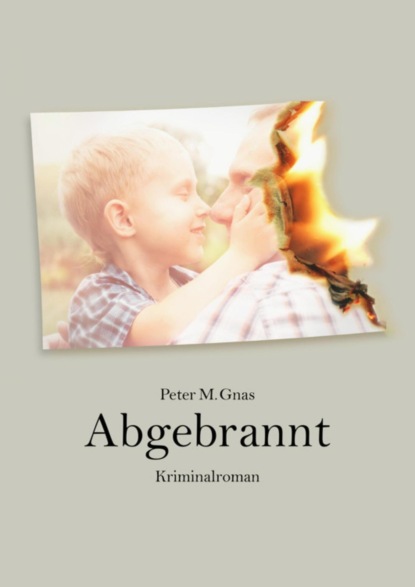- -
- 100%
- +
Буфет нам с мамой понравился, хотя он и отнял хилые остатки денег, припасённых на дорогу. И ещё во Дворце съездов на меня очень большое впечатление произвёл туалет – таких туалетов я больше не видел нигде.
А совсем недавно в Кремлёвском дворце проходил Первый съезд народных депутатов СССР. Проходил совсем не так, как привыкли в нашей стране, – проходил со спорами, смелой критикой как снизу, так и сверху, с какой-то отчаянной бесшабашностью людей, пилящих под собою сук. Мол, всё равно он гнилой, скоро сам обломится.
Сук, похоже, выдержал, даже добавились на нём новые, умеренно-демократичные сидельцы под предводительством Ельцина, заставив прежних сидельцев в лице Горбачёва, Шеварднадзе, Лигачёва и «других товарищей» потесниться.
И когда на тринадцатый день сотворения нового мира на сук попыталась сесть белая ворона в лице академика Сахарова, надумав прокаркать совсем уж «ни в какие ворота» либеральный «Декрет о власти», места уже не хватило. После выяснения чего под дружные, несмолкающие аплодисменты съезда Сахаров так и продолжал, раскинув белые крылья, кружить вокруг древа, транслируемый в своей беспомощности во все телевизоры Советского Союза.
Сук-то выдержал, а вот древо, из коего сук тот произрастал, после революционно-демократического съезда накренилось. Да так сильно повело его в сторону, что каждый вечер, просматривая программу «Время», мы всем многомиллионным населением боялись услышать прощальный треск древа, завалившегося совсем! А когда узнавали, что нет, пока ещё не завалилось, – облегчённо вздыхали, и вздох этот тихим ветром пролетал по всем часовым поясам с востока на запад и по всем поясам климатическим с юга на север…
«Да, такая, видно, энергия у Красной площади – стоит только оказаться здесь, среди чтимых символов государства, как сразу полезут в голову мысли государственного масштаба!» – подумал я и, решив не углубляться далее, заторопился в родимую общагу, где можно было достаточно легко развеять мрачные думы в доброжелательной среде однокурсников.
Наш курс, похоже, не случайно состоял из чёртовой дюжины творчески заряженных мужиков, работающих преподавателями театральных дисциплин в институтах культуры, разбросанных по разным уголкам необъятной страны. От Владивостока до Краснодара. И при всей разности характеров и личностных устремлений в искусстве мы легко нашли общий язык.
Козе понятно, что компания взрослых дядек, блюдущих в своих родных местах репутацию добропорядочных мужей и уважаемых педагогов, вырвавшихся из скучноватых рамок, обусловленных кодексом семьи и брака, а также педагогической этикой, вела во время сессии не самый праведный образ жизни.
При таком раскладе из всех известных в интеллигентских кругах богов самым почитаемым оказался Бахус. Этот добрый и весёлые бог кочевал из комнаты в комнату промеж моих сокурсников, и все мы, не щадя «живота своего», воздавали ему должное.
Богемная жизнь, она, знаете ли, требует соблюдения определённых условностей. И явленный миру театральный деятель, совсем не пьющий ни водки, ни вина, а уж тем более коньяка, мог вызывать или фантастическое уважение, или крайнее недоумение.
Богемная жизнь пришлась по вкусу каждому из нас! Пусть в разной степени, но…
Прекрасные, неписаные законы мужского братства служили нам руководством к действию! Да, без женщин было скучновато, хотя и в такой жизни нашлись свои плюсы.
А для того чтобы совсем не забыть о дамах и необходимой любому джентльмену галантности, в нашем расписании существовали вторники и четверги, когда мы с утра ехали на занятия в актёрский колледж при ГИТИСе.
Этот колледж для талантливых детей старшего школьного возраста организовал руководитель нашего курса Борис Гаврилович Голубовский – профессор, народный артист РСФСР… Наш театральный БГ! Умный, образованный, добрый, серьёзный, маститый, глубокий… Посещавший в молодости (это же когда было-то?) спектакли и Станиславского, и Немировича-Данченко, вкушавший (ходили такие слухи) с Мейерхольдом по случаю Светлой Пасхи коньяк из самовара…
Да что там говорить – настоящий бог театрального искусства. Даже венчик седых волос на макушке БГ не выглядел обычным последствием возрастного облысения – он удерживал светящийся нимб!
Так вот – нас время от времени Борис Гаврилович тоже привлекал в колледже к работе с ребятишками над актёрскими этюдами. Но речь не об этом.
Речь о неизбывной нежности, что всегда таится в мужской душе и что находит порой самую парадоксальную возможность для выхода наружу.
Рано утром, к восьми ноль-ноль, родители доставляли деток на занятия, и среди прочих мам приезжала актриса театра им. Вл. Маяковского Женя Симонова, которая привозила в колледж дочку Зою – плод очень яркой и нежной любви с Александром Кайдановским. Любви, пролетевшей как комета над головами изумлённой публики, живо интересующейся личной жизнью популярных персон.
Может быть, Женя звучит несколько фамильярно, только именно так мы называли её между собой, потому что из всех людей, обременённых известностью, более простого и доброжелательного человека я, пожалуй, не встречал. И актрис, совершенно не играющих и не кривляющихся в жизни, тоже видел не много, даже среди не избалованных всесоюзной славой провинциальных примадонн, широко известных в узких кругах.
Именно простота и открытость Жени Симоновой подтолкнули нас на создание забавного «упражнения» под условным названием «Доброе утро с Женей». Упражнение заключалось в том, что без четверти восемь мы рассредоточивались на лестничных маршах (а класс для занятий актёрским мастерством находился на третьем этаже) и по очереди приветствовали Женю Симонову, извлекая из себя всю возможную галантность, о которой я упоминал выше.
– Здравствуйте, Евгения! – произносил дождавшийся своей очереди, величая её полным именем.
– Здравствуйте! Доброе утро! – отвечала Женя, щедро добавляя к словам искреннюю светлую улыбку и вежливо раскланиваясь с каждым из нас.
Может, это выглядит наивно, но мы считали улыбку, полученную от Жени, хорошей приметой на весь день.
В один из вторников я немного замешкался в дороге, пропустив парочку забитых до отказа поездов в метро, и на приветствие с Женей опоздал.
Несмотря на это, день выдался неплохой, а в завершении своём ещё и одарил редким, буквально двумя-тремя годами ранее так просто невозможным культурным событием.
И событие это именовалось – «Фестиваль европейских театров абсурда»!
Уточнение о том, что фестиваль именно европейских театров абсурда, было явно излишним. На тот момент из области абсурда в советских храмах Мельпомены в основном была только зарплата, начисляемая режиссёрам и актёрской труппе.
Но это к делу не относится, а относится к делу то, что после занятий, с большим волнением трогая время от времени карман, где лежал мой краснокорый студенческий билет с тиснёной золотой аббревиатурой РАТИ (ГИТИС), я мчался на улицу Горького в театр имени М. Н. Ермоловой. Там ожидалось открытие фестиваля и следом – первый спектакль авангардной голландской труппы. А свой студенческий билетик я намеревался, «достав из широких штанин», с неким достоинством сунуть в окошко администратора и получить от него контрамарку, может быть, даже и с местом.
К моему вящему удивлению, никто из одногруппников не составил мне компанию.
«Вот же идиоты! – внутренне возмущался я косности своих недалёких товарищей и их преступному нелюбопытству. – Такая редкая возможность представилась. Можно сказать, прикоснуться… Увидеть воочию, а не получить из вторых рук описательными обрывками в какой-нибудь театроведческой статье. Идиоты, дураки, а также ленивые засранцы…»
И все причины, наспех изобретённые моими сокурсниками, для того чтобы «к большому сожалению» не присутствовать на таком важном и нужном знакомстве с почти неизвестной нам европейской культурой, я счёл отговорками. Кроме, пожалуй, Мишкиных причин.
Мишка – мой земляк, но живёт он в Кемерове, хоть сам родом с Алтая. Там, в Кемерове, у него жена, семья… Так вот, Мишке брата жены нужно было встретить – тот с делегацией шахтёров Кузбасса по своим забастовочным делам в Москву приехал.
– Слушай, Мишаня, – заинтересовался я, – от этих забастовок и вправду толк есть? Или так, веяние времени?
– Да я сам не пойму, – ответил Мишка. – Вроде бы им чего-то там пообещали, но лучше пока никому не стало…
– А чего вообще-то хотят?
– Жить по-человечески хотят! А то лозунгов много про рабочий класс, а на деле – кто работает, тот не очень-то и ест! Порядка нет… А порядка нет – значит бардак! Коммунисты вроде уже не власть, а демократы вроде ещё не власть… А промеж коммунистов и демократов ещё какие-то дельцы повылазили… Нарисовались – не сотрёшь!
– А не боятся? – задал я животрепещущий вопрос, на минутку вообразив себя забастовщиком.
– Да нет! Шутят, что дальше Сибири не сошлют! – рассмеялся Мишка. – Не те времена сейчас… Они вон в прошлом году написали в «Прожектор перестройки», а в этом так прямо в Верховный Совет СССР – на то и гласность придумали! С ними считаются, уважают… Тот же Ельцин с Кузбассом связан плотно, поддержку обещал на самом высоком уровне. А летом самых главных из активистов в Америку приглашали, встречали почти как членов правительства и деньжат отсыпали. Брат жены как раз и ездил – был-то он машинистом электровоза, вагонетки таскал, а теперь в стачкоме заседает.
На этой оптимистической ноте Мишка откланялся, а я поспешил в театр.
И если бы не встреченная ещё днём в перерыве между занятиями возле институтского музея моя барнаульская сокурсница, работающая, как и я, в нашем родном АГИКе, но только на кафедре сценической речи и проходившая здесь ассистентуру-стажировку у знаменитой Промтовой, то пришлось бы мне наслаждаться чуждым для нас модернистским искусством в одиночку.
Марина Шнайдер, так именовалась моя «вчерашняя» сокурсница, а ныне педагог и, стало быть, уже – Марина Владимировна.
Но для меня она была просто Маша, временно укатившая из нашей сибирской глубинки в Москву, как одна из чеховских «Трёх сестёр». Я и называл её Маша в честь одноимённой чеховской героини. Да и относился я к Маше практически как к сестре, невзирая на то, что она была интересной молодой женщиной, не обременённой узами брака.
В годы учёбы мы жили очень плотненько в едином для всех пространстве познания профессии, умело и рукотворно созданном нашими педагогами, и, становясь на глазах друг у друга творческими личностями, приоткрывали различные уголки своей души. А иногда, дополнительно, обнажали и своё тело – во время гастролей учебного театра приходилось переодеваться в крохотных комнатках всем без разбора: и мальчикам, и девочкам. И неоднократно в таких ситуациях я помогал Маше в быстрой смене костюма, вплоть до застёгивания лифчика. Такое доверие – сближает.
В общем, вся эта жизнь замесила между нами особую дружбу, которую не хотелось переступать.
Итак – мы в театре! Партер, третий ряд, середина. Зал полон. И, по всей видимости, всех ожидает нечто волшебное, новое, к тому же ещё вчера запретное для нас, советских людей, покрытое дымкой тайны и оттого ещё более привлекательное и сейчас магическим образом воздействующее на наши вожделеющие умы примерно так же, как запах докторской колбасы на голодного кота.
Сцена совершенно пуста и вызывающе щерится своим чёрным малевичевским квадратом, с открытыми, как внутренности при полосной операции, колосниками и штанкетами. А как же – это авангард! Не шутка! Мозг мой начинает усиленно работать в поисках заложенного в это пустое пространство смысла, трусливо предполагая, что найденные решения явно не соответствуют глубинным образам режиссёра и художника.
И вот в зале убирают свет. Мы дружно аплодируем, выдавая серьёзный аванс актёрам и заодно приветствуя сам факт своего присутствия на представлении театра абсурда в центре столицы советской Родины. Да ещё в театре, носящем имя Марии Николаевны Ермоловой.
И вероятно, что, допустив сегодняшнее представление, администрация Ермоловского театра где-то в небесных сферах потревожила прах великой актрисы, явной поборницы психологической школы игры.
Но всё течёт, всё меняется, и мы, сидящие в зале, уже готовы стать в одночасье другими.
Мне казалось (и предположение переходило в уверенность), что всеобщий восторг от предвкушения предстоящего действа настолько сильно распирал грудь каждого зрителя, что всем уже можно бы спокойно разходиться – впечатлений на «душу населения» и так пришлось предостаточно.
Но: ч-ш-ш! Ти-и-ше! Спектакль начинается…
Гаснет свет и на сцене.
Секунд тридцать в полной темноте звучит классическая музыка с вплетёнными в мелодическую канву звуками ветра и лаем собаки, а затем…
К музыке добавляется отборный русский мат…
Матерные слова диковинны для сознания, приготовленного к восприятию бесспорных эстетических манифестов. Поэтому сначала услышанное кажется мне невозможным, чуть ли не слуховой галлюцинацией.
Но по нервным смешкам соседей по партеру понимаю, что слышу брань не я один.
Минут пять всё в той же полной темноте продолжается подробное воспроизведение непечатных названий мужских и женских половых органов, комбинации взаимодействия этих органов, а также их нецелевое использование, связанное с животными, с заурядными предметами быта и почему-то с культовыми персонами «первого эшелона» различных мировых религий.
Самыми приличными можно было назвать слова «мать», «рот»… И отчасти приличным – «жопа». Хотя нет! Последнее тоже имеет более удобоваримый синоним, например «задница» или употребляемый даже при детях – «попа».
Где-то примерно на третьей минуте мозг адаптировался и принялся в срочном порядке искать объяснение этому обвалу ненормативной лексики, но выдать ничего вразумительного не успел, потому что софиты залили сцену ослепительным белым светом и началось собственно само действие.
Нашему немного сбитому с толку вниманию представили историю о том, как претерпевали тяготы жизни два бездомных и обездоленных мужика. Обездоленных настолько, что из одежды у них не осталось совсем ничего. Они были просто голые.
Как и где эти голые мужики проводили свой день, я не знаю и авторы спектакля об этом умалчивали. А вот ночевали они на пустыре в картонных коробках от телевизоров. Это, видимо, должно было обозначать несправедливость сложного буржуазного мира. Одним, дескать, достаются большие телевизоры, а другим – только коробки от них.
Хотя нет, у бездомных мужиков всё-таки имелось некоторое имущество. У одного старая пожелтевшая газета, а у другого пластмассовая роза в бутылке. Что тоже – весьма символично!
Очень долго они – фактурные мужики баскетбольного роста – устраивались на ночлег в своих коробках. Им было совсем непросто уместиться в своих бумажных домиках.
Один, у которого была газета, всё-таки свернулся как удав и впихнул все члены своего тела в коробку, а у другого, у которого стояла роза в бутылке, коробка развалилась, раскрыв бедолагу в его полной наготе всем ветрам и жизненным неурядицам.
Они заговорили между собой на чистом голландском языке, причём тот, у которого коробка расклеилась, о чём-то просил, наверное, мечтал погреться в уцелевшем домике, а второй возражал, видимо, не хотел пускать постороннего в дом, может быть, в глубине души боясь, что тот натопчет на паркете.
А нам, как ни странно, в виде перевода их сдержанной беседы включили по трансляции тот же самый мат, но с более изощрёнными вариациями.
Мозг мой метался в поисках чего-либо поддающегося логике, и я подумал: «Хорошо играть такой спектакль у нас. Русский язык, в смысле мата, предоставляет огромные возможности. А как в других странах, в Японии, например? Там ведь не матерятся. Или у потомков самураев тоже есть какие-то неприличные слова? А в Индии? Интересно, матерятся ли погонщики слонов на своих подопечных? Нет, далеко им до нас, грешных, по части ругательств, а значит, там всё художественное решение спектакля может рухнуть из-за недостатка фактического материала!..»
А спектакль шёл своим чередом. Голодранцы так и не смогли договориться. Обладатель целой коробки для жилья демонстративно развернул свою потасканную газету – это оказался британский «The Times» – и принялся читать. Второй – обладатель сломанной коробки – заплакал от горя, и чтобы слёзы не пропали зря, начал поливать ими свою пластмассовую розу.
Метафоры, таким образом, сыпались на нас как из рога изобилия.
Тот, который остался без коробки, обильно помочился, отвернувшись от зрительного зала, видимо, из этического сострадания. Но струйку, подзвученную шумным водопадным журчанием, мы все наблюдали воочию.
Между тем на пустыре появился третий персонаж – женщина. И тоже со своей коробкой.
Излишне пояснять, что она, как и бродяги мужского пола, была настолько обездоленная, что из одежды у неё имелась всего лишь природная заволошенность головы и нижней части живота. Причём и там, и там – короткий ёжик.
Зато её коробка была побольше, чем у мужиков, скорее всего, в собственность обездоленной женщине досталась упаковка от небольшого холодильника.
Разместившись в своей просторной и, похоже, уютной коробке, она с подозрением и вместе с тем с любопытством курочки, косящейся на роющего землю петушка, поглядывала на своих соседей по пустырю.
И хозяин целой коробки, отвлёкшись от вечернего прочтения газеты, принялся за ней ухаживать, разразившись длинной донжуанской тирадой. Смысл которой, судя по переводу, сводился к нецензурному восхищению всеми без исключения деталями женского полового органа. И делал это бездомный голодранец с осведомлённостью опытного гинеколога.
Тут я случайно, ворочаясь в своём кресле, задел рукой гладенькую Машину коленку, не прикрытую юбкой, и рефлекторно отшатнулся, словно ударенный электрическим током. Спина моя покрылась холодным потом и, скосив на Машу глаза, я со страхом подумал: «А вдруг ей почудилось, что я коснулся её коленки специально?» Нервы что-то шалили…
В принципе, к этому моменту уже можно было сойти с ума от сильнейшего «эстетического» шока. Но зал мужественно терпел, приобщаясь к европейским культурным ценностям, которых мы были так безжалостно лишены, что в конечном счёте делало наше представление об окружающей жизни плоским и однозначным.
Хотя вот зал залом, а я рискнул предположить, что великая Ермолова уже наверняка совершила за время спектакля не менее четырёх поворотов в своём достойном гробу. Прости, Господи, за невольный мой цинизм.
А далее тот дважды бездомный, у которого развалилась коробка, преподнёс женщине, обитательнице крупногабаритной тары от холодильника, всё имеющееся у него добро – свою пластмассовую розу! И растроганная дама пустила его жить в свою коробку, где они тут же счастливо и устроились вместе, перебросившись нежными фразами.
И мы, тихо умилённые происходящим, получили в виде перевода уже ожидаемую нами универсальную подзаборную брань.
Так в нашем присутствии родилась некая любовь на задворках жизни, лишний раз подтверждая тезис о том, что женщина – понятие наднациональное. Кем бы она ни была: голландской госпожой, немецкой фрау, английской леди, итальянской синьорой или русской бабой – она всегда полюбит того мужчину, которого пожалеет.
На этой, можно сказать, оптимистичной ноте и закончился спектакль голландского театра абсурда…
Мы шли с Машей к входу в метро по улице Горького, которой уже недолго оставалось донашивать имя пролетарского писателя, как и многим другим улицам и переулкам Москвы, имеющим названия, неподобающие духу времени. Шли и всё как-то не могли заговорить и обменяться впечатлениями от увиденного и услышанного.
Что-то похожее на смущение застряло в горле, не давая выход словам. И дело не в том, что мы этих бранных выражений раньше не знали. Отчего же – мы с детства росли среди матерков, употребляемых параллельно общепринятому языку, а иногда и вместо общепринятого языка.
И не в том дело, что голых тел мы не видели, – не маленькие уже. Тем более что актёры не столь уж полновесно демонстрировали «сиськи-письки», а даже, наоборот, весьма виртуозно маскировали свои первичные половые признаки. Для чего не только прикрывались руками, подчиняясь сложному пластическому рисунку роли, но и располагались с помощью мизансцен в определённых, «теневых» позициях по отношению к зрителю, заслоняясь друг другом и своими коробками.
Так вот ты какой – абсурд?! Или это надводная часть айсберга?
«Но всё же – вот так, на сцене…» – с некой неловкостью говорил я сам себе, пытаясь избавиться от прилипчивых сомнений.
Абсурд… Абсурд… Абсурд!..
Да что в принципе я знал об этом авангардном течении в современном искусстве, кроме того, что оно «буржуазное»? Что я мог почерпнуть в пересказанных на лекциях по искусствоведению программных работах Кьеркегора или Камю, уже по-своему интерпретированных преподавателем? Нужны были первоисточники – книги, спектакли, фильмы, а добраться до них не представлялось возможным.
И я в информационном голоде своём чувствовал себя подобием собаки Павлова – от слова «абсурд» рефлекторно захлёбываясь слюной.
А вот теперь, наевшись абсурда на «пустой желудок», я никак не мог его переварить.
«Нельзя смешивать жизнь и искусство! – вдруг глубокомысленно произнёс во мне некий «искусствовед». – Жизнь – это жизнь! А искусство – это искусство!»
– А знаешь, – реагируя на ситуацию чуть быстрее, взял во мне верх этот вот невесть откуда взявшийся «искусствовед» и заговорил вслух, не дожидаясь моего согласия. – Ведь это нужно какую степень внутренней свободы иметь, чтобы вот так открыться и не быть осмеянным и освистанным. Нет, нам ещё до них далеко! Мы слишком долго варились в собственном соку, оттого что были отрезаны от развития искусства и самое главное – от осознания внутренней свободы… Нам ещё работать и работать над собой, выдавливая из самих себя рабов по капле…
Я сделал вид, что закашлялся, чтобы не продолжать пламенную речь, в сути которой не был уверен.
– Да ты мысли мои читаешь! – с облегчением выдохнула Маша, постучала меня по спине и взяла под руку, не понимая, что это сейчас не я говорил, а какая-то сущность, уже покинувшая меня, но сболтнувшая слова, за которые теперь мне предстояло отдуваться. – Я вот нисколечко не жалею, что пришла на этот спектакль. Хорошо, что ты меня вытащил!
– Ладно, – ответил я, чувствуя, как в сбитый с толку мозг возвращается ощущение реальности и моя обеспокоенная некоторое время назад совесть постепенно излечивается от вины за случайно задетую Машину коленку, – чего там, обращайся…
И стыд за хватание коленки, что само по себе выглядело на фоне происходящего в «голландском спектакле» более чем двусмысленно, и стыд за невнятный лепет в оправдание абсурда, который я пытался выдать за смущение, покинули область души, тем самым приводя в нормальное состояние раскрасневшиеся было щёки.
Мы спустились в вестибюль станции метро «Проспект Маркса».
А там змееобразный голубой дракон с жёлтыми глазами (дальний родственник дизельного железнодорожного вырожденца, того, что доставил меня на Казанский вокзал) выполз из тьмы, проглотил нас, щёлкнув вертикальными челюстями, и унёс в глубокую нору. На наше счастье нынешним подземным драконам стали не нужны человеческие жертвы – они теперь питаются молниевыми разрядами, спрессованными в киловатты электрической энергии. Благодаря чему по истечении некоторого времени, не причинив нам никакого вреда, дракон передал нас через переход со станции «Чистые пруды» на «Тургеневскую» ещё одному змееобразному собрату. Тот помчался, то и дело ныряя в новые норы, и безболезненно выплюнул меня и Машу из своей утробы. Машу – на станции «Рижская», а меня – на «ВДНХ».
Пока я добирался до гостиницы, впечатления от просмотренного спектакля сформировались во мне в определённое физическое ощущение, что однажды испытал я в детстве.
Когда мне было лет семь-восемь, родители взяли меня в гости к родственникам в деревню, и там в один из вечеров, когда взрослые общались за ломящимся от яств и напитков гостеприимным столом, я, предоставленный сам себе, обследовал двор – от куриных стаек до сеновала. Спрыгивая с крыши, я потерял равновесие и плюхнулся на колени, угодив обеими ладонями в свежую коровью лепёшку…
В гостинице я первым делом отправился в умывальник и, повторяя про себя не известно кому адресованную фразу: «Вот вы утверждаете, что жизнь абсурдна? Полегче надо бы, ребята, полегче… С выводами…», – принялся орудовать куском хозяйственного мыла, взятым из дома для стирки носков и трусов, тщательно отмывая руки.
ЗАТМЕНИЕ № 2 – «КОЛЁСА ДИКТУЮТ ВАГОННЫЕ, ГДЕ СРОЧНО УВИДЕТЬСЯ НАМ…»
СЕНТЯБРЬ, 1989 ГОД
«И всё-таки она вертится!» Две пары разбитых сердец. Чемоданом и астрами пахнет разлука. Ведьма с Васильевского острова. Поезд Львов – Вильнюс. Скорбь еврейского народа. Контрамарка на два лица. Чехов с литовским акцентом. «Поезд наш в Лондон держит путь». Идеология импотента.