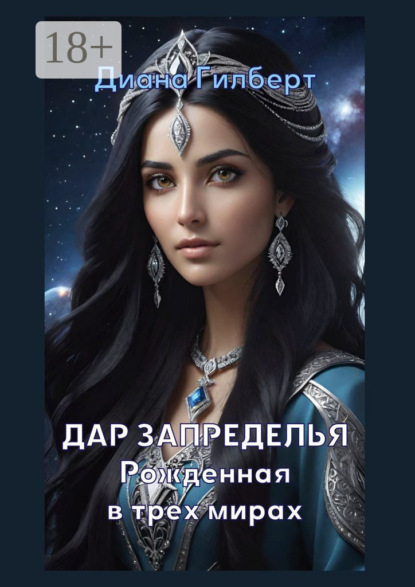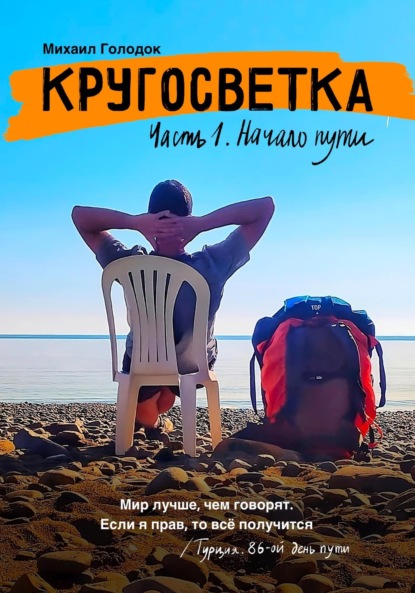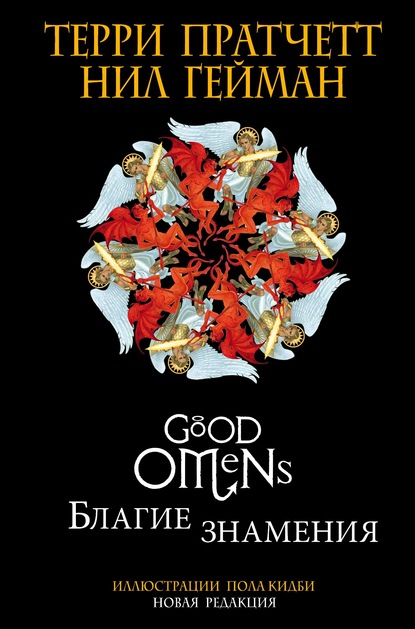Райские сады кинематографа
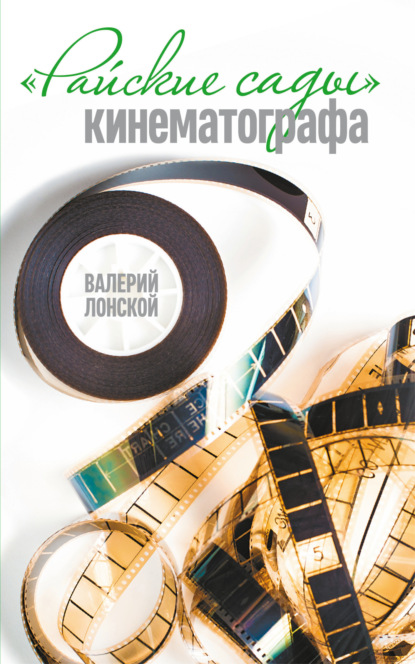
- -
- 100%
- +
Воскрешая в памяти события того давнего времени, связанного со сдачей фильма «Небо со мной», я вспомнил историю, произошедшую с самим Сергеем Федоровичем Бондарчуком. У прославленного мастера в жизни тоже не все было гладко. Случались события весьма драматические. Никогда не забуду, как в 1973 году его прессовало партийное и кинематографическое начальство, настаивая на том, чтобы он взялся за экранизацию книги маршала Советского Союза А. Гречко «Битва за Кавказ». Таково было желание самого Брежнева. Только Бондарчук и никто другой, считал Леонид Ильич, должен снять это бессмертное произведение, одним из героев которого был он сам. Актер Евгений Семенович Матвеев, видевший себя в роли Брежнева, не раз останавливал Бондарчука на студии с вопросом: «Когда же, Сережа, мы начнем фильм о Брежневе? Чего ты тянешь?» И Бондарчуку стоило немалых душевных сил отказаться от этого предложения. Мы, коллеги Бондарчука по работе в Первом объединении, видели, как он ходил в те дни с серым лицом. И все же Сергей Федорович отказался. Ему, правда, припомнили этот отказ. Во время съемок фильма «Они сражались за Родину» министр обороны маршал А. Гречко серьезно ограничил киногруппу в предоставлении ей для съемок батальных сцен необходимых воинских частей. Неоднократно ставило палки в колеса и руководство ГЛАВПУРа (Главного политического управления армии), затягивая решение ряда вопросов.
Но вернемся к фильму «Небо со мной». После всех мучений картину без осложнений приняли в Госкино СССР, дали первую категорию. Она широко демонстрировалась на экранах страны. Имела положительную прессу. Но радости особой мне это не принесло – слишком серьезными были художественные потери, произошедшие на завершающей стадии работы над фильмом.
И тем не менее, даже после относительно удачного завершения работы над фильмом я еще долго оставался в глазах директора «Мосфильма» Н. Сизова человеком с подмоченной репутацией. И нескоро, только через два года, мне удалось получить следующую постановку.
Не буду рассказывать о тех замыслах и проектах, которые я предлагал в течение двух лет у себя в Первом объединении. Некоторые из них находили поддержку. Но в главной редакции студии их отвергали, ссылаясь на разные причины. Думаю, те, кто отвергали, предварительно советовались с Н. Сизовым.
Однажды один из сотрудников главной редакции, кажется, это был В. С. Беляев, относившийся ко мне с симпатией, предложил мне прочесть сценарий «Приезжая» драматурга Артура Макарова, с которым редакция заключила договор. Сценарий этот получил первую премию на Всесоюзном конкурсе сценариев под девизом «Наш современник – строитель коммунизма», что служило гарантией, что он (сценарий) будет в обязательном порядке принят комитетским и студийным начальством к кинопроизводству. Следует отметить, что никакого отношения к «строительству коммунизма» сценарий А. Макарова не имел. Он рассказывал историю молодой учительницы, приехавшей на работу в деревню. Предлагая прочесть сценарий А. Макарова, В. Беляев предупредил меня, что сценарием заинтересовались три режиссера, и если я проявлю к нему интерес, мне предстоит конкурентная борьба.
Я прочел сценарий. Он подкупил меня свежестью, знанием деревенской жизни, колоритной речью героев, которые говорили не газетным языком, а так, как говорят люди в жизни. Впоследствии я узнал, что Макаров имел дом в деревне и подолгу жил там, испытывая все радости и трудности деревенского быта. Отсюда такое хорошее знание деревенской жизни, нашедшее отражение в сценарии.
Я решил побороться за этот сценарий. Позвонил А. Макарову, и мы встретились на студии.
Я увидел человека среднего роста, стриженного наголо, с глубоко посаженными глазами, с небольшими усиками, весьма похожего на уголовника. На первый взгляд ничего общего с привычным обликом сценариста, которых немало ходило по коридорам «Мосфильма». Загорелый, внешне похожий на охотника, легионера, мужика, с которым лучше не встречаться в темное время суток в глухих переулках, Артур Сергеевич Макаров оказался человеком незаурядным, умным, эрудированным, способным на серьезные поступки, которые отличают настоящих мужчин. О нем и его жизни можно написать целую книгу! Но в тот день, когда мы встретились впервые, я ничего еще о нем не знал и с подозрением поглядывал на него.
Я долго рассказывал Макарову, что меня привлекло в сценарии «Приезжая» и как бы я хотел его снять. Макаров внимательно слушал меня с хитрым прищуром, выкуривая одну сигарету за другой, изредка задавая короткие вопросы. Когда я завершил свою речь, мы некоторое время сидели молча. Потом Макаров, поглядывая на меня с тем же прищуром, сказал, что у него есть одно условие. «Какое?» – спросил я, напрягшись, не зная, что он может потребовать. «Сценарий написан для актрисы Жанны Прохоренко, и она должна сниматься в главной роли», – твердо заявил Макаров.
Жанна Прохоренко была широко известной актрисой, любимой зрителями, и трудно было возражать против ее кандидатуры. Но она, если говорить применительно к героине сценария, была несколько старше ее. О чем я и сказал Макарову. Но, подумав, согласился принять данное условие. И ни разу в дальнейшем не пожалел о том, что пошел на это. Жанна оказалась чудесным человеком, профессионалом высокой пробы, никогда не капризничала, доверяла мне как режиссеру, хотя и не всегда была согласна с моими решениями, и работать с нею было в радость. Но все это было потом.
Завершая наш тогдашний разговор, Макаров просил дать ему неделю сроку, прежде чем он даст ответ.
Через неделю он позвонил и, к моей радости, сообщил, что из претендентов на его сценарий выбрал меня. Не знаю, что повлияло на такое решение Макарова, ведь конкурировали со мной весьма достойные режиссеры, а двое из них были известными мастерами, сделавшими по несколько фильмов. Так или иначе, но судьба соединила нас. Мы на долгие годы стали добрыми приятелями, и я часто вспоминаю покойного ныне Артура, оставившего в моей душе неизгладимый след. Это был настоящий мужчина, смелый, решительный, мог с кулаками постоять за честь женщины и за всякое доброе дело. Он никого не боялся. И трагически погиб в 1995 году от руки негодяя-преступника, вонзившего ему, привязанному веревкой к стулу, нож в сердце. Представляю, как он презрительно смотрел убийцам в лицо, не страшась их и не страшась смерти.
Помимо множества сценариев, по которым были сняты фильмы, Макаров оставил после себя несколько талантливых книг деревенской прозы, которые, надеюсь, обретут свое достойное место в нашей литературе.
В общем, ровно через два года после завершения фильма «Небо со мной» я приступил к работе над новым фильмом «Приезжая». Но в отличие от предыдущей работы теперь у меня был хороший сценарий и талантливая актриса на роль героини.
Творческую группу составили новые люди. Те, с кем я работал на прошлой картине, давно уже трудились на других фильмах. Оператором-постановщиком по моей просьбе был назначен Владимир Папян, с которым мы в одно время учились во ВГИКе. После окончания института он работал вторым у замечательного оператора Маргариты Пилихиной. Художником-постановщиком стал Петр Киселев, рекомендованный мне Борисом Немечеком.
Директором фильма был назначен Сергей Вульман. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить его в качестве директора на нашу картину, ставшую его первой самостоятельной работой на «Мосфильме». Я дошел даже до директора студии Сизова. К счастью, Сизов, вопреки мнению других студийных начальников, поддержал кандидатуру Вульмана. Сергей стал впоследствии хорошим организатором производства и способствовал созданию целого ряда ярких кинопроизведений, чему я очень рад.
Актерский ансамбль подбирали под Жанну Прохоренко. Долго не могли найти главного героя. На роль Федора мне виделся исполнитель типа Василия Шукшина. Но, увы, Шукшина уже не было в живых, а те, что приходили с похожей фактурой, явно были жидковаты и не имели такого личностного начала, какое было у покойного Шукшина.
Как-то наш второй режиссер Валерия Ивановна Рублева (мать актрисы Елены Сафоновой) предложила мне попробовать на роль Федора малоизвестного в то время артиста из Саратова Александра Михайлова. При первой нашей встрече он не произвел на меня должного впечатления. Показался слишком миловидным. Провинциальным. И я продолжил поиск. Надо отдать должное Рублевой – она продолжала настаивать на кандидатуре А. Михайлова, и я дал согласие вызвать его на кинопробу. Когда мы сделали кинопробу, я понял, что перед нами тот артист, который нам нужен. Он и стал сниматься в картине. Забегая вперед, скажу: мне нравится работа А. Михайлова в фильме «Приезжая». Они с Жанной Прохоренко составили хороший дуэт. С этой картины практически началась популярность Александра как актера.
Та же Валерия Ивановна Рублева настояла, чтобы я попробовал на роль отца героя артиста из Ленинграда Сергея Игнатьевича Поначевного. Его проба была так же убедительна, как и кинопроба Михайлова. Впоследствии я слышал от Артура Макарова немало хороших слов относительно актерских работ Михайлова и Поначевного. (До сих пор, когда картина идет по телевидению, а показывают ее довольно часто по разным каналам, зрители восторгаются работой Сергея Игнатьевича Поначевного, сыгравшего свою роль очень выразительно и точно.)
На роль матери мы пригласили Марию Савельевну Скворцову, сыгравшую двумя годами ранее мать в фильме В. Шукшина «Калина красная». Ее появление в нашем фильме считают еще одной удачей.
Младшую сестру Федора сыграла талантливая Елена Кузьмина. Жаль, что ее актерская карьера в дальнейшем как-то не заладилась.
Кроме вышеназванных исполнителей в фильме снимался целый ряд талантливых актеров и актрис. Это и Владимир Земляникин, и Лев Борисов (это была моя первая встреча с этим замечательным мастером, впоследствии он снялся у меня еще в четырех фильмах), и Мария Виноградова, и Раиса Рязанова, и Таисия Литвиненко, и яркий Сергей Торкачевский, артист театра «Современник», ушедший впоследствии из актерской профессии в священники.
Натура была выбрана в окрестностях города Осташкова в Тверской области. Кинематографическая деревня в фильме сложилась из трех деревень, расположенных в нескольких километрах от этого старинного русского города.
Работа над фильмом принесла мне настоящую радость. Вся группа трудилась дружно и весело. С легким сердцем мы одолели все возникшие по ходу съемок трудности. Не помешала нам и пришедшая до срока зима – первый снег в том (1976) году выпал в начале октября, что серьезно осложнило наши съемочные планы..
На этот раз директор студии Н. Сизов, принимая картину, был очень доволен. Хороший фильм о русских людях, пронизанный светлыми кадрами родной природы, актеры с хорошими славянскими лицами без каких-либо нерусских примесей – таков был подтекст его благостного настроения.
«Приезжая» – одна из немногих моих картин, сдавая которую в Госкино СССР (а принимал ее заместитель Председателя комитета Б. В. Павленок), я отделался малой кровью. Павленок потребовал удалить часть одного эпизода и переозвучить несколько реплик в другом. К счастью, он не потребовал убрать из фильма песню В. Высоцкого «Кони», которую слушает со своей подругой деревенский сердцеед Кочеток (С. Торкачевский), что было для меня удивительно. В те времена песни Высоцкого обычно изымались из фильмов как нечто крамольное. Начальство постоянно требовало заменить их на песни других авторов.
И прокатная судьба у фильма «Приезжая» сложилась удачно. Картину широко показывали в разных регионах страны, и она собрала свыше двадцати семи миллионов зрителей.
После этого фильма отношение ко мне студийного начальства изменилось в лучшую сторону.
Глава вторая
Итак, завершилась работа над фильмом «Приезжая». Пора было думать, что делать дальше. Начались поиски нового сценария. Найти на студии хороший и невостребованный сценарий равносильно обнаружению клада из золотых монет в своем огороде. В редакторском портфеле Первого объединения, в штате которого я числился, ничего подходящего не было. Имелась там пара безликих сценариев, за которые никто не брался, и несколько заявок из разряда «на злобу дня», тоже малоинтересные. В главной редакции «Мосфильма» ситуация была не намного лучше. Повторения истории со сценарием «Приезжая» быть не могло. Тогда мне просто повезло. У Артура Макарова, с которым я подружился, был готов новый сценарий, но на этот раз это был детектив, а я в тот период не испытывал тяги к этому жанру.
Остро встал вопрос: что же делать? И я пришел к мысли, что, видимо, должен написать себе сценарий сам. У меня был уже некоторый опыт в этом деле: сценарий по рассказу М. Горького «Старуха Изергиль», написанный вместе с В. Шамшуриным и отвергнутый Герасимовым; сценарий фильма «Коловерть», над которым шла работа в соавторстве с Ю. Лукиным и тем же В. Шамшуриным; сценарий «Быть!» (по повести «Мы убегали на фронт»), написанный в соавторстве с В. Муратовым, от которого впоследствии мне пришлось отказаться; а также «кройка и шитье» разных вариантов сценария «Небо со мной». Я посчитал это достаточным основанием, чтобы самому взяться за написание сценария.
Довольно быстро придумался сюжет (это была история незамужней женщины, решившей родить ребенка без мужа), и я приступил к работе. К весне 1978 года я представил в объединение готовый сценарий, называвшийся «Музыка для двоих». Пусть читателя не смущает перекличка названия с рязановским «Вокзалом для двоих». Тогда никакого рязановского фильма и в помине не было.
Сценарий в объединении был встречен благожелательно, мне дали небольшие поправки. В главной редакции студии к сценарию отнеслись не столь радостно, но все же поддержали его, дав ряд замечаний – более существенных.
После того как я внес поправки, главная редакция приняла сценарий, и он был отправлен с положительным заключением, как и полагалось в то время, в Малый Гнездниковский переулок – в Госкино СССР.
В Госкино имелась своя редактура, более свирепая, чем на киностудиях. Редакторы, сидевшие в тамошних кабинетах, больше думали о том, как удержаться в своих креслах, а не о правдивости и талантливости будущих кинопроизведений. Лишь только в руки к чиновникам, работавшим там, попадал яркий незаурядный сценарий, в них просыпался удвоенный, а порою утроенный цензорский зуд, и они изгалялись как могли, прессуя то или иное авторское сочинение, вымарывая оттуда все живое и талантливое. Там были подлинные мастера этого пыточного дела: Б. Павленок, Д. Орлов, Э. Раздорский, Е. Котов, В. Щербина, И. Садчиков и др. Немалый вред нанесли они отечественному киноискусству, уродуя произведения М. Хуциева, В. Шукшина, А. Тарковского, Э. Климова, М. Калика, М. Богина, А. Германа, Л. Шепитько, И. Авербаха, Г. Панфилова и многих других режиссеров и сценаристов. Хочу, чтобы читатели знали их имена, возможно, тогда в будущем другим неповадно будет служить в опричнине.
Итак, сценарий «Музыка для двоих» лег на стол к чиновным людоедам. На обсуждении, куда меня пригласили, его «отутюжили» по полной программе. И сегодня, много лет спустя, не могу без омерзения читать тогдашнее заключение на сценарий. Чего мне только не ставили в вину! Советская женщина не должна заводить ребенка без мужа, а тем более решать с подругой, кто лучше подойдет на роль отца; она (советская женщина) не должна неизвестно с кем ложиться в постель; нельзя, чтобы соискатели на роль отца будущего ребенка были столь непривлекательны и корыстны; нельзя проповедовать буржуазные моральные ценности (а как вам наше сегодняшнее время? где вы, господа цензоры, ау?!); кроме того, по мнению комитетских «судей», положительный герой, которого полюбила героиня, был недостаточно положительным и, самое ужасное, погибал в финале, пытаясь спасти ребенка! (С воплями по поводу смерти положительного героя, который не должен погибать, мне еще не раз придется столкнуться во время сдачи в Госкино СССР фильма «Летаргия».)
В завершение обсуждения последовало еще одно замечание: зачем я, режиссер, берусь за написание сценария? Смысл его был таков: занимайтесь-ка своим делом, дорогой товарищ! «Не от хорошей жизни берусь! От отсутствия интересных сценариев! – хотелось крикнуть мне. – Потому что такие, как вы, вытаптывают всякую свежую мысль!» Но, признаюсь, я промолчал. Сидел, прикусив язык, сдерживая себя, чтобы не наговорить грубостей в лицо этой публике. А следовало бы!
Одним словом, сценарий «Музыка для двоих» завернули окончательно и бесповоротно. Потратив на работу над ним около года, я вновь оказался на нуле. В объединении мне могли только посочувствовать.
На дворе уже стояло лето 1978 года. Оправившись от удара, я начал обдумывать тему и сюжет для нового сценария. Несколько недель мучительных поисков, затем месяцы работы за пишущей машинкой, и весной 1979 года я представил в объединение новый сценарий под названием «Тополиный пух». Впоследствии он стал называться «Белый ворон». В целом сценарий был принят редколлегией объединения доброжелательно. Редактор Ольга Козлова, с которой мы продолжали сотрудничать с фильма «Приезжая», сказала о нем и его герое немало хороших слов. Пожалуй, только главный редактор В. Карен отнесся к сценарию прохладно, уж больно не по душе ему пришелся герой сценария, Егор Иконников, который, в силу душевной простоты и наивности, нередко вел себя вызывающе и бесцеремонно, желая тем самым оберечь свое человеческое достоинство. Но В. Карен не стал препятствовать утверждению сценария. Возможно, он надеялся, что сценарий завернут где-либо в инстанциях свыше.
Когда главный редактор студии Л. Нехорошев ознакомился со сценарием, я имел с ним обстоятельный разговор. Нехорошев отнесся к сценарию сочувственно. Но не более того. Что-то похвалил, что-то поругал. И в итоге заявил, что мне нужен соавтор, профессиональный драматург. В кинокомитете, напомнил он, не любят, когда режиссеры сами пишут для себя сценарии, особенно молодые. И чтобы не осложнять себе жизнь, рекомендовал взять соавтора. «В конце концов, – сказал он, – это будет только на пользу сценарию. Человек посмотрит свежим взглядом на твою историю, что-то добавит, улучшит». – «А как же Панфилов? Губенко? Жалакявичюс? – возбудился я, вспомнив режиссеров нашего объединения. – Они же снимают по собственным сценариям. Да и других немало!..» – «На них работает их авторитет… К тому же у них есть покровители», – заявил Нехорошев.
Ушел я от Нехорошева в угнетенном состоянии. Получался замкнутый круг. Предложить мне полноценный профессиональный сценарий ни объединение, ни главная редакция не могут, но и самому мне, получается, писать не следует. Хотя литературное качество моего сценария у членов редколлегии объединения не вызвало нареканий. Опять же, где найти толкового драматурга, который захочет подключиться к чужой работе? Хорошие драматурги на дороге не валяются.
И тут произошло следующее. Редактор нашего объединения И. А. Сергиевская, узнав о моем разговоре с Нехорошевым, предложила познакомить меня с драматургом и писателем Владимиром Карповичем Железниковым, автором нескольких книг для детей, и в частности знаменитой впоследствии повести «Чучело». Железников был еще и успешным сценаристом, писавшим для детского кино. Я согласился с ним встретиться. И вскоре знакомство состоялось. Встреча произошла в кабинете у той же Сергиевской.
Железников произвел на меня хорошее впечатление. Это оказался человек средних лет, интеллигентный, дружелюбный, простой в обращении и, самое главное, трезво оценивающий себя и свое творчество.
Признаюсь, это был один из удачных дней в моей жизни. Мы быстро нашли общий язык, подружились. (Забегая вперед, скажу, что в дальнейшем мы с Железниковым написали в соавторстве четыре сценария.)
Прочитав мой сценарий, Железников согласился помочь мне. Деликатно, сохраняя авторскую манеру, он прописал некоторые детали, уточнил характеры, отчего, следует признать, сценарий прибавил в выразительности.
После проделанной работы сценарий «Белый ворон», теперь уже за двумя фамилиями, был отправлен в Госкино СССР – на пиршественный стол к местным чиновникам.
На удивление, серьезной экзекуции на этот раз не последовало. Сценарий утвердили. Видимо, радетелей за моральный облик советского человека привлек образ главного героя – молодого парня из шахтерской среды, полюбившего замужнюю женщину, который по простоте душевной резал в глаза окружающим правду-матку, презирал стяжателей и всякого рода приспособленцев. По сценарию сделали ряд небольших замечаний и посоветовали более определенно проявить в начале фильма шахтерскую принадлежность героя. Так появился пролог, где мы видим героя у себя на шахте. Первоначально сценарий начинался со сцены в южном курортном городе, куда герой, Егор Иконников, приехал на отдых по профсоюзной путевке.
И вот в начале 1980 года, после двухлетних мытарств, я запустился в кинопроизводство со сценарием «Белый ворон».
Творческая группа осталась прежней. Оператор – Владимир Папян, художник – Петр Киселев (оба неплохо себя проявили во время работы над фильмом «Приезжая»). Редактором вновь была Ольга Козлова, помогавшая мне – и морально, и творчески – на всех этапах прохождения сценария по инстанциям.
Директором картины руководство объединения назначило Леонида Коновалова, весьма специфического господина, обладателя респектабельной внешности, благородной седой шевелюры, эпикурейца и охотника доносить начальству в подробностях о том, что происходит на съемочной площадке и за ее пределами, деятельность которого принесла мне во время съемок фильма немало проблем. (Десять лет спустя Коновалов под именем Леонарда Карнавалова появится на страницах моего романа «Большое кино», и желающих узнать отдельные подробности нашего кинематографического бытия в период съемок и роль Коновалова в тех событиях я отправляю к этой книге. Только читателю следует помнить, что перед ним художественное сочинение, полное вымысла, а не документальная проза.)
На должность второго режиссера была назначена Зоя Ильинична Рогозовская, в прошлом актриса Московского театра оперетты, прошедшая на «Мосфильме» путь от помрежа до второго режиссера. Как показало время, это был удачный выбор. С Зоей Ильиничной мы продолжили наше сотрудничество и на следующем фильме – «Летаргия». Конечно, Рогозовская не была фигурой столь масштабной, как вторые режиссеры типа И. Петрова, работавшего на «Андрее Рублеве», или В. Досталя (постоянно сотрудничавшего с С. Бондарчуком), но она неплохо знала производство, умело планировала работу съемочной группы и со знанием дела подбирала актерский состав. Это З. Рогозовская предложила взять на главную роль в фильме актера Владимира Гостюхина, разглядев в нем и темперамент, и обаяние, запрятанное под его пролетарской, несколько отрицательной внешностью.
На роль Сони, героини, З. Рогозовская настойчиво предлагала взять актрису Ирину Алферову. Я сделал кинопробу с Алферовой. И не рискнул утвердить ее, побоявшись, что в силу своего сдержанного темперамента Ира не сможет сыграть «на разрыв» финальную сцену фильма. Возможно, я ошибался.
Сделали мы кинопробу и с Ольгой Остроумовой, которая вполне могла бы стать нашей героиней, но Ольга была уже известной актрисой, за ней тянулся шлейф ее ролей, и меня это смущало.
Хотелось найти малоизвестную актрису, но способную сыграть трудную эмоциональную сцену в финале. Одержимый этой идеей, я поддался на уговоры нашего помрежа С. Богуславской, которая настоятельно советовала взять на роль Сони молодую актрису Театра имени Е. Вахтангова, вчерашнюю выпускницу Щукинского училища Ирину Дымченко, миловидную, способную, никому доселе неизвестную. И я, пойдя на поводу, утвердил Дымченко на роль Сони. И потом неоднократно жалел об этом. От меня скрыли, что Дымченко моложе нашей героини лет на пять-семь. А это было важное обстоятельство. В силу отсутствия необходимого жизненного опыта Дымченко, вчерашняя студентка, не смогла в должной мере сыграть тонкости поведения замужней женщины, прожившей в браке несколько лет, что предлагал сценарий. Кроме того, Дымченко не очень горела этой ролью. В силу этого в сценах с ее участием мне нередко приходилось смещать акценты в сторону других исполнителей – Владимира Гостюхина или Александра Михайлова (игравшего мужа Сони Аркадия). Завершая разговор о Дымченко, скажу еще об одном печальном обстоятельстве, связанном с нею. Наши натурные съемки проходили в начале лета в городе Геленджике и его окрестностях. Это была пора цветения многочисленных растений. А у Дымченко, как выяснилось, в период цветения случаются сильные приступы аллергии. У нее слезились глаза, текло из носа, и снимать ее в таком состоянии было крайне сложно. Когда же она принимала лекарство от аллергии, то утрачивала способность активно действовать в кадре, ее тянуло в сон… Но, как известно с незапамятных времен, во всем всегда виноват режиссер! Я утвердил актрису Дымченко, и я несу в полной мере ответственность за ее работу. Все же несколько слов в защиту актрисы следует сказать. Финальную сцену, снимавшуюся поздней осенью на стройке в Кузьминках, актриса провела очень и очень неплохо. И благодаря этому финал фильма прозвучал эмоционально убедительно.