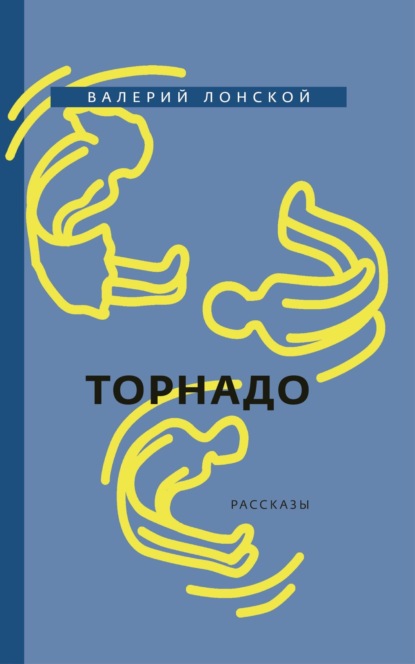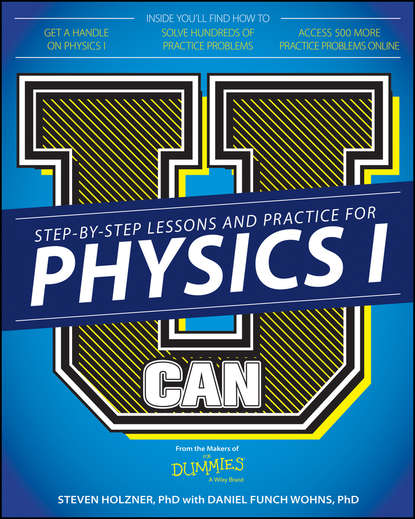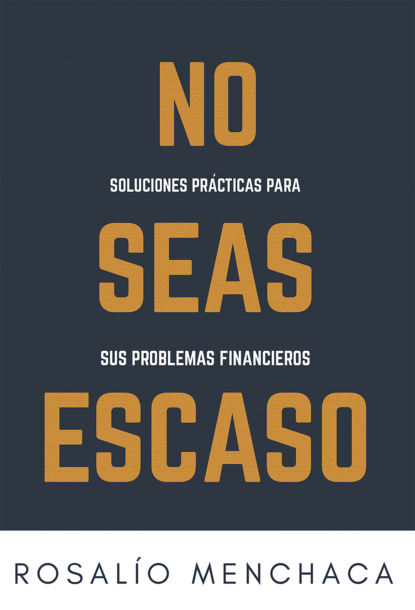- -
- 100%
- +
Дело происходило в субботу, и Тамара была дома. Когда она открыла дверь и увидела за нею скопление людей, то сперва подумала, что у нее, под ванной, вероятно, прорвало трубу и заливает соседей снизу, и те явились к ней выразить свое возмущение. Потом сообразила, что дело не в трубе и люди явились по другой причине. Только после сбивчивых объяснений собравшихся она, наконец, поняла, что эти женщины и мужчины явились к ее мужу лечиться и желают подержаться за рукоятку ножа, о чем уже были наслышаны. Тамара стала убеждать пришедших, что это – полная глупость и муж ее никакой не целитель. Но народ ей не поверил. Женщина лет сорока пяти, с бледным бескровным лицом, стоявшая первой, со слезами на глазах умоляла принять ее. Слезы подействовали на Тамару. И она, попросив подождать, ушла в квартиру с намерением обустроить место для приема. Раз люди желают обманываться, подумала она, пусть обманываются.
Никодимов, когда Тамара сказала ему, чего хотят люди, собравшиеся за дверью, замахал руками и отказался участвовать в этой сомнительной затее. Брось! – сказала Тамара. Если люди верят, не надо им препятствовать! Не ты же зазвал их к себе, обманув предварительно с помощью рекламы в Интернете или по радио. А вдруг и вправду это им поможет, как помогло внуку соседки! Тамара умела убеждать, имела серьезное влияние на мужа, и Никодимову пришлось согласиться.
– И что я должен делать? – спросил он обреченно.
– Сядешь в гостиной у стола, и когда войдет тот, кого я впущу, дашь ему потрогать рукоятку ножа и скажешь несколько утешительных слов, – объяснила Тамара.
– Я механик, а не проповедник, и не умею говорить утешительные речи! – заявил Никодимов.
– Не прибедняйся! Язык у тебя подвешен, особенно когда выпьешь! – парировала Тамара.
– Ты же сама говоришь, что мне нельзя пить, – сказал Никодимов. И спросил в свою очередь: – А ты не боишься, что нас… того… могут привлечь за такое врачевание?
– Брось! – заявила Тамара. – Люди сами рвутся к тебе, их на веревке никто не тянет… Видел бы ты их глаза! Одна женщина просто обливалась слезами.
Одним словом, Никодимов начал принимать хворых. Для порядка спрашивал посетителя, чем тот болен. Выслушав, говорил, что надо надеяться на лучшее. Вот он, к примеру, Никодимов, получил нож в живот, и не умер, а продолжает жить. Значит, надо верить, что избавление от недуга возможно и исцеление придет. Молодец, кивала мужу Тамара, находившаяся тут же в комнате и следившая за происходящим. После этого Никодимов просил посетителя подойди поближе, распахивал халат, в котором принимал хворую публику, и, указывая на рукоятку ножа, говорил: коснись, брат мой (или сестра моя), рукой! Шокированный увиденным (одно дело, когда об этом говорят знакомые, другое – когда сам видишь нож, торчащий из живота), посетитель осторожно прикасался к рукоятке и стоял так несколько мгновений, точно вкопанный. Потом считал своим долгом положить в картонную коробку, стоявшую на столе, некоторую денежную сумму по собственному усмотрению (эта сумма супругами Никодимовыми не оговаривалась), и уходил, умиротворенный, в полной уверенности, что чувствует себя гораздо лучше, нежели до прихода сюда.
Жильцы дома, побывавшие на сеансе излечения у Никодимова, стали обмениваться друг с другом впечатлениями относительно своего самочувствия. Женщина, с бескровным прежде лицом, умолявшая Тамару со слезами на глазах допустить ее на прием к мужу, первая сообщила, что благодаря Никодимову избавилась от болезни легких, от которой страдала долгое время. Она как-то посвежела, приосанилась, в глазах появился огонек. Следом за нею поведала соседям о своем исцелении Ариадна Львовна, педагог музыкального училища, страдавшая два последних года от сильных мигреней, от которых не помогали ни заграничные таблетки, ни народные средства в виде отваров из трав. «Представляете, – говорила она возбужденно слушавшим ее исповедь женщинам, – мне захотелось смотреть на мужчин! Ни много ни мало! И это в моем возрасте!» И она как-то игриво хихикнула, словно какой-то проказник мужского пола ущипнул ее за ягодицу.
Сантехник Улыбин, страдающий запоями, которого жена насильно привела к Никодимову, перестал пить и уже четвертые сутки не думал о водке, и все свободное от починки унитазов и кранов время хватался за книгу, и не ложился спать до двух ночи, не в силах отложить в сторону свое чтение. Когда же его жена Даша увидела, что он дочитывает третий том «Исповеди» Руссо, она чуть не лишилась чувств. Слава Богу, рядом оказалась ее мать, заехавшая в гости, она и откачала дочь с помощью нашатыря и еще каких-то капель. А Даша на другой день помчалась в ближайший храм и поставила там свечку – во здравие Никодимова. Когда же через неделю Улыбин заявил жене, что собирается поступать в университет на филологический факультет, тут Даша потеряла сознание; не помогли материнские капли, потребовалась «скорая помощь», которая увезла несчастную женщину в институт Склифосовского, где ее три дня выводили из комы.
Профессор Чибриков, признанный авторитет в биологии, знающий такое, что не снилось американским научным светилам, стоящий на пороге открытия мирового значения, так вот, этот самый Чибриков, треть жизни мучившийся, стыдно сказать, запорами, этот уважаемый человек, побывав на приеме у Никодимова, уже на вторые сутки стал регулярно посещать туалет, не испытывая никаких проблем, словно перед посещением данного места выпивал целую бутылку касторки. «Варвара Семеновна! Милочка! – кричал он жене. – Началась другая жизнь!» Слава Богу! – крестилась Варвара Семеновна и в подробностях рассказывала друзьям и подругам о чудесном излечении своего супруга.
А дальше молва довершила свое дело. О Никодимове заговорили повсюду как об уникальном целителе, который излечивает своей энергией, передающейся больному через рукоятку ножа. От посетителей не было отбоя. Люди записывались за месяц вперед. Правда, как повелось в нашем отечестве (что уж тут поделаешь!), для vip-персон делалось исключение – рядовой гражданин может подождать, а вот тот, кто обременен государственными заботами, ждать не может. В общем, важных людей пропускали без очереди. Этим занималась Тамара, заметно повеселевшая в последнее время. Сам Никодимов ничего об этом не знал.
Как-то приехал министр с целой свитой сопровождающих, которая с трудом разместилась в коридоре небольшой никодимовской квартиры. Охрана стояла на лестнице и внизу у лифта, затрудняя жильцам передвижение к своим квартирам. Какая хворь мучила министра, осталось тайной, о неразглашении которой с целителя и его жены взяли подписку. Острословы поговаривали, что министр хотел излечиться от застарелой гонореи. А там пойди проверь, так ли это?
Однажды появился известный олигарх, владелец нефтяной компании и крупной недвижимости в разных уголках Европы. Он желал избавиться от язвы. Заграничные врачи, у которых он лечился до этого, не помогли. Тогда олигарх решил обратиться за помощью к Никодимову: а вдруг поможет! С видом паломника, касающегося христианских святынь, коснулся он рукоятки ножа и смиренно вдохнул. Уходя, бросил в коробку на столе пачку пятитысячных купюр. Тамара, убирая после деньги в потайное место, даже запела от возбуждения, чего давно уже не делала. Еще бы ей не петь – жизнь наладилась! И при желании можно было и без Книги рекордов Гиннесса купить теперь домик в Крыму, чего так желал Пришельцев.
К концу каждого рабочего дня, а прием больных длился по нескольку часов, Никодимов валился от усталости. Но испытывал чувство удовлетворения: он делал полезное людям.
И все же Никодимов начал тяготиться своим нынешним занятием. Он устал от людей, весь день занимавших его внимание, устал распахивать халат и демонстрировать им свой живот с торчащим из него ножом, коснуться которого желали посетители. По ночам ему снился бесконечный поток лиц, мужских и женских, сменявших друг друга как на киноэкране, и все они ему многословно рассказывали о своих болезнях, отчего он, одуревший, – там же, во сне – украдкой от Тамары извлекал из-под дивана спрятанную там бутылку водки и залпом выпивал ее, закрывшись в туалете.
Но тут возникло обстоятельство, смягчившее некоторым образом состояние усталости, в котором находился Никодимов.
Его наградили медалью ордена «За заслуги перед отечеством». Инициатором и проводником этого явился министр, побывавший у Никодимова на приеме и, к счастью, излечившийся от той болезни, о которой целителю и его жене было велено молчать. Посодействовал награждению и знакомый олигарх, имевший немалые связи в аппарате президента.
Известие о награде вселило в Никодимова новые силы. Тамара же по этому поводу заказала отдельный зал в ресторане «Соловей», расположенном по соседству, и пригласила туда всех близких отпраздновать это событие. Стол ломился от обилия закусок и напитков. Прищельцев в качестве тамады вел застолье. И всякий раз, прежде чем дать слово новому оратору, восклицал, любуясь умиротворенной физиономией Никодимова: нет худа без добра, и – добра без худа! И восхвалял судьбу, пославшую его другу дар целителя. К слову сказать, сам он предпочитал лечиться у нормальных врачей, и как-то заметил, обращаясь к жене: мы с Ванькой столько испытали, столько водки выпили, знаю его как облупленного, поэтому не могу представить, что, взявшись за рукоятку ножа, торчащую у него из живота, исцелюсь от своего геморроя!..
Но хорошее не может длиться вечно. Всему когда-то приходит конец.
Однажды на приеме в квартире Никодимовых появился странного вида посетитель. Это был сухощавый мужик, весьма подозрительного вида, коротко стриженный, с наколкой в виде женского профиля, видневшейся в разрезе рубашки, с блеклыми глазами, в которых полыхал нездоровый огонь. Было во всем его облике что-то неприятное, и даже мерзкое. Тамаре он сразу не понравился – но за дверь не выставишь, если человек лечиться пришел. Тут Тамару позвала дочь, и она на некоторое время вышла из гостиной, о чем впоследствии не раз жалела.
– А ты с чем пришел, брат мой? – обратился к мужику Никодимов. – Рассказывай…
Тот, хмурясь, стал что-то косноязычно хриплым прокуренным голосом рассказывать про боли в животе, которые его достали и от которых теперь даже водка не помогает.
После того, как Никодимов сказал несколько утешительных слов, которые говорил обычно, желая воодушевить больного, он встал, распахнул халат и предложил посетителю дотронуться до рукоятки ножа. Мужик хмыкнул.
– А нож-то мой, – заявил он с недобрым прищуром. – Мой!
И, воспользовавшись растерянностью Никодимова, вцепился в рукоятку, резко потянул нож вниз и разрезал Никодимову живот. Кровь хлынула наружу. Никодимов коротко охнул и упал замертво.
Есть в нашем мире подлые натуры, которым не по себе, когда другим хорошо. Не могут они спать спокойно, пока не порушат счастливый ход вещей. К этой породе относился и хозяин ножа, как-то увидевший в газете портрет Никодимова и узнавший в нем человека, которого он пырнул ножом в ресторанной драке. И что самое неприятное: пострадавший (Никодимов) после ножевого удара не отдал Богу душу, а жил, процветал, был знаменит, и нож – тот самый – способствовал его процветанию. И завистник отправился на прием, желая выяснить, так ли это, и по возможности забрать принадлежащий ему нож. Дальнейшее известно. Теперь ничего этого у Никодимова не будет – ни славы, ни процветания – с удовлетворением подумал убийца.
Он вынул нож из раны, отер его лезвие о край халата убитого и быстро покинул квартиру. И исчез навсегда. Полиции не удалось напасть на его след. А может, те, кто занимались поиском, плохо искали, или не искали вовсе, и без этого у полиции – дел выше козырька!
Похоронили Никодимова с воинскими почестями. Играл военный оркестр, солдаты из почетного караула три раза стреляли в воздух. Об этом позаботился генерал, излечившийся с помощью покойного от простатита. Собравшиеся на кладбище говорили проникновенные речи о том, какой выдающийся человек был покойный, как много он сделал для людей.
Тамара, вдова, была безутешна. Дала себе слово найти убийцу, лицо которого хорошо запомнила. Но пройдет время, и она забудет о своем обещании. Через год она повторно выйдет замуж и будет вполне счастлива с новым мужем. О Никодимове вспоминать она будет редко, и то, когда случайно будет натыкаться среди безделушек в ящике комода на его медаль.
Вот и всё. Читатель вправе задать вопрос: в чем мораль этой истории? Чего хотел автор, рассказывая ее нам? Отправим любителей поучений искать их в другом месте. Морали здесь нет. Есть жизнь, непредсказуемая жизнь. И в этой жизни – мы с вами, не знающие, что нас ожидает.
Сны про чужую жизнь
Электрику Чемоданову вдруг начали сниться сны про чужую жизнь. Как это – про чужую жизнь? – спросите вы. А вот так.
С некоторого времени Чемоданов, засыпая, видел себя в облике поэта Пушкина. И не просто видел, а вел его образ жизни: писал стихи, волочился за женщинами; разговаривал с Бенкендорфом; был на аудиенции у царя Николая; дружил с декабристами. И когда смотрелся во сне в зеркало, то видел в нем, вместо своего привычного лица, лицо Пушкина – большегубое, с глазами чуть навыкате, с бакенбардами вдоль щёк. И самое главное: Чемоданов-Пушкин во сне был необычайно плодовит. Сочинял стихи и прозу постоянно. И записывал сочинения стремительным пушкинским почерком.
А когда Чемоданов просыпался, то опять был Чемодановым. Поначалу он радовался своим снам, но потом стал испытывать муки. Жизнь во сне – пушкинская жизнь – была намного интереснее его собственной, унылой, однообразной, в которую не хотелось возвращаться.
Чемоданов рассказал о том, что с ним происходит, когда он спит, своему приятелю Остапчуку. И признался, что однажды проснулся с носовым платком Анны Керн в руке, который та сама ему подарила. И показал этот платок. У Остапчука округлились глаза. Он взял кончиками пальцев этот самый, таящий в себе аромат благовоний, платок из батиста и тщательно обнюхал его. «Странный запах… – заметил он. – „Шанель“ пахнет как-то веселее!». Чемоданов обиделся на эти слова. За Керн. Причем здесь «Шанель»? В девятнадцатом веке об этих духах и понятия не имели! Чемоданов был убежден, и не без оснований, что Остапчук вряд ли способен отличить запах «Шанели» от запаха других духов: во-первых, у него вечно заложен нос, во-вторых, из всех запахов, наполняющих мир, он мог определить лишь один – запах водки. Но если наличие снов, где Чемоданов вел светскую и духовную жизнь Пушкина, Остапчук, как человек бывалый (а он был в свое время цирковым эквилибристом, объездил пол-Европы, пока не повредил основательно ногу), мог себе как-то объяснить, то вот платок Анны Керн, материально существующий, который Чемоданов, проснувшись, обнаружил у себя руке, привел бывшего циркача в состояние шока. А уж когда вслед за этим Чемоданов достал с книжной полки папку, где лежала пачка бумажных листков, исписанных стремительным пушкинским почерком, и показал их приятелю, тот надолго впал в состояние столбняка. Стихи были написаны чернилами на бумаге старого образца, которую сегодня не найдешь, разве что в музее.
Потрясенный Остапчук исчез на несколько дней. Все это время он, отказываясь общаться с родными, не желая есть и пить, лежал на диване, уткнувшись лицом в подушку, находясь под сильным впечатлением от того, что случилось с Чемодановым. Когда же наконец Остапчук пришел в себя, то немедленно появился у приятеля в ремонтной мастерской – тот как раз проверял после починки работу трансформатора. «Чувак! – взволнованно воскликнул Остапчук, оглядывая Чемоданова. – Я тут серьезно пошевелил мозгами, обдумывая твою историю: платочки, стихи и прочее… Можно заработать хорошие бабки!» – «Каким образом?» – удивился Чемоданов неожиданному ходу мысли приятеля. «Элементарно! Берем твои… то есть пушкинские рукописи… и толкаем их за хорошие бабки знающим людям! Коллекционерам там, собирателям раритетов, денежным мешкам, которые хотят иметь у себя пушкинские подлинники…» – «Ты это серьезно?..» – озадачился Чемоданов. «Вполне! – воскликнул Остапчук. И деловито посоветовал: – Ты только там во сне пиши побольше!» – «Для этого нужно вдохновение, – повел головой Чемоданов. – А так, на фу-фу, я не могу…» – «О чем ты говоришь! – нахмурился Остапчук. – Если ты во сне – Пушкин, то и писать должен быстро и много, как он. У Пушкина вдохновение было всегда!» – «Ну не скажи! – не согласился с ним Чемоданов. – У меня… то есть у Пушкина… – поправился он, – бывает хандра, и тогда совсем не пишется».
Одним словом, прикинув все «за» и «против», приятели решили попробовать. И пошло-поехало. Чемоданов приносил рукописи с пушкинскими стихами, а Остапчук сбывал их знатокам, удивлявшимся появлению неизвестных доселе пушкинских сочинений и спешившим, после соответствующей экспертизы специалистов, подтверждавших подлинность почерка и бумаги, приобрести их.
Дело приносило хороший доход. Анфиса, жена Чемоданова, с удивлением отнеслась к появлению в доме значительных денежных сумм, но предпочитала не спрашивать у мужа, откуда у него такие деньги – не ворует же он? И действительно, Чемоданов был человеком честным, с малолетства не имел привычки брать чужое, о чем Анфисе было хорошо известно со слов его матери. Вероятно, муж нашел денежную халтуру, решила она. Ну и флаг ему в руки! Зато теперь каждую неделю Анфиса покупала себе обновки. Одну лучше другой. В общем, приоделась. Сменила кое-какую мебель в квартире, поменяла телевизор, приобрела еще два дополнительно, один в половину стены – дочке на радость! Купила машину для мойки посуды. Стала собирать деньги на евроремонт. Одним словом, жизнь наладилась.
И всё бы хорошо, но наступил момент, когда Чемоданов стал меньше писать, не более одного-двух стихотворений в неделю. «Ты что это, чувак, манкируешь?!» – набросился на него Остапчук, когда однажды в конце месяца Чемоданов передал ему всего три листка со стихами и полстраницы прозы. «Вдохновения нет…» – признался Чемоданов. «Как это нет?! – рассердился Остапчук. – Ты кто? Пушкин!» Чемоданов сделал скорбное лицо: «Представляешь, Дантес, блин, совсем замучил!.. Наташке проходу не дает! И тут, сам понимаешь, не до стихов – я его пристрелить готов!» – «Брось! Какой к черту Дантес?! – возмутился Остапчук. – Пошли его на хер! И знай себе пиши!.. Я тут пообщался с одним коллекционером, обещал ему десять неизвестных пушкинских стихотворений – так что не подведи! Серьезные бабки получим. А я как раз в Канаду намылился, к родне по линии прадеда, и без хороших бабок такую поездку не поднять!» – «Не пишется… – заявил Чемоданов с грустью. – Ты сам-то писал когда-нибудь стихи? Нет? Так попробуй! Тогда и поймешь!» – «Мне-то зачем писать стихи? – обиделся Остапчук. – Для этого есть ты!.. Может, тебе куда-нибудь на курорт махнуть? На недельку. К примеру, в Геленджик? Отдохнешь, чужих баб пощупаешь… Глядишь, и дело лучше пойдет!» – «На черта мне твой Геленджик! – заупрямился Чемоданов. – Мне и здесь хорошо…» – «Тогда пиши, чудила, не ленись!» – повелел Остапчук, направляясь к выходу. И уже в дверях неожиданно остановился. «Послушай! – воскликнул он. И его зеленые, как у кота, глаза радостно вспыхнули. – Ты же можешь не только стихи, но и письма писать… декабристам, к примеру… Или всяким там Керн и другим бабенкам! Это тоже можно хорошо продать! Интимная лирика! Представляешь?! „Дружище Дельвиг! Скажу по секрету: вчера перепихнулся с Воронцовой…“ Это же с руками оторвут! Пикантные страницы из жизни великого поэта! Да и денежные счета, написанные пушкинской рукою, или закладные – все в ход пойдет! А это же легче писать, чем стихи, верно? Любая строчка классика для собирателя раритетов – большая радость!..» На том и расстались.
Однажды утром случилась неприятность: проснувшись, Чемоданов потянулся к жене и назвал ее Натали. «Чего-о-о?! – взметнулась на подушке Анфиса, ничего не знавшая про необычную ночную жизнь мужа. – Какая еще Натали? Ты что, Чемодан Иваныч, мне изменяешь? Кто она?» (Когда Анфиса сердилась на мужа, она называла его «Чемодан Иваныч».) Если бы Чемоданов стал объяснять, кто такая Натали и какое она имеет к нему отношение, будучи в снах его женой, то есть женой Пушкина, а он сам, Чемоданов, по воле судьбы, ведет в часы сновидений пушкинскую жизнь, то произошло бы одно из двух: либо Анфиса влепила бы ему оплеуху, за то, что он изменяет ей с Натали, либо, решив, что муж слетел с катушек, вызвала бы врача из психушки! Поэтому Чемоданов счел за лучшее ничего не объяснять, лишь сказал, что он просто оговорился. «У нас на работе так бухгалтершу зовут… – пояснил он. И поспешно добавил: – Но ей давно за пятьдесят!» А что еще он мог сказать? Анфису же подобный ответ не удовлетворил. И она еще долго пытала мужа, стараясь вытянуть из него хоть какие-то крохи, способные прояснить суть его отношений с этой неизвестной Натали. «Хотела бы я взглянуть на эту бухгалтерскую рожу, которая носит столь игривое имя!» – думала она. И вдруг ее бросило в жар от мысли: а что если эта самая бухгалтерша, будучи любовницей ее мужа, крадет для него деньги из доходов предприятия, а она, Анфиса, тратит их на наряды и бытовую технику? Но Анфиса тут же отмела эту ужасную мысль: не может ее простодушный и честный Чемодан Иваныч участвовать в таком недостойном деле, как кража денег! Чемоданову же, в ответ на ревнивые расспросы жены, хотелось крикнуть: «Успокойся! Мне тебя вполне хватает! А Натали – это так, миф, иллюзия, ночная повинность!» Но он лишь протяжно вздохнул.
После этого случая Анфиса некоторое время внимательно приглядывала за мужем: куда он ходит? с кем встречается за пределами дома? Но Чемоданов не давал повода для ревности. Встречался он только с друзьями, с которыми иногда выпивал или ходил на футбол. И она успокоилась.
Но тут подоспела еще одна неприятность. Остапчука забрали в полицию. Какой-то доброхот из числа коллекционеров сообщил в органы, что тот торгует пушкинскими автографами, которых у него бог знает сколько, и задался при этом вопросом: откуда у бывшего циркового артиста столько ценных писаний? Может, он ограбил музей? В полиции стали выяснять: что это за рукописи А. С. Пушкина и как они попали к Остапчуку, да еще в таком количестве? Сами понимаете, Остапчук не мог сказать правду. Никто бы не поверил в то, что его приятель Чемоданов в своих снах превращается в Пушкина и всякий раз приносит оттуда пушкинские стихи, письма и деловые бумаги. (К слову сказать, Чемоданов к этому времени уже передал Остапчуку для продажи два письма, адресованные им Раевской и Воронцовой, и денежные счета, свидетельствовавшие о неблагополучном финансовом состоянии поэта.) Объясняя полицейским наличие у него рукописей, Остапчук сказал, что у него есть приятель, славный парень, электрик Чемоданов, у которого бабка была из рода Пушкиных. И вот эта самая бабка оставила Чемоданову после смерти сундук с пушкинскими бумагами, и внук, то есть Чемоданов, неоднократно обращался к нему с просьбой продать ту или иную рукопись, с целью поправить свое скромное финансовое положение. По счастью, оперативники поверили Остапчуку и отпустили его с миром. Но взяли предварительно у него адрес и телефон Чемоданова (очень уж им хотелось взглянуть на этот заветный сундучок, доверху набитый пушкинскими сочинениями). Пока оперативники тянули резину, занятые другими, более важными, делами, откладывая со дня на день визит к обладателю сундучка, Остапчук, не теряя времени, действовал. Лишь только он покинул здание полицейского участка, тут же позвонил Чемоданову и рассказал о том, что побывал в полиции, где интересовались рукописями Пушкина и тем, откуда они взялись. Затем посетил барахолку, после чего приехал к приятелю с приобретением – аккуратным деревянным сундучком, старинного вида, с кованой ручкой и внутренним замком. «Не было у меня бабки из рода Пушкиных! – негодовал Чемоданов, узнав, чего наговорил его приятель в полиции. – Ты меня подставил!» – «А ты что же, хотел, чтобы я рассказал им, что ты проделываешь по ночам, превращаясь в Пушкина? Меня бы упекли в дурдом! Или обвинили бы в воровстве, потому что поверить в то, что какой-то электрик становится по ночам Пушкиным да еще кропает стихи – невозможно!»
Кончилось дело тем, что приятели сложили в сундучок еще не проданные рукописи и бумаги, присовокупили к ним тот самый платок Анны Керн (с ним Чемоданов ни в какую не желал расставаться и хранил у себя) и, обсудив детали, договорились выдать этот самый сундучок за наследство, оставшееся от бабки. «Никто не станет проверять, были ли у твоей бабки в роду потомки Пушкина или нет, – заявил уверенно многоопытный Остапчук. – Установить это невозможно!»
Сундучок убрали подальше на антресоль, чтобы Анфиса и дочь-школьница не видели его. «В случае чего, – Остапчук, довольный своей затеей, хлопнул приятеля по плечу, – Анфисе скажешь, что сундук принадлежит мне, и я просил тебя временно подержать его у себя!»
Через два дня в квартире Чемоданова появились люди из полиции. Стали выяснять, что да как. Сослались на Остапчука и беседу с ним по поводу пушкинских рукописей, которыми тот бойко торгует. Анфиса, собравшаяся было в магазин за продуктами и уже стоявшая в прихожей с сумкой, слушала сотрудников полиции открыв рот. «Ваш приятель Остапчук утверждает, что у вас есть стихи и бумаги Пушкина, которые достались вам по наследству. Так ли это?» – спросил худощавый оперативник с нервным лицом. «Да, – подтвердил Чемоданов. Он хоть и побледнел, но, поднабравшись за время снов пушкинского бесстрашия, который, порою, оказывался в более худших ситуациях, был спокоен. К тому же он, Чемоданов, ничего ни у кого не крал, и это знание добавляло ему уверенности. – Действительно у меня есть пушкинские бумаги. Они достались мне в наследство от любимой бабушки… – И уточнил: – … Степаниды Гавриловны!» Бабушку действительно звали Степанидой Гавриловной, но она всю жизнь прожила в Саратове, и Чемоданов, живший с родителями в Москве, видел ее, дай бог, всего раза три, когда та приезжала в столицу к ним в гости. И «любимой бабушкой», в силу этих причин, она могла быть лишь номинально. Но простим Чемоданову эту вольность… «И сундучок, где ваша бабушка хранила рукописи А. С. Пушкина, можете показать?» – спросил второй оперативник, широколицый, в распахнутой кожаной куртке, из-под которой выглядывало довольно осязаемое брюшко любителя пива. «Могу», – кивнул Чемоданов. И у него мелькнула шальная мысль: а не сказать ли этим бравым ребятам, что он продал сундучок?.. Когда, поставив в коридоре лестницу-стремянку, он всё же достал с антресоли сундучок, который они с Остапчуком туда запрятали, у Анфисы подогнулись ноги на нервной почве, и она завалилась на стул, стоявший поблизости. Чемоданов повернул ключ в замке, открыл крышку, и глазам оперативников предстало содержимое сундучка. Один из оперативников, обладатель нервного лица, потянулся к бумагам рукой. «Руками не трогать! – остановил его Чемоданов. – Это ценные рукописи, им почти два века… Я сам!» Он бережно извлек из сундучка бумажный лист, лежавший сверху, и поднес его к глазам оперативника с «пивным» брюшком. От «нервного» он старался держать пушкинский автограф на расстоянии: черт его знает, странный какой-то парень – еще отгрызет от бумаги кусок! На листе было небольшое стихотворение с посвящением Наталье Николаевне, жене поэта. И хотя оперативник с брюшком не был искушен в вопросах литературы, тем не менее, вид бумаги с обтрепанными краями и летящие строчки на ней с буквой «Ъ», написанные наполовину выцветшими чернилами, произвели на него впечатление. Он, как старательный школьник, беззвучно шевеля губами, прочитал стихотворение от начала до конца, несмотря на то что почерк писавшего не везде был разборчив, – тут надо сказать, к чести оперативника, он за годы службы наловчился разбирать самые неудобные почерки. И еще: накануне похода к Чемоданову оперативник с брюшком побывал на Пречистенке в музее Пушкина и ознакомился там с образцами почерка поэта. «Да… почерк вроде пушкинский…» – подтвердил он, закончив чтение, и задумался, не зная, как следует поступить дальше. Зато его напарник, «нервный», знал. «Мы заберем эту рукопись на экспертизу!» – заявил он. «Еще чего! – воспротивился Чемоданов. – С какой стати я должен вам ее давать?.. Мне экспертиза не нужна!» – «Если рукопись подлинная и ваша бабка действительно из рода поэта Пушкина, то вопросов нет… Мы это проверим. А вот если ваша бабка… Как ее там? Степанида Гавриловна?.. Вот если она по наследственной линии к Пушкину – не пришей кобыле хвост, тогда будем разбираться, откуда у вас пушкинские бумаги и в таком количестве!» – «Разбирайтесь, это ваше право! – отважно заметил Чемоданов, чувствуя в себе частичку великого поэта. – Но ни одной страницы я вам не дам! Это мое имущество! – И подумав немного, милостиво добавил: – Или давайте залог и пишите расписку!» – «Какой еще залог?» – дернулся «нервный» оперативник. «Две тысячи баксов!» Услышав требование мужа, Анфиса чуть не потеряла сознание. Держась за стену, она добралась до шкафа в комнате, достала оттуда аптечку в картонной коробке. Вынула пузырек с «валокордином» и прямо из него плеснула себе в рот. У «нервного» полицейского от наглости Чемоданова случился тик. Лицо его стало дергаться, и он, чувствуя это, не знал, как остановить вышедшую из повиновения мышцу. Тут вмешался оперативник с брюшком и успокоил обе стороны. «Не будем спешить, – заявил он. – Сперва наведем справки о бабке, а уж потом…» – он не договорил, но все поняли, что последует потом. На том и разошлись.