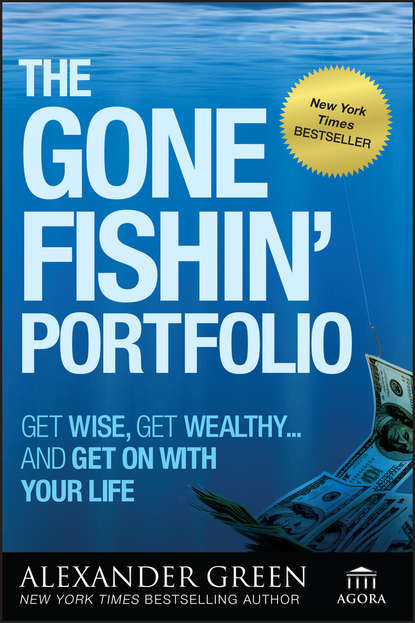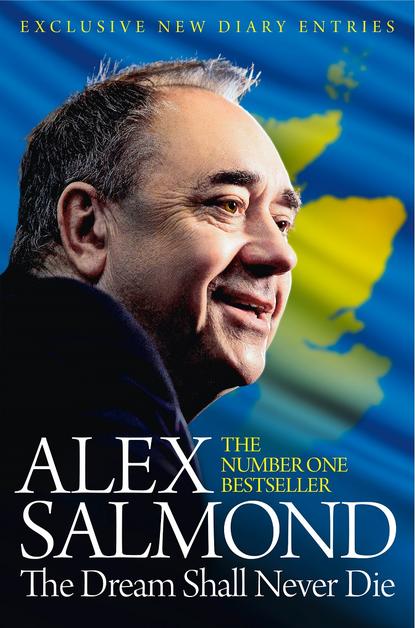- -
- 100%
- +

Смерть, достойная трёх некрологов, и пробуждение Героя, который не хотел вставать с кровати
Сначала я умер.
Не от пули, не от шпаги, не даже от того, что застрял в лифте с семьёй баянистов. Я умер классически, безвкусно и, что обиднее всего, статистически.
В третий десяток раз – точнее, в тридцать третий – мне прислали поздравительную СМС: «Вы снова стали избранным носителем коронованной моды!» Народная молва окрестила это «короновирусом», словно речь шла о вечеринке с тиарой. Организм, утомлённый праздниками, ответил кратким инфарктом, как бы говоря: «Извини, хозяин, но на сороковой юбилей я не подписывался».
Мне бы лечь и позвонить в скорую, но я принял решение из области высокой морали: повеситься. Причина была весомая – горе. Правда, горе было абстрактным, вроде новости о повышении тарифов на смысл жизни. Чтобы довести трагедию до абсурда, я, ведомый инфарктом, отправился к соседке – за солью. Да, да: человек, который идёт в петлю, часто сначала идёт за специями. Так на девятом этаже я и оказался – и тут меня сбила фура.
Вы спросите: «Но как?» Я отвечу честно: не спрашивайте. Фура была уверенной, деловой, как налоговый инспектор в сезон. Она появилась в коридоре девятого этажа, будто дом сдал площади под логистику. От удара я присел духом, а сердце, и без того вдохновлённое инфарктом, принялось барабанить марш «Прощание славянки».
Соседка – да будет благословенно её чувство уместности – распахнула дверь и, оценив ситуацию («муж, фура, умирающий сосед»), предложила краткий и ясный план:
– Проходите в спальню для сексуальных утех.
Инфаркт согласился раньше меня. Я же, как любой порядочный человек в состоянии клинической философии, кивнул.
Спальня встретила нас мужем соседки – крепышом, чья биография состояла из одного глагола «подозревать».
– Свеженький? – осведомился он и, проявив завидную прямоту, выкинул меня в окно.
Падение – процесс медитативный. В воздухе я успел удивиться многому. Главному – фуре на девятом этаже. Кто её туда поднял? Лифт? Грузчики-мистики? Или это метафора, которую я понял слишком буквально? Я ещё отметил, что асфальт внизу выглядит как строгая бухгалтерша, которая точно не одобрит моего отлёта, не включённого в отчет.
До земли я не долетел. Надорвался от хохота. Что поделаешь, юмор – мой последний рефлекс. Смерть, увидев, что клиент ушёл по собственному желанию, пожала плечами и расписалась в накладной: «От смеха». Так меня и записали в ведомости загробной бухгалтерии – удовольствие бесплатно, выдача кассового чека невозможна.
… А потом я проснулся.
Проснулся – громко сказано. Сначала я попытался не вставать с кровати. Это древняя техника защиты от реальности: если её не видеть, она, возможно, уйдёт. Под веками плясали солнечные зайчики в форме вопросительных знаков, шумела тишина, и пахло… воском, старыми книгами и тем видом кофе, от которого даже чашка начинает чувствовать себя графиней.
Кровать была не моей – это я понял сразу. Слишком мягкая, слишком широкая и категорически уверенная в своём происхождении. Простыни дышали льном и высокомерием. Я разлепил глаза и увидел потолок, украшенный лепниной – но лепнина была из букв. «А», «Ж», «Ы», «Ф» – они, словно ангелы орфографии, взирали на меня с укоризной и лёгким превосходством.
– Вставайте, сударь, – произнёс чей-то голос, как выстрел шампанского. – Ымперия не любит, когда её игнорируют.
У кровати стоял дворецкий, высокий и идеальный, как пунктуация в учебнике. Лицо у него было невозмутимое, но усы явно улыбались.
– Где я? – спросил я, соблюдая классический этикет попаданца.
– В Смехограде, столице Ымперии, – ответил он. – В доме Коротконоговых. Кстати, примите наши соболезнования по поводу вашей многостаночной смерти. Мы впечатлены логистикой.
– Коро… кого?
– Коротконоговы, сударь, древний род. Ваш род, если быть точным. Вы Герой – таково ваше служебное имя. Фамилия прилагается. Вы девятьсот одиннадцатый по списку живых представителей клана, но об этом позже. Сначала – кофе и краткий инструктаж.
Я сел. Кровать вздохнула так, будто я победил в частной Олимпиаде по вставанию. На столике поджидали кувшин, чашка, и газета с заголовком: «Айфоний Беззарядный снова разрядил оппозицию». Шрифт был упитан, как граф и его доходы.
– Простите, – сказал я, – но почему буквы на потолке смотрят на меня так, словно я им задолжал?
– Потому что задолжали, сударь, – мягко сообщил дворецкий. – В нашем мире Буквы – это магия. А у вашего рода – своя, фамильная, секретная азбука. Вы активировали её по пути сюда.
– По пути… сюда?
– Да. Вас сюда пристроили. По слухам, приложил руку некто Ж. Пт. Чатский. Упрямый мыслитель, энтузиаст здравого смысла – а значит, враг всему весёлому и наш главный заговорщик. Пожалуйста, не цитируйте меня в парламенте.
Я вспомнил падение, фуру на девятом, соседа-мужа, соседку и смех. Судьба, как опытная портниха, сняла с меня мерки абсурда и сшила новый костюм – с эполетами.
– Ладно, – сказал я. – И что теперь положено делать Герою?
– Прямо сейчас – не вставать.
– Что?
– Это старая традиция Коротконоговых, – пояснил дворецкий. – Герой, который не хочет вставать с кровати, обязан полежать ещё пять минут и пересмотреть приоритеты. Это смягчает удар реальности.
– Прекрасная традиция, – сказал я, и реальность действительно смягчилась.
– А через пять минут?
– Через пять минут вы встанете, сударь, наденете этот камзол и пойдёте на Бал во славу Ымперии. Вас должны увидеть, о вас должны шептаться, вас должны недооценить.
Я закрыл глаза, но не заснул – просто прислушался. Дом пел очень тихо: где-то в глубине библиотека перелистывала себя, камин кряхтел, придумав афоризм, а портреты на стенах упражнялись в сарказме. Один прадед с усами, спадавшими до пола, шепнул портретному соседу:
– Проснулся. Вид у мальца шальной, как у меня перед Черноморским походом… или это был поход в буфет?
– Сударь, – напомнил дворецкий, – пять минут прошли ещё четыре минуты назад. Ваша пунктуальность уже достойна легенды.
Я поднялся. Мир слегка качнулся, но держался. Камзол оказался дружелюбным, как собака с университетским образованием. В зеркале мне ответил мужчина на вид вчерашний – ещё не сегодняшний, но уже не прошлогодний. Глаза мои были полны любопытства, а волосы – споров о форме.
– Прежде чем вы пойдёте, – сказал дворецкий, – краткий курс ликбеза. Он поднял указку, и в воздухе вспухла диаграмма из Букв. – Магия Букв проста в применении и непостижима в сути. Каждая Буква – как нота, но звучит по-вашему, по-геройски. Секреты держатся в фразах-шифрах. Произносите анекдот – получаете заклинание. Произнесёте его правильно, с той интонацией, что ваши прадеды берегли, – и реальность, как воспитанный официант, кивнёт и подаст блюдо.
– Покажите пример, – попросил я.
– Пожалуйста. – Дворецкий кашлянул в локоть и произнёс:
– «А потом я ему говорю: „Сударь, ваш поезд ушёл, но хвост ещё машет!“»
В комнате слегка задребезжало стекло, и на столике возникла тарелка сырников.
– Комбинация «А-П-Я-С», – пояснил он. – Вызывает скромные радости. Сырники – классика, не благодарите.
– Восхитительно, – сказал я. – А если нужно защититься?
– Тогда воспользуйтесь родовой Буквой «Ы». Но осторожно, сударь. Это наше семейное «противотанковое „извольте“». Скажете не той шуткой – и противник действительно извольтится, с непредсказуемыми последствиями.
– И ещё, – добавил дворецкий, – не забывайте, что кто-то следит за вами. Некто умный, сухой и изобретательный. Его инициалы – Ж. Пт. Чатский.
– Он же устроил мой переезд?
– Похоже. Направил фуру. Подсунул соседку. Подкинул мужа. И подарил вам смех – чтобы вы им же и победили. Великий злодей любит чистую логику. А её, как известно, лучше всего трескает ложкой абсурд.
Я вздохнул.
– Ну что ж, – сказал я. – Пойдём на бал. Если уж меня сюда забросили, я намерен выглядеть так, будто это я всех остальных пригласил.
Мы двинулись по коридорам, где ковры шептались, а зеркала вспоминали лучшие отражения века. На лестнице нас встретил лакей с физиономией чистой пунктуации и поклоном, напоминавшим тире.
– Сударь, – прошептал дворецкий на пол-ступени, – когда увидите светских и их хмыканья – улыбайтесь. Улыбка – ваша первая Буква.
– А вторая?
– Лайк, – серьёзно сказал он. – Скажете что-нибудь милое Читателю, и реальность станет на пол-тона дружелюбнее.
– Дорогой Читатель, – пробормотал я, – если уж мы познакомились у лестницы судьбы – поставь лайк и добавь роман в библиотеку. Мне пригодится поддержка: в этой истории, по слухам, будут Архидемоны, а у меня камзол свежепоглаженный.
Лестница одобрительно скрипнула: магия сработала; где-то вдалеке невидимый машинист реальности прибавил ещё один вагон тепла.
Внизу распахнулись двери бального зала. Музыка брызнула светом; люстры – множественным числом – поглядели на меня с интересом. Собралось всё, что Ымперия могла выставить на витрину: графы, генерал-магистры, герцогини-сирены, ротмистры-рифмоплёты и один господин, который, кажется, был газетной передовицей, пришедшей в смокинге.
– Господа, – объявил распорядитель, – Герой Коротконогов!
На долю секунды тишина примерила меня к себе, как перчатку. Потом меня окатило шёпотом:
– Это он?
– Тот самый?
– Девятьсот одиннадцатый?
– Говорят, его смерть была многоступенчатой.
– Воспитанно умер, да?
– Ага: от смеха.
Я поклонился ровно на столько, чтобы им стало любопытнее. Музыка качнулась, и я, ещё не привыкший к собственной новой гравитации, шагнул в свет.
Первым ко мне подплыл седой граф с носом, как у беркута.
– Ваш род славен Буквой «Ы», – сказал он. – С неё, замечу, начинается и сама Ымперия. Не правда ли, символично?
Я кивнул, запомнив фразу как иголку, спрятавшуюся в подушке будущего.
Меня представили дамам. Дамы были прекрасны настолько, что природа, казалось, выполнила годовой план за одну ночь. И каждая из них говорила так, будто её слова проходят через два фильтра и цедятся через жемчуг.
– Герой, – сказала одна, – говорят, вас сюда позвал сам Сюжет.
– Сюжет – это мой дальний родственник, – ответил я. – Мы встречаемся на похоронах здравого смысла.
Смех прошёл по залу лёгкой волной; музыкант, вдохновлённый, сыграл лишнюю трель и покраснел. Я ещё не знал, что в этот момент кто-то где-то сделал заметку в записной книжке: «Герой удерживает иронию на высоте бального потолка».
Меня увели к буфету – святая святых любого бала. Булочки благоухали, закуски сияли, а уха в серебряной супнице глядела на меня как на загадку, которую она обязательно решит. У буфета стоял юный барон, усы которого только что подали документы на поступление.
– Слыхали, сударь, – шепнул он, – Архидемон Айфоний снова шевелится. Вчера в пригороде все часы разрядились одновременно. Даже солнечные.
– Страшно, – сказал я. – Особенно солнечные.
Дворецкий незаметно ткнул меня в локоть: дескать, пора «выйти в свет» по-настоящему. Мы отошли к кругу магов, где обсуждали новости академий, доспехи последнего фасона и степень едкости сарказма на холоде. Там же стоял господин с гладкими волосами и очками, в которых отражались сразу три собеседника. Он внимательно меня рассматривал, словно примерял к формуле.
– Простите, мы знакомы? – спросил я.
– Нисколько, – ответил он и улыбнулся слишком тонко. – Но неприятно подробно.
– Вы кто?
– Любитель здравого смысла.
– Это у нас редкая порода, – ответил я. – Смотрите, не занесите в Красную книгу.
Он чуть склонил голову и растворился в толпе так, как растворяются важные примечания мелким шрифтом.
– Ж. Пт. Чатский? – шёпотом спросил я дворецкого.
– Возможно, – ответил тот. – А возможно, это приманка. Будьте любезны не ловиться.
Оркестр сменил тему. Ко мне подошёл старый маршал с лицом, на котором можно было вычерчивать карты кампаний.
– Сударь Герой, – сказал он. – Мы ждали вас. Клан ваш много терпел, но время терпеливых закончилось. Мне бы хотелось увидеть вашу Букву в действии. Хоть чуть-чуть. Чтоб без разрушений, но с моралью.
– С моралью – пожалуйста, – сказал я. – Разрушения – как получится.
Я огляделся: на столике скучала тарелка с пирожными «картошка». Я поднял одну и торжественно произнёс анекдот, зашитый в родовую схему:
– «Приходит как-то логика в цирк, а ей говорят: мест нет, но есть ринг для абсурда».
Пирожные вздрогнули, подпрыгнули и сложились в слово «Ы». Толпа ахнула и тут же захлопала, как будто я только что приручил дождь. Буква светилась тёплым янтарём и медленно вращалась, будто соображая, с какой стороны у неё начало.
– Великолепно, – сказал маршал.
– Вы вернули букве самоуважение.
– Не букве – себе, – поправил я, сам удивившись своей фразе.
Где-то рядом щёлкнула записная книжка. Я опять почувствовал взгляд, холодный и математический. Он коснулся моей шеи, как линейка – строки.
– Сударь, – шепнул дворецкий, – не переигрывайте. Пусть публика возьмёт паузу, а мы – воздух.
Мы отошли в зимний сад, где апельсиновые деревья любили слушать сплетни. В пруду плавали золотые рыбки, каждая со своим юристом. Я присел на лавку и впервые заметил на запястье тонкую нить – как будто кто-то привязал меня к миру. Нить светилась едва-едва и складывалась в знак «Ы» при каждом вдохе.
– Это опасно? – спросил я.
– Это судьба, – ответил дворецкий. – Тонкая, как доказательство, и крепкая, как привычка. Похоже, ваша родовая Буква и сама Ымперия связаны узлом, о котором спорят филологи и стратеги.
Слова застряли у меня где-то между грудью и иронией. Мне показалось, что далёкая башня часов слегка качнулась – на мгновение раньше музыки.
– Ещё вопрос, – сказал я. – Если Ж. Пт. Чатский действительно вмешивался в мою логистику… зачем?
– Возможно, – сказал дворецкий, – он хочет доказать, что смех – статистическая погрешность. Что им управляет формула. И что формула принадлежит ему.
– Тогда, – сказал я, – придётся доказать обратное.
– Придётся, – согласился дворецкий. – Но сначала – танец. Простите, таков протокол победителей абсурда.
Мы вернулись в зал. Музыка стала стремительнее, люстры – понятливее. Меня пригласила дама в маске павлина. Маска смотрела дерзко, глаза – с интересом, голос – как чай с бергамотом.
– Скажите честно, Герой, – спросила она, – вы и правда умерли от смеха?
– Честно? – Я пожал плечами. – От смеха, фуры и семейно-бытового сюжета.
– Прекрасная композиция, – сказала она. – Видимо, Автор нашей книги – коллажист.
Мы закружились. Через полминуты заметил, что её шаги идеально совпадают с моим сердцем. Ещё через минуту понял, что её перчатки пахнут новой книгой. Ещё через две – что нас наблюдает тот самый господин с очками, отражающими троих.
– Вам не кажется, – сказала дама, – что в зале сквозит чужая мысль?
– Кажется, – ответил я. – И у этой мысли инициалы.
– Вы произнесли их вслух?
– Пока нет.
– И не надо, – сказала она. – Мысль обидчива, когда на неё показывают пальцем.
Танец оборвался на аплодисментах. Мы поклонились друг другу. Я хотел спросить её имя, но она уже отступала, растворяясь в павлиньих перьях толпы.
Я остался у колонны. Колонна, судя по трещинам, пережила три династии сплетен и одну чистку от метафор. Дворецкий возник из воздуха – как комментарий к сложному месту.
– Сударь, к вам просится один документ, – сказал он.
– Документы обычно скучны.
– Этот – нет.
Он протянул мне конверт, тёмно-синий, восковая печать – буква «Ы», перечёркнутая тонкой линейкой.
Я сломал печать. На толстой бумаге ровным почерком было выведено:
«Герой. Вы – девятьсот одиннадцатый. Именно этот номер может сработать. Все прежние – слишком ранние. Все последующие – слишком поздние. Вашим смехом откроется дверь. В полночь, когда люстры моргнут в третий раз, скажите вслух: «А между тем логика взяла отпуск по уходу за чудом». Если вы действительно Герой, произойдёт то, чего я жду. Если нет – произойдёт то, чего вы боитесь. С уважением Ж. Пт. Чатский»
– Любопытно, – сказал я.
– Нагло, – сказал дворецкий.
– Привлекательно, – признался я.
Часы пробили половину. Музыка сделала вид, что ничего не слышала. Но зал слегка подтянулся, как человек, готовящийся к фотографии.
– Сударь, – сказал дворецкий, – не делайте этого.
– А если это ловушка для ловушки?
– Тогда ловушка улыбнётся первой.
Я засунул письмо во внутренний карман. Рука сама нашла нить на запястье. Она была тёплой, как чайное прощение. И складывалась в «Ы» чуть чаще, чем требовал пульс.
В этот миг люстры моргнули – раз. Пауза. Моргнули – два. Музыка притихла, как кошка перед прыжком.
Я поднял голову. Третий раз люстры моргнули… и над самым центром зала, повиснув в воздухе, из ничего нарос чёрный прямоугольник. Он не отражал свет и не пил его – он его считал. По краям прямоугольника пробегали тонкие белые цифры, как комментарии трезвого человека к пьесе мира.
Толпа ахнула. Кто-то крикнул: «Вызвать магистра!», кто-то – «Покормить прямоугольник!», кто-то – «Спрятать детей и коньяк!». Дворецкий встал между мной и пустотой, как запятая между двумя опасными предложениями.
– Сударь, – сказал он тихо, – не произносите фразу. Её ждут.
Я вдохнул. Я мог промолчать. Я мог уйти. Я мог рассмеяться. Но письмо в кармане поцарапало меня мыслью: «А если это та самая дверь?»
Я шагнул вперёд. Толпа расступилась с готовностью учебника на экзамене. Чёрный прямоугольник висел, как недописанный итог. Цифры на его краях вдруг сложились в слово «ЕСЛИ».
И я сказал, чётко, слышно, так, чтобы каждая Буква заняла своё место в строю:
– А между тем логика взяла отпуск по уходу за чудом.
Прямоугольник дрогнул. Часы ударили полночь. Люстры вспыхнули ярче – и в их сиянии из глубины пустоты медленно, как кошмар, у которого хорошая растяжка, вышел силуэт с тонкими очками и улыбкой, знающей слишком много.
– Добрый вечер, Герой, – сказал силуэт. – Вы справились со своей первой формулой.
Я открыл рот, чтобы ответить, но воздух вокруг меня уже завертелся в воронку из букв. «Ы» вспыхнула так, что весь зал ахнул второй раз. И вдруг эта Буква сорвалась с потолка и стала между мной и силуэтом, как щит.
– Это… – прошептал кто-то.
– Это родовая защита! – вскрикнул маршал.
– Это сама Ымперия, – едва слышно сказал седой граф, – признала своего.
Силуэт в очках усмехнулся.
– Посмотрим, сколько у вас смеха, чтобы выдержать доказательство.
Пол поскользнулся под ногами, как плохо сформулированная мысль. Стены пошли рябью, как цитаты, переданные из уст в уста. И там, где только что был зимний сад, разверзлась узкая дверь, ведущая в коридор из чистой геометрии.
Я шагнул – и…
(по закону жанра Автор заканчивает каждую главу сочным клиффхенгером)
Бал во славу Ымперии (и неудавшееся покушение на канапе)
Если признаться, у меня было два варианта: шагнуть в коридор из чистой геометрии – или сделать вид, что я временно забыл таблицу логарифмов и имею право на глоток шампанского. Я выбрал третий способ: моргнуть, и мир вернулся на место так, будто только проверял, не слишком ли мы к нему привязались. Чёрный прямоугольник втянулся в себя, оставив в воздухе едва слышный запах свежей типографской краски. Люстры поправили кристаллы, оркестр сделал вид, что играл всё это время одно и то же, а публика единодушно договорилась ничему не удивляться, ибо таков высший свет: он шокирован только в частном порядке.
– Сударь, – сказал дворецкий на ухо, – если кто спросит, вы показывали новый фокус Коротконоговых: «Буква как щит».
– Прекрасно, – кивнул я. – А если спросит он?
– Кто – он?
– Тот, чьи инициалы пишутся мелким аналитическим шрифтом.
Дворецкий посмотрел поверх очков, которых у него не было.
– Тогда скажите, что вы просто улыбались. Улыбка – самая непредсказуемая из Букв: никогда не знаешь, кого обезоружит.
Меня тут же утащили в круг танцев: то придворная мазурка, где руки встречались строго на расстоянии и немедленно расходились, как противоборствующие партии, то вальс, в котором пол и потолок ненадолго менялись местами, и никто не страдал от реформы. Я танцевал – чтобы не думать, и думал – чтобы не переставать улыбаться. Под левой лопаткой штрих-код логики зудел, словно хотел пройти кассу без очереди.
Если вы никогда не бывали на балах в Ымперии, вы многое выиграли, но немного потеряли в хохоте. Каждая дама здесь – аллюзия, каждый кавалер – сноска, а стол с закусками – примечание, которое, прикрой его шторкой, превратится в отдельный том собрания сочинений. Меня вежливо подталкивали ближе к буфету, словно кто-то невидимый старательно сортировал меня по полкам. Я догадывался, кто: у Ж. Пт. Чатский невероятный такт – он умеет стоять на вашей тени, не наступая на ноги.
Буфет сиял. На серебряных этажерках в шахматном порядке расстанцованы канапе – миниатюрные тосты, на которых философия и гастрономия объясняли друг другу, что такое вкус. На каждом – по капле крема, по лунке икры, по иголке укропа: ешь – и будто читаешь сопроводительную записку к собственному удовольствию.
– Сударь, – прошептал юный барон с усами-заявлением, – не берите вот те.
– Почему?
– Это канапе для людей, склонных к прогрессу.
– А я как?
– Вы склонны к смеху. Противопоказаний больше.
Я улыбнулся – первая Буква легко подмигнула миру. Но чуткий слух отметил: из глубины стола – не из кухни – поднимается другое, тонкое, как игла портного, шипение. Такое бывает, когда анекдоту не хватает последней строки. Я присмотрелся: в центре этажерки стояла тарелка немного не того серебра. Серебро чаше глянцевитого – как будто его начистили укором. А над ним почти не видимая вуаль воздуха вибрировала, как радуга, которой стыдно.
– Господа, – звеня браслетами, подкатила к столу великая княгиня из рода Толстоживых, – хочется чего-нибудь лёгкого!
– Вам – или политике? – вежливо уточнил кто-то.
Она отмахнулась – и взяла как раз то самое канапе. Я не успел возразить – слишком много этикета и слишком мало времени – и потому привычно спасся анекдотом:
– Простите, ваше высочество, но этот момент напоминает мне это один случай:
В трактир заходит Логика: «Кофе», – говорит. А ей: «Простите, кофе закончился, но есть чудо». Логика подумала и сказала: «Наливайте – я сегодня вне службы».
Княгиня засмеялась так звонко, что комнаты слегка подвинулись друг к другу, чтобы лучше слышать. В этот момент её пальцы коснулись опасной тарелки – и ничего. Вуаль осела, серебро перестало светить чужим светом, опасность устыдилась и покинула позицию, как плохая сноска из новой редакции. Она взяла соседнее канапе и с удовольствием отправила его в судьбу, не подозревая, что только что не умерла.
– Вы чудны, Герой, – сказала она. – С вами вкус живее.
– Вкус – это Буква, – ответил я. – Просто обычно её забывают выговаривать.
Пока публика смеялась и рассказывала моей шутке, как она провела детство, я вытянул руку и мягко, будто поправляю складку на скатерти, сдвинул ту самую тарелку на край стола. Мы с дворецким вдвоём умели одну хитрость: не привлекая внимания, привлечь внимание.
К буфету подкатился хлюпкий господин с бледным лбом и глазами, привыкшими к подвалам – в них уютно прячется чужая совесть. Я узнал эмблему на запонке: Контр-интендантская служба – организация, которая считает пирожные и идеологию, чтобы ни того, ни другого не стало слишком много у неподготовленных. Он не глядел на гостей – он слушал стол.
– Вкусно? – спросил я нейтрально.
– Опасно, – ответил он столь же нейтрально. – Сегодня всё опасно, даже торт «Наполеон».
– Именно потому мы и живём, – сказал я. – Чтоб опасность не скучала.
Он задержал взгляд на не той тарелке, потом – на моей руке, потом – снова на тарелке:
– Вы её сдвинули.
– Нет, – сказал я искренне. – Я её уговорил.
Он ничего не ответил, но из рукава у него выполз тёмный знак – контрольная галочка. Галочка села на край тарелки и сосредоточенно помолчала, как учитель, готовящийся поставить «два». Потом галочка перевернулась на спинку, зачесалась ручкой и испарилась: угрозы нет. Контр-интендант коротко кивнул – похвала тяжёлая, но тёплая – и уплыл дальше, постукивая животом о пуговицу.
– Это было покушение, – сухо произнёс дворецкий.
– Да, на канапе, – сказал я. – И оно не удалось.
Мы обменялись улыбками: иногда игра слов – лучший отвёрт. Но я чувствовал на себе чужую тень – взвешивающую, как фармацевт. Тень шевельнулась между колонн и стала человеком: тот самый господин с очками, в которых легко помещаются три собеседника и один вывод. Он подошёл не прямо – логарифмом.