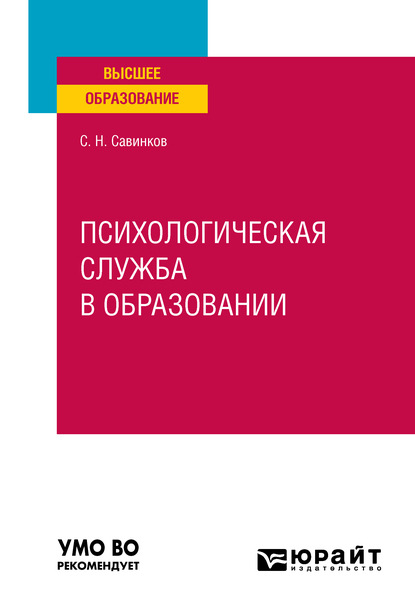Он не герой. Он — Герой.
Это не характеристика, это должность.
В Ымперии магию измеряют печатями, демонов вызывают приказами,
а любой подвиг требует согласования в трёх экземплярах.
Главное — не забыть вовремя поставить подпись под своей судьбой.
Сатирическое фэнтези, где попаданцы воюют с канцелярией, а шутки спасают мир чаще волшебства. Юмор. Бюрократия. Магия. Ы.
- Книги
- Аудиокниги
- Вебтуны
- Жанры
- Cаморазвитие / личностный рост
- Зарубежная психология
- Попаданцы
- Боевая фантастика
- Современные детективы
- Любовное фэнтези
- Зарубежные детективы
- Современные любовные романы
- Боевое фэнтези
- Триллеры
- Современная русская литература
- Зарубежная деловая литература
- Космическая фантастика
- Современная зарубежная литература
- Все жанры
- Бесплатные книги
- Блог
- Коллекции
- Серии
- Черновики
Вход В личный кабинетРегистрация