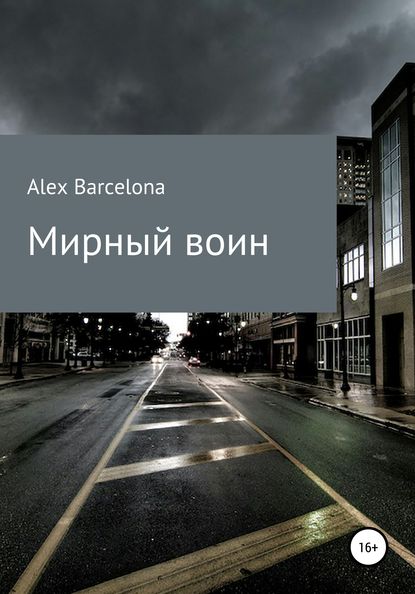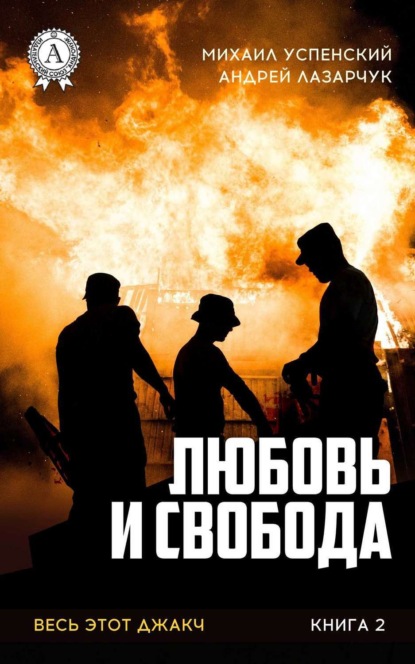Шоу бизнес
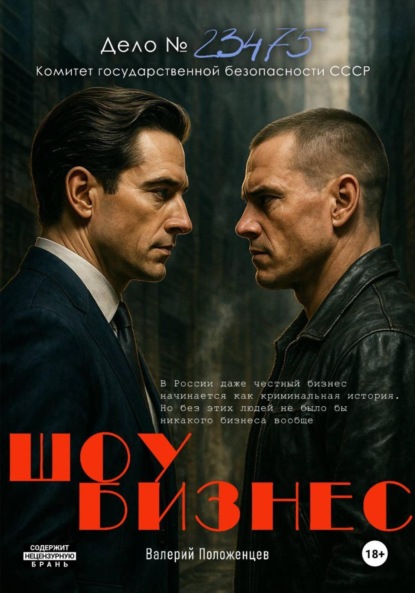
- -
- 100%
- +
Валерий Иванович Положенцев свою репутацию строил сорок лет – и построил на совесть.
Он шёл по коридору «Крокус Сити Холла», и люди расступались перед ним, как Красное море перед Моисеем. Сравнение библейское, но точное: и там, и здесь речь шла о чуде. Только Моисей вёл свой народ к свободе, а Положенцев – к кассе. В походке его читалась власть человека, способного одним звонком закончить любую карьеру. Или начать – что случалось значительно реже. Разрушать всегда проще, чем строить. И дешевле. И приятнее, если уж совсем честно.
Российский шоу-бизнес – структура феодальная. Есть сюзерены – владельцы каналов, продюсерских центров, концертных площадок. Есть вассалы – продюсеры поменьше, директора артистов, организаторы гастролей. Есть крепостные – собственно артисты, которые думают, что они свободные творцы, но на деле принадлежат своим хозяевам не менее крепко, чем крестьяне принадлежали помещикам до шестьдесят первого года. Отмену крепостного права в шоу-бизнесе пока не объявляли, – видимо, манифест застрял где-то между бухгалтерией и юридическим отделом.
Положенцев в этой иерархии занимал особое место. Он был из тех редких людей, которые не принадлежали ни к одной категории, – или принадлежали ко всем сразу. Сюзерен для одних, вассал для других, а для большинства – просто стихийное бедствие, с которым бессмысленно спорить и от которого можно лишь спрятаться.
Телефон у уха – последняя модель, подарок от артиста, которого он вытащил из забвения и превратил в звезду на один сезон. Благодарность в шоу-бизнесе выражается материально или никак: слова здесь дешевле воздуха, а воздух в Москве и так отравлен. Звонков с этого номера боялись больше, чем повесток из прокуратуры. Прокуратура хотя бы работала по закону – или делала вид, что работает. Положенцев работал по понятиям. А понятия – материя гибкая, трактуемая, удобная для того, кто умеет трактовать.
– Объясни этому дегенерату простую мысль, – голос его был спокоен, с лёгкой иронией хирурга, объясняющего родственникам, что операция прошла успешно, но пациент всё равно умрёт. – Простую, как мычание коровы на бойне. Часы тикают. К утру его карета превратится не в тыкву – в компост для моей дачи. А он сам – в то, чем был до встречи со мной. В статистическую погрешность. В пыль под ногами тех, кто умеет ходить.
Он говорил негромко – кричать было ниже его достоинства. Крик – признак слабости, признак того, что тебя не слушают и приходится повышать голос. Положенцева слушали всегда. Даже когда он молчал – особенно когда он молчал, – потому что молчание его бывало страшнее любых слов.
Мимо пробежала стайка танцовщиц из кордебалета – молодые, длинноногие, в обтягивающих лосинах, пахнущие потом и дешёвым дезодорантом. Увидев Положенцева, притихли, прижались к стене, как мыши при виде кота. Он скользнул по ним взглядом – оценивающим, профессиональным; так смотрит человек, привыкший оценивать людей как товар. Одна, рыженькая, попыталась улыбнуться – робко, заискивающе, с той смесью надежды и страха, которая отличает новичков в любом деле.
Наивная. Думает, улыбка и длинные ноги – пропуск в большой мир. Не знает ещё, что в его мире платят не улыбками. И не ногами – точнее, не только ногами. Платят душой. Авансом. Без права возврата и без чека на обмен.
Танцовщицы эти – расходный материал, пушечное мясо индустрии развлечений. Из сотни таких одна, может быть, станет солисткой. Из тысячи – звездой. Из миллиона – легендой. Остальные растворятся в безвестности, выйдут замуж за бухгалтеров, будут вспоминать молодость как сон и показывать внукам фотографии: «Вот это я, на заднем плане, во втором ряду». Статистика безжалостна, но статистика честна – в отличие от тех, кто обещает молодым девочкам звёздную карьеру в обмен на послушание.
К нему подлетел помощник – Костя, молодой парень лет двадцати пяти, из той породы, которую в народе зовут «на побегушках». Глаза спаниеля, повадки суслика, готового нырнуть в первую попавшуюся нору при малейшей опасности. Идеальный помощник: достаточно умён, чтобы выполнять поручения, достаточно глуп, чтобы не задавать вопросов. Золотая середина прислуги. Костюм от Zara, который он носил с видом, будто это Armani, – понты в России не облагаются налогом, иначе бюджет был бы профицитным.
– Валерий Иванович, – голос дрожал, как у первоклассника перед директором. – Зюзина капризничает. Отказывается выходить после Жарова. Говорит, это унижение для народной артистки.
Положенцев остановился.
В коридоре мгновенно похолодало – не физически, конечно, но те, кто находился рядом, почувствовали этот холод кожей. Есть люди, которые умеют менять температуру помещения одним своим присутствием. Положенцев умел менять её взглядом.
– Зюзина? – он произнёс это имя так, словно пробовал на вкус что-то протухшее и решал, выплюнуть сразу или подождать для верности. – Та самая Зюзина, которая год назад на коленях стояла в моём кабинете? Рыдала, умоляла дать ей ещё один шанс? Тушь текла – Ниагара в миниатюре, только вода грязнее.
– Она… она теперь заслуженная артистка…
– Заслуженная? – Положенцев усмехнулся.
Усмешка эта была страшнее крика. Крик – это эмоции, это потеря контроля, это слабость. Усмешка – это приговор, вынесенный хладнокровно, обдуманно, окончательный и бесповоротный. Так усмехаются палачи перед казнью – не от жестокости, а от профессионализма.
– Костя, мальчик мой, объясни мне. Что она заслужила? Кроме моего терпения? Голос у неё как у простуженной вороны после трёх пачек «Беломора». Внешность – провинциальная учительница на пенсии, которая ещё не знает, что на пенсии. Талант – на уровне сельской самодеятельности, причём той, которая после литра самогона. Единственное, что она умеет хорошо – правильно работать ртом. И я сейчас не про вокал.
В коридоре повисла тишина. Те, кто проходил мимо, ускоряли шаг, притворяясь глухими и слепыми. Глухота в нужный момент – главный навык выживания в шоу-бизнесе. Слышать нужно только то, что тебе адресовано, и забывать сразу после того, как услышал.
– Передай этой корове следующее. Дословно. Если не выйдет после Жарова – следующий её выход состоится у метро «Арбатская» с картонкой «Подайте бывшей народной». И добавь: я не шучу. Чувство юмора у меня атрофировалось в девяносто шестом. Вместе с совестью. Хороший был год. Продуктивный.
Помощник попытался возразить – жест самоубийственный, но понятный: молодость ещё верит в справедливость, в правила, в то, что звания что-то значат.
– Но она же народная артистка…
– Народная без народа – как девственница после борделя. Логический парадокс. Народ сейчас в «Пятёрочке» за акционной гречкой давится. Ему не до артисток, народных или каких других. А она – товар с истекающим сроком годности. Можно ещё продать, но со скидкой. И с предупреждением мелким шрифтом. Иди. Работай.
Помощник исчез – растворился в коридоре, унося с собой приговор для народной артистки Зюзиной. Положенцев продолжил путь.
За ним тянулся невидимый шлейф – не парфюма, хотя парфюм тоже был, дорогой и ненавязчивый, – шлейф власти. Смесь опаски, зависти и тайной надежды. Опаски – потому что он мог уничтожить любого. Зависти – потому что все хотели быть на его месте. Надежды – потому что попасть в его орбиту означало шанс, пусть призрачный, на успех.
Шоу-бизнес – театр, где зрители не подозревают, что тоже играют роли. Есть режиссёры – те, кто решает, какой спектакль ставить. Есть актёры – те, кто выходит на сцену и думает, что это их триумф. Есть рабочие сцены – те, кто двигает декорации и остаётся невидимым. И есть особая категория – люди, которые владеют театром. Им неважно, какой спектакль идёт: комедия, трагедия, фарс – главное, чтобы касса работала. Положенцев принадлежал к последним.
У двери гримёрки номер один ждал проситель.
Просители в шоу-бизнесе – отдельная каста. Они стоят у дверей, ждут в приёмных, ловят в коридорах, подкарауливают на парковках. У каждого – проект, идея, мечта. Каждый уверен, что именно его проект изменит индустрию, именно его идея взорвёт рейтинги, именно его мечта достойна воплощения. Девяносто девять из ста ошибаются. Сотый – тоже ошибается, но ему везёт.
Этот конкретный проситель был молод – лет двадцати восьми, возраст, когда ещё веришь в справедливость и в то, что талант пробьёт себе дорогу. Костюм не по размеру – с чужого плеча или из секонд-хенда, что в данном случае одно и то же. Ботинки стоптанные, но начищенные до блеска – оптимизм нищеты, вера в то, что внешний лоск компенсирует отсутствие внутреннего содержания. В руках – папка с проектом. В глазах – надежда.
Надежда в шоу-бизнесе – как девственность в борделе. Трогательная, но недолговечная.
– Валерий Иванович! Простите, что вот так, в коридоре, но у меня проект…
– Стоп. Как зовут?
– Женя. Евгений Палкин.
– Женя Палкин. Звучит как диагноз. Или как название рок-группы из Саратова, которая распадётся после первого концерта. Сколько лет?
– Двадцать восемь.
– Двадцать восемь. Прекрасный возраст для самоубийства. Подходить ко мне в коридоре с проектом – это суицид. Профессиональный, социальный, возможно физический. У тебя тридцать секунд. Продай мне свою идею. Но учти: если это очередные сопли про любовь и олигархов – сделаю так, что в Урюпинске работы не найдёшь. Будешь свадьбы снимать. На чужой телефон.
Парень сглотнул. Папка в руках задрожала. Но не отступил – значит, либо храбрый, либо отчаянный, либо слишком глупый, чтобы понимать опасность.
– Реалити-шоу. Но не обычное. Берём людей с улицы – обычных, без подготовки – и за три месяца делаем из них звёзд. На глазах у зрителей. Бомжа, алкоголика, домохозяйку. Социальный лифт в прямом эфире.
Положенцев остановился.
В его глазах мелькнуло нечто – не интерес, нет, интерес он научился скрывать ещё в девяностых. Скорее – узнавание. Он видел десятки таких проектов, сотни таких просителей. Но иногда – очень редко – среди мусора попадался алмаз. Неогранённый, грязный, но алмаз.
– Бомжа в звёзды?
– Представьте рейтинги! Вся страна будет болеть! История Золушки, только настоящая!
– Сколько нужно?
– Пятьдесят миллионов. На первый сезон.
– Дам пять. На пилот. Выстрелит – получишь остальное. Нет – будешь должен. До конца жизни. Которая в случае провала окажется короткой. Согласен?
Парень побледнел. Но кивнул.
Сделка с дьяволом. Классика жанра. Дьявол, как водится, в деталях – и в процентах.
– Завтра в десять в моём офисе. Опоздаешь – сделка отменяется. Придёшь в таком костюме – выгоню. Купи нормальный. В долг. Под мой проект уже дадут. В этом городе моё имя – лучшая кредитная история.
Положенцев пошёл дальше. За спиной остался парень – то ли осчастливленный, то ли приговорённый. Граница между этими состояниями в шоу-бизнесе размыта до неразличимости. Сегодняшний триумф – завтрашняя катастрофа. Сегодняшний провал – трамплин к будущему успеху. Колесо фортуны крутится, не разбирая, кто под ним.
Он остановился у кулис и посмотрел на сцену.
Там, в свете софитов, в облаке дыма и спецэффектов, кривлялась очередная звёздочка. Через год её никто не вспомнит. Через два – она сама забудет, что была на этой сцене. Но сегодня она приносила деньги. А деньги – единственное, что имеет значение в этом мире.
Всё остальное – лирика. Лирика денег не приносит.
Проверено.
Многократно.
Вершина айсберга
или То, что видно, и то, что топит
Публичность – это верхушка айсберга. Девять десятых скрыто под водой.
Журналисты пишут о том, что видят: концерты, премьеры, красные дорожки, скандалы в ночных клубах. Зрители читают и думают, что знают шоу-бизнес. Как пассажиры «Титаника» думали, что знают Атлантику – пока не познакомились с её подводной частью. Та часть айсберга, что над водой – красивая, сверкающая в софитах, фотогеничная. Та, что под водой – тёмная, холодная, смертельная. Именно она топит корабли. И карьеры. И людей, которые забыли, что девяносто процентов любого успеха – это то, чего никто никогда не увидит.
В российском шоу-бизнесе эта пропорция ещё безжалостнее. На одного человека на сцене приходится сотня за кулисами: продюсеры, менеджеры, пиарщики, юристы, бухгалтеры, охранники, водители, любовницы, бывшие жёны, действующие кредиторы. Каждый тянет одеяло на себя, каждый считает себя незаменимым, каждый готов перегрызть глотку соседу за лишний процент. Артист – лишь витрина магазина. Товар выкладывают другие.
Кулисы «Крокус Сити Холла» после концерта – место, где айсберг обнажает свою подводную часть.
Запах пота выветрился, остался аромат дорогого парфюма вперемешку с сигаретным дымом – фирменный коктейль закулисья, который не продаётся в бутиках, но узнаётся безошибочно. По коридору сновали уборщицы – молдаванки и таджички в синих халатах, невидимые труженицы, которых никто не благодарит и никто не замечает. Они собирали мусор, который оставляют после себя звёзды: пустые бутылки из-под шампанского, окурки с отпечатками помады, салфетки, скомканные контракты, иногда – чьи-то надежды, скомканные так же небрежно. Мусор гламура пахнет так же, как любой другой. Только стоит дороже. И убирать его приходится чаще.
У служебного выхода ждал молодой журналист из глянцевого издания.
Журналисты в шоу-бизнесе делятся на три категории. Первые – циники, которые всё понимают и пишут то, за что платят. Вторые – романтики, которые верят в искусство и правду, – эти долго не живут, профессионально говоря. Третьи – те, кто ещё не определился, к какой категории примкнуть. Этот явно принадлежал к третьим, с сильным креном в сторону вторых.
Лет двадцати пяти, очки в тонкой оправе – модно, интеллигентно, беззащитно. Блокнот – молескин, разумеется, какой же творческий человек без молескина. Ручка – «Паркер», наверняка подарок редакции за какой-нибудь материал года. Диктофон в кармане тайно записывает – думает, что незаметно. Наивный. В этих коридорах тайно записывают все – и записывают всех. На каждого есть папочка. Вопрос лишь в том, когда она понадобится.
На лице журналиста – выражение человека, который сейчас прикоснётся к легенде. Легенда об этом ещё не знала. И знать не особенно хотела.
Валерий Иванович Положенцев курил, прислонившись к стене. Дым поднимался к потолку, растворяясь в полумраке, – метафора, которую он сам не замечал, но которая ему подходила идеально. Костюм от Brioni, но пиджак расстёгнут, галстук ослаблен. После спектакля актёры расслабляются. Режиссёры – никогда. Положенцев не был ни тем, ни другим – он был владельцем театра, а владельцы не расслабляются даже во сне.
– Валерий Иванович! – журналист подскочил, как собака, увидевшая хозяина после долгой разлуки. Модный пиджак с закатанными рукавами – тренд сезона, подсмотренный в Instagram у кого-то более успешного. – Невероятная империя! Половина звёзд на сцене – ваши! Как вы это делаете?
На лице Положенцева появилась улыбка.
Улыбка удава, объясняющего кролику преимущества быть съеденным: быстро, почти безболезненно, и уж точно интереснее, чем сдохнуть от старости в норе, так никем и не замеченным.
– Историческая личность – это тот, о ком врут в учебниках после смерти, – он поправил запонку. Cartier, подарок от благодарной звезды. Или напуганной – в его мире разница несущественна. – Я предпочитаю, чтобы обо мне врали в глянце и жёлтой прессе. Платят лучше, тираж больше, и отзывы можно почитать при жизни. Учебники читают школьники по принуждению. Глянец – добровольно, в туалете. Самая благодарная аудитория: штаны спущены, деваться некуда, читай что дают.
Журналист нервно хихикнул – не понял, шутка это или нет. В присутствии Положенцева многие теряли способность отличать одно от другого.
– И всё же – как рождается звезда?
– Хотите рецепт? – Положенцев затянулся. – Знаете разницу между созданием звезды и приготовлением борща?
Журналист замер с ручкой наготове, готовый записывать откровение.
– Борщ – это скучно. Всё по ГОСТу: свёкла, капуста, морковь. Результат предсказуем, как пенсия после сорока лет на заводе. А здесь – алхимия. Берёшь крупицу таланта – именно крупицу, больше не надо, талантливые слишком много о себе думают и плохо управляются. Добавляешь вагон денег – без денег в этом бизнесе как без кислорода в космосе. Щепотку управляемого скандала – роман с женатым, фото в бикини, драка в клубе. Вливаешь ведро отборного цинизма и центнер сладкой лжи. Перемешиваешь в информационном пространстве. На выходе – либо платиновый альбом, либо пшик с запахом протухших амбиций. Пропорция примерно один к ста. Но тот один окупает остальные девяносто девять.
– Но как же творчество? Искусство? Душа?
Журналист смотрел с наивностью ребёнка, узнающего, что Дед Мороз – это папа в халате, а подарки покупаются в «Детском мире» за деньги, заработанные на нелюбимой работе.
Положенцев засмеялся. Сухо, коротко, без веселья – так смеются люди, которые разучились удивляться чужой наивности, но ещё не разучились её замечать.
– Талант – это нефть. Чёрная, вонючая жижа, которая без переработки никому не нужна. Правильно переработаешь – получишь высокооктановый бензин, на котором едет весь мир. Неправильно – экологическая катастрофа. Разлив в океане. Всё живое дохнет, убытки на миллиарды, а виноватых нет – «так получилось». Вот это и есть непереработанный талант: растёкся по поверхности, загадил всё вокруг, и толку ноль. Сколько таких гениев спилось в коммуналках? Сколько Моцартов работает охранниками в супермаркетах? Талант без продюсера – как нефть без нефтеперерабатывающего завода. Ценный ресурс, гниющий в земле.
Журналист строчил, забыв про диктофон. Рука летала по бумаге – он чувствовал, что получает золото. Не понимал ещё, что золото это отравлено – но это он поймёт позже, когда начнёт писать и обнаружит, что половину напечатать нельзя, а вторую половину – не поверят.
– Алгоритм прост, – продолжал Положенцев. – Берёшь девочку из Урюпинска. Или из Саратова, или из Челябинска – география не важна, важна голодность. Сытые звёздами не становятся, у них нет мотивации. Голодные – рвут зубами. Сначала – имидж. Стрижка у модного стилиста, пятьдесят тысяч. Грудь – триста, но это инвестиция, окупается за три клипа. Зубы – голливудская улыбка, двести. Потом – легенда. Она уже не Маша-доярка, а загадочная Марго с трагическим прошлым. Сирота, сбежавшая от отчима. Классика. Работает безотказно, потому что зритель любит чужие страдания – свои он и так имеет бесплатно, в неограниченном количестве.
– Это же… это же цинично!
Журналист поднял глаза, полные праведного возмущения – того сорта возмущения, которое бывает у людей, ещё не плативших ипотеку и не содержавших семью.
– Цинизм – это честность, которая не стесняется смотреть в зеркало. Я даю людям то, за чем они приходят. Хотят сказку – создаю сказку. Хотят драму – режиссирую драму. Хотят скандал – организую скандал. Честный обмен: они платят деньги, я даю эмоции. Гораздо честнее, чем политика, где обещают одно, делают другое, а получается третье – обычно хуже первых двух.
– Не жалеете? О том, что превратили искусство в бизнес?
Положенцев достал новую сигарету, но не закурил. Покрутил в пальцах – жест человека, который думает, стоит ли отвечать честно или отделаться красивой фразой для печати.
– Искусство в чистом виде – это крик в пустоту. Красивый, искренний, душераздирающий – но в пустоту. Никто не слышит. Художник умирает в нищете, его картины через сто лет продают за миллионы, а ему при жизни не на что было купить холст. Романтично? Безусловно. Глупо? Ещё как. Бизнес – это мост между тем, кто кричит, и тем, кто готов слушать. Я строю мосты. За деньги – да. Цинично – да. Но благодаря моим мостам миллионы получают то, что им нужно: эмоции, слёзы, радость, два часа забвения от собственной серой жизни. Это разве не служение? Просто я не стесняюсь брать за служение деньги. Большие деньги. Романтики стесняются – и умирают в коммуналках. Циники нет – и умирают в Монако. Могила одинаковая, вид из окна разный.
К ним подошёл Орлов – бесшумно, как тень, как человек, привыкший появляться незамеченным и исчезать, не попрощавшись. Лицо непроницаемое, костюм неприметный, но при близком рассмотрении – безумно дорогой. Кивнул в сторону выхода. Там ждали.
– Извините, – Положенцев повернулся к журналисту. – Бизнес зовёт. А он не любит ждать – единственное, чего он не прощает. И запомните: я не создаю звёзд. Звёзды – это горящие шары газа в космосе, физика, законы природы. Я создаю иллюзию звёзд. А это сложнее. Звезда существует, пока горит водород. Иллюзия – пока в неё верят. Поддерживать веру труднее, чем термоядерную реакцию.
Он пошёл к выходу. Журналист, всё ещё под впечатлением, крикнул вслед:
– Спасибо за интервью!
Положенцев обернулся.
– Пришлите текст перед публикацией. И не пытайтесь написать «правду» – напишите красивую историю. Её купят лучше. Правда – товар скоропортящийся, протухает быстрее, чем доедешь до редакции. Красивая ложь хранится вечно.
Он исчез за дверью, оставив журналиста с блокнотом, полным цитат, и смутным ощущением, что его только что использовали – профессионально, элегантно, с улыбкой. Как кролика, которому объяснили преимущества быть съеденным.
Верхушка айсберга сверкала в софитах.
Подводная часть уходила в темноту – туда, где тонут корабли.
Человек из тени
или Краткий курс невидимости для начинающих
В каждой истории успеха есть глава, которую не печатают.
Биографии бизнесменов, мемуары политиков, исповеди звёзд – все они начинаются с середины. «Родился в простой семье, мечтал о большем, работал не покладая рук, добился всего сам». Красивая сказка для тех, кто хочет верить в американскую мечту с российским акцентом. Но между строк – там, где белая бумага и типографская краска встречаются в молчании – прячется другая история. История про первые деньги, которые пришли не из банка. Про первые связи, которые завязывались не на бизнес-форумах. Про первых партнёров, которых потом не упоминают в интервью и не приглашают на юбилеи.
Эту главу не печатают не потому, что её нет. А потому, что те, кто в ней фигурирует, предпочитают оставаться в тени. Тень – их естественная среда обитания. Свет для них опасен, как для вампиров в дешёвых фильмах, – только вампиры выдуманные, а эти люди настоящие. И память у них длиннее, чем у слона. И руки длиннее, чем у закона.
Валерий Иванович шёл по коридору неспешной походкой человека, который точно знает: торопиться некуда. От судьбы не убежишь – можно только договориться. Или откупиться. Его итальянские туфли ручной работы мягко ступали по потёртому линолеуму советского образца – тому самому, который пережил три поколения уборщиц и переживёт ещё столько же. Костюм от Brioni странно контрастировал с облезлыми стенами, выкрашенными в тот особый оттенок зелёного, который существует только в государственных учреждениях и ночных кошмарах. Но в этом был весь Положенцев – умение сохранять лоск в любой обстановке. Бриллиант в навозе всё равно бриллиант. Навоз – всё равно навоз. Вопрос лишь в том, кто кого переживёт.
В тёмном углу, там, где коридор делал поворот к запасному выходу, ждал человек.
Люди из тени не назначают встреч через секретарей. Не присылают визитки. Не звонят заранее, чтобы уточнить удобное время. Они просто появляются – там, где нужно, тогда, когда нужно. Как напоминание о долгах, которые не списываются за давностью лет. Как счёт из прошлого, на котором набежали проценты.
Этот был из старых – из тех, кого в девяностые называли «решалами», а в восьмидесятые – ещё проще и страшнее. Лет пятьдесят, может больше – из той породы, которой годы не идут в плюс, а откладываются морщинами. Каждая морщина – чья-то история. Чужая, как правило. И, как правило, с плохим концом.
Лицо его было картой неприятностей: шрам на левой брови – след от чего-то острого и быстрого; нос сломан и криво сросся – кто-то когда-то успел первым; глаза – два колодца без дна, в которые лучше не заглядывать. Такие глаза бывают у людей, видевших дно жизни и решивших там остаться. Внизу, оказывается, тоже можно жить. И даже неплохо зарабатывать – если знать, на чём.
Кожаная куртка висела на широких плечах, под ней угадывались мышцы человека, который привык решать вопросы не словами. Слова – для начала разговора. Для конца существуют другие инструменты.
– Не ожидал, – Положенцев подошёл спокойно, руки в карманах. Руки в карманах – знак того, что бояться нечего. Или что страх спрятан глубже, чем карманы. – Думал, тебя в бетон закатали где-нибудь под Красноярском. Или это уже не модно?
– Думал, не признаешь, барин, – голос у незнакомца был как наждачка по стеклу, каждое слово оставляло царапины в воздухе. – Зазвездился. Олигарх веселья. Как тебя Forbes назвал? «Человек, который продаёт воздух»?
– «Торгует воздухом», – поправил Положенцев. – Точность важна. Разница между «продаёт» и «торгует» – миллионов пять в год. Зачем пришёл? Если за деньгами – касса закрыта. Если угрожать – очередь большая, запишись.