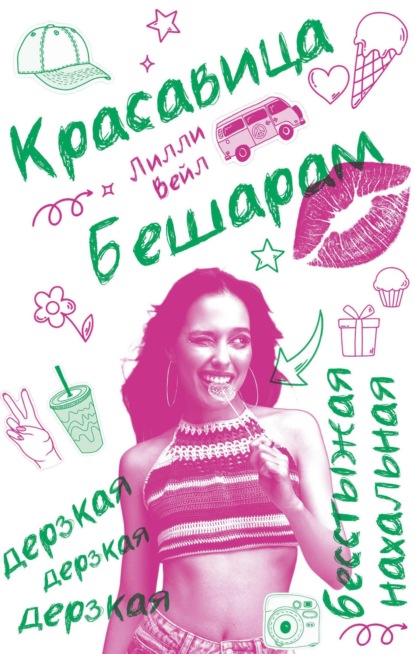Шоу бизнес

- -
- 100%
- +
– Потрындеть за жизнь. – Незнакомец достал сигареты, закурил, не спрашивая разрешения. Разрешение спрашивают те, кто боится отказа. – Помнишь Свердловск? Восемьдесят седьмой? Холодная зима была. Снег по пояс, водка по семь, мечты по миллиону.
– Помню. И что?
– Некоторые дела имеют свойство всплывать. Как то, что не тонет. Прошлое – оно ведь не уходит. Оно просто ждёт своего часа. Терпеливо, как кредитор, который знает, что должник никуда не денется.
Орлов, стоявший поодаль, незаметно отступил ещё на шаг. Профессионал – знал, когда лучше не мешать. И когда готовить пути отхода.
– Это угроза? – Положенцев не изменился в лице. Годы научили его контролировать мимику лучше любого ботокса. Тот убивает только морщины. Годы убивают всё остальное.
– Констатация. Птичка напела – мемуары пишешь. Про лихие времена. Бестселлер будет. Особенно глава про первые схемы. Там сюжет – Голливуд обзавидуется. Тарантино с Гаем Ричи в очередь встанут.
– И?
– Некоторые страницы лучше пропустить. Или переписать. Творчески переосмыслить. Время прошло, люди остались. С хорошей памятью. И руки всё ещё длинные, несмотря на артрит. Связи не протухли, как селёдка в консервной банке – только крепче стали. Связи – как коньяк. Чем старше, тем ценнее.
– Сколько? – Положенцев был прямолинеен. Длинные разговоры – признак слабости или подготовка к чему-то худшему.
Незнакомец усмехнулся. В полумраке его улыбка выглядела как трещина в стене – и за ней угадывалась пустота.
– Не за деньгами пришёл. За гарантиями. Что в твоей сказочке меня не будет. Ни строчки. Ни намёка. Как будто мы никогда не встречались. Амнезия – страшная болезнь. Но иногда полезная.
– А если литературная правда потребует?
– Тогда выйдет другая книжка. «Свердловск. Как всё начиналось на самом деле». Первые схемы – с фамилиями. Первые деньги – с номерами счетов. Кто, где, когда, с кем делился. Тираж обеспечу. В Следственном комитете молодые, голодные – им звёзды на погоны нужны. А ты – звезда. Во всех смыслах.
Пауза. За стеной гремела музыка, топала толпа – новое поколение, не знающее, что их кумиры куплены и проданы задолго до выхода на сцену. Два человека смотрели друг на друга, и в этом взгляде было больше правды, чем в любых мемуарах.
– Услышал, – наконец сказал Положенцев.
– Умный стал. Седой, но умный. – Незнакомец затушил сигарету о стену. – Тот пацан-журналист тебя спрашивал – с чего всё началось? Что бы ответил честно?
Положенцев помолчал. Впервые за разговор на его лице мелькнуло что-то похожее на искренность. Или на усталость – иногда это одно и то же.
– Что началось с мечты изменить мир. А закончилось войной за выживание. В которой нет победителей – только те, кто дожил до следующего раунда. И те, кто не дожил. Вторых больше.
Незнакомец кивнул, бросил окурок, растёр ботинком. Ботинок стоил как чья-то зарплата. Окурок – ничего.
– В этой стране выбор – роскошь. Как и честность. Ты это знал с самого начала. Но всё равно играл.
Он развернулся и ушёл, растворился в темноте коридора, как будто его и не было. Люди из тени умеют исчезать. Для этого они и существуют – чтобы появляться, когда нужно напомнить, и исчезать, когда напоминание доставлено.
Положенцев остался стоять один.
Где-то в глубине памяти, там, где хранятся вещи, которые лучше не доставать, зашевелилось прошлое. Свердловск. Восьмидесятые. Время, когда всё только начиналось. Когда мечты были большими, а цена – неизвестной. Счёт пришёл позже. Счёт всегда приходит позже.
Экран памяти мигнул, и буквы проступили сквозь темноту:
СВЕРДЛОВСК, 1977
Время отмотало плёнку назад – в эпоху, когда всё ещё казалось возможным.
Первая ходка
или Университет за колючей проволокой
Советский суд – самый гуманный суд в мире. Так писали в газетах, так говорили с трибун, так учили в школах. Гуманность эта выражалась в простом принципе: зачем расстреливать человека, если можно убить его медленно – бумагой, штампами, статьями кодекса, в которых слово «условно» звучит как отсрочка приговора, а не как помилование.
В семьдесят седьмом году в стране сидело около миллиона человек. Официально – меньше, но статистика в СССР была такой же гуманной, как и суды. Ещё несколько миллионов ходили с условными сроками, подписками о невыезде, погашенными судимостями, которые никогда по-настоящему не гасились. Армия людей с клеймом – невидимым, но несмываемым. Они работали на заводах, растили детей, получали грамоты за ударный труд – и каждую секунду знали, что в любой момент могут вернуться. Туда, откуда вышли. Или туда, куда ещё не попадали. Разница – в сроке и режиме. Суть одна.
Свердловск. Март. Зал суда.
Здесь пахло не просто казёнщиной – здесь воняло разложением судеб. Та особая вонь советского правосудия, которая въедается в одежду, как дым крематория. Отстирать невозможно. Можно только привыкнуть – или сойти с ума. Третьего не дано.
Стены, выкрашенные в цвет варёной капусты, потели от дыхания людей, загнанных в угол. Каждый квадратный сантиметр этого помещения был пропитан чужим отчаянием – густым, липким, почти осязаемым. Здесь плакали, здесь молили, здесь проклинали – и стены впитывали всё, как губка. Годами, десятилетиями. Стены помнили то, что люди предпочитали забыть.
На улице минус двадцать. В зале – холоднее. Тот особый холод, который идёт не от температуры, а от понимания: ты здесь никто. Твоя жизнь – строчка в отчёте. Отчёты важнее жизней. Так было при царе, так стало при Советах, так будет после – потому что бюрократия бессмертна, а люди нет.
Портрет Брежнева висел криво. Генсек смотрел с той особой брезгливостью, которая бывает у патологоанатомов после многолетней практики: ещё один труп, ещё одно вскрытие, ещё одна запись в журнале. Обед скоро. Герб над судейским столом – серп и молот – в мутном свете ламп напоминал не символы труда, а инструменты. Серпом жнут. Молотом бьют. Кого жнут и кого бьют – вопрос риторический.
Судья – женщина того неопределённого возраста, в котором советские чиновницы застывали навсегда, где-то между сорока и вечностью. Лицо её было географией чужих бед: каждая морщина – чей-то приговор, чья-то сломанная судьба, чей-то крик, который никто не услышал. Она читала текст с интонацией диктора, объявляющего прогноз погоды: механически, без эмоций, с лёгким раздражением от необходимости произносить слова, смысл которых давно выветрился.
– …приняв во внимание чистосердечное раскаяние подсудимого…
Чистосердечное. Сергей едва сдержал усмешку. Чистосердечность в советском суде – это когда признаёшь то, чего не делал, потому что так удобнее всем: следователю – закрыть дело, прокурору – отчитаться, судье – уложиться в норму. Конвейер должен работать. Конвейер – это главное. Люди – сырьё.
– …суд приговаривает к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года…
Условно.
Слово повисло в воздухе. Не приговор – отсрочка. Не свобода – поводок. Длинный, почти незаметный, но поводок. В любой момент могут дёрнуть. Или укоротить. Или намотать на кулак и потащить туда, откуда возврата нет.
Сергей стоял в деревянной клетке – загоне для подсудимых, который в народе называли «аквариумом». Только рыбы в аквариуме плавают. Здесь – тонут. Коричневая краска облупилась, обнажая гнилое дерево. Символично: снаружи – видимость порядка, внутри – труха. Как и всё в этой стране.
Адамово яблоко дёрнулось – единственное, что выдало волнение. Внутри всё сжалось. Не от страха – страх он уже переварил за месяцы следствия. От понимания: условный срок – не второй шанс. Это метка. Его пометили, как скот метят клеймом. Теперь он – свой среди чужих, чужой среди своих. Ни туда, ни сюда. Подвешенное состояние, которое может длиться годы. Или закончиться завтра – одним звонком, одной бумажкой, одним недовольным опером.
Мать всхлипнула где-то сзади.
Он знал её, не оборачиваясь: полная женщина в «выходном» пальто, которое надевалось три раза в жизни – на свадьбы, на похороны и в суд. Два повода из трёх – горе. Она утирала слёзы платком, тем самым, с вышитыми незабудками, который берегла для особых случаев. Случай был особый. Сын – условник. Почти уголовник. Почти – но это «почти» ничего не меняло. Соседи уже знают. Уже шепчутся. Уже отводят глаза при встрече.
Он повернул голову, встретился с ней взглядом. В её глазах – всё сразу: облегчение, что не посадили; ужас, что могут посадить; и главное – понимание. Она знала своего сына. Знала, что он не из тех, кто смиряется. А несмирившиеся в этой стране долго не живут. Либо ломаются, либо их ломают.
– Подсудимый, вам понятен приговор?
Понятен. Всё понятно. Ты – сырьё для статистики. Сегодня – условно. Завтра – реально. Вопрос времени и обстоятельств. Обстоятельства в этой стране всегда складываются против тебя. Это закон природы. Местной природы.
– Понятен, гражданин судья.
– Вы имеете право на обжалование в течение семи суток…
Он уже не слушал. Обжалование. Ещё одно красивое слово из арсенала гуманного правосудия. Можно обжаловать. Можно писать. Можно надеяться. Можно биться головой о стену – результат примерно одинаковый. Стена крепче головы. Проверено поколениями.
Конвой – два сержанта с лицами, отполированными службой до полного безразличия – подтолкнул к выходу. Они видели тысячи таких. Знали статистику: большинство вернётся. Не условно – реально. Государство не отпускает. Государство ждёт.
В коридоре, провонявшем хлоркой и махоркой, ждал Костян. Единственный, кто пришёл. Друг детства, сосед по двору, товарищ по первым глупостям и первым мечтам. Остальные – испарились. Дружба с подсудимым – как дружба с чумным. Может перекинуться. Лучше держаться подальше. Так безопаснее. Так правильнее. Так – по-советски.
– Держись, братан. – Костян хлопнул по плечу. Рука дрожала. Он тоже боялся – не Сергея, а того, что стоит рядом с ним. Того невидимого клейма, которое теперь будет сопровождать друга до конца жизни. – Всё образуется.
– Образуется.
Сергей выплюнул это слово, как выплёвывают горечь.
Образуется. В стране, где закон – не защита, а оружие. Где условный срок – не свобода, а ошейник. Где ты уже не человек, а строчка в картотеке, номер в деле, галочка в отчёте. Образуется. Как образовывалось у миллионов до него. Как образуется у миллионов после.
Он шёл по коридору суда, и каждый шаг отзывался эхом в пустоте. Впереди – не жизнь, а её имитация. Условная свобода в условной стране с условным будущим.
И самое страшное – он это понимал. Понимал и шёл. Потому что стоять – хуже. Стоящих затаптывают.
Свердловск, март семьдесят седьмого. Город, где даже снег – серый. Белый снег – для открыток. Здесь открытки не печатают. Здесь печатают приговоры.
И Сергей только что получил свой первый.
Спортсмен
или Мышцы вместо мозгов, кулаки вместо аргументов
Двор – первый университет советского человека.
В школе учили, что человек человеку – друг, товарищ и брат. Во дворе объясняли, как обстоят дела на самом деле. Школа давала знания – двор давал понимание. Разница между этими словами – как между картой и территорией: карта красивая, территория – минное поле.
Советский двор жил по своим законам, которые никто не записывал, но все знали. Слабых – обирают. Сильных – уважают. Хитрых – боятся. Справедливых – хоронят молодыми. Эти правила не менялись десятилетиями и не зависели от того, кто сидел в Кремле – Сталин, Хрущёв или Брежнев. Дворовая конституция была древнее советской власти и, судя по всему, должна была её пережить.
Двумя неделями раньше. До суда. До приговора. До того, как жизнь Сергея разделилась на «до» и «после».
Школьный двор в центре Свердловска – типовая советская школа номер пять. Серая коробка из силикатного кирпича, построенная по проекту, который тиражировался от Бреста до Владивостока. Архитектор, видимо, ненавидел детей – иначе объяснить эти казарменные пропорции невозможно. Выбитые стёкла на третьем этаже заколочены фанерой ещё с прошлого года. Никто не собирался вставлять новые – зачем, если через месяц снова выбьют? Стёкла в этом районе – расходный материал. Как и многое другое.
Вокруг – пятиэтажки, хрущёвки, бетонные соты для рабочих пчёл. Окна смотрели на двор пустыми глазницами. За ними люди варили борщи, ругались, мирились, рожали детей, которым предстояло повторить тот же маршрут: школа – армия – завод – пенсия – кладбище. Пять остановок. Билет в один конец.
Асфальт исчерчен детскими «классиками» и матерными надписями. Пионеры закрашивали маты белой краской, но буквы проступали снова – упрямо, неизбежно, как правда сквозь ложь. Правда всегда проступает. Вопрос времени.
У ворот стоял Сергей.
Спортивный костюм «Адидас» – польская подделка, прошедшая через десять рук и три границы. Три полоски местами отклеились, но издалека ещё можно произвести впечатление. Понты – главная валюта двора. Конвертируется в уважение. Главное – не подпускать близко, чтобы не разглядели швы. Швы – это правда. Правду во дворе лучше прятать.
Рядом курил Костян – друг детства, из тех, что достаются по географическому принципу. Жили в одном подъезде, ходили в одну школу, дрались в одних драках. Дружба по инерции – как ездят на старом велосипеде: неудобно, скрипит, но выбрасывать жалко. И нового не купишь. Дефицит.
– Серый, ты когда-нибудь жрал мороженое «Лакомка»? – Костян затянулся «Примой», дым горький, как похмелье. – Не то дерьмо из ларька, где молоко с привкусом алюминия. А настоящее, с хладокомбината. Которое для начальства.
– Жрал. И что?
Сергей не отрывал взгляд от школьных дверей. Ждал сестру. Единственное светлое, что осталось в этой серой жизни.
– Помнишь всю жизнь. Как первый раз с бабой. Только мороженое тает быстрее.
– Вон она…
Из школы вышла Таня. Семь лет. Косички с голубыми бантами – мать заплетала каждое утро, ритуал любви, единственный доступный. Школьная форма с белым передником, выглаженная до хруста. Последний бастион порядка в разваливающейся жизни.
Девочка ревела. Не плакала – ревела, как ревут дети, когда мир оказывается не таким, каким его рисовали в букваре. Слёзы размазаны по щекам, сопли пузырями. И главное – шапки не было. Той самой, синей, с помпоном. Которую мать вязала неделю из распущенного старого свитера. Свитер был отцовский. Шапка – была. Теперь нет.
Сергей почувствовал, как внутри поднимается что-то древнее. Не злость – ярость. Та самая, которая досталась от предков, дравшихся за место у костра. Цивилизация – тонкий слой краски на ржавом металле. Царапни – и под краской обнаружится то, что было всегда.
– Опять отобрали? – Костян всё понял. В их мире у слабых отбирали всё. Закон территории.
Сергей подошёл к сестре. Достал платок – чистый, мать учила: «У мужчины всегда должен быть чистый платок, даже если весь мир вокруг грязный». Особенно если грязный. Промокнул Тане лицо.
– Кто?
– Витька… – Таня давилась словами. – Сказал посмотреть шапочку… я дала… а он убежал… смеётся…
У турников – компания. Человек десять, четырнадцать-пятнадцать лет. Ещё не взрослые, уже не дети. Самый опасный возраст – когда адреналина много, а извилин мало. Курили ворованные папиросы, ржали тем особым смехом, каким смеются над чужой слабостью. На голове у главного – Танина шапка. Синяя. С помпоном. Натянута как корона. Корона из чужих слёз.
Витька. Сергей его знал – щуплый, прыщавый, из породы тех, кто компенсирует физическую немощь подлостью. Подлость – оружие слабых. Дешёвое и эффективное.
– Серый, не надо, – Костян понимал, что сейчас будет. – Их десять.
– Присмотри за малой.
Сергей пошёл к турникам. Шаг размеренный – не агрессия, но и не слабость. В уличной иерархии важно всё: как идёшь, как смотришь, как держишь руки. Язык тела – единственный язык, который понимают все.
Компания притихла. Почуяли чужого – не носом, чем-то более древним. Инстинкт, доставшийся от пещерных времён, когда ошибка в оценке незнакомца стоила жизни.
– Здорово, пацаны.
Тишина. Только сигаретный дым. Витька затянулся демонстративно медленно – показывал, что не боится. Врал. Боялся до дрожи в коленях. Но отступить перед своими – социальная смерть. А социальная смерть во дворе страшнее физической.
– У тебя моя вещь.
Простые слова. Но за ними – целая иерархия. Это не разговор о шапке. Это разговор о праве. О силе. О том, кто здесь определяет правила.
– Какая вещь? – Витька тянул время. Классика – надеяться, что противник передумает. Время – союзник труса.
– Шапка. Синяя. Сестры моей. Отдавай.
Сергей протянул руку. Ладонь вверх – последний шанс решить по-хорошему. Три секунды ожидания. В уличной драке три секунды – вечность.
Витька оглянулся на своих. Десять пар глаз. Ждали. Проверяли. Он был главным – пока. Главный – это тот, кто не отступает. Отступил – уже не главный. Уже никто.
И тут он совершил ошибку. Решил показать, что он альфа. Что не боится парня постарше в поддельном «Адидасе». Понты требуют жертв. Обычно – тех, кто понтуется.
– А может, она мне сама дала? За красивые глаза? – похабная ухмылка, голос громче, чем нужно, чтобы все слышали. – Твоя сестричка, может, уже знает, как мальчикам угождать?
Смешки за спиной. Кто-то хрюкнул.
Есть черта, которую нельзя переходить. Даже во дворе, где мораль – роскошь. Витька эту черту перешёл, переполз и наплевал на неё. Некоторые ошибки нельзя исправить. Можно только заплатить.
Сергей не помнил, как двинулся. Тело сработало раньше головы. Правая рука взметнулась – подзатыльник, со всей силы, от плеча, с разворотом корпуса.
Не кулаком – открытой ладонью. Это важно. Удар кулаком – конфликт равных. Подзатыльник – наказание. Отца сыну. Старшего младшему. Человека – тому, кто перестал им быть.
ШЛЁП.
Звук разнёсся по двору, как выстрел. Голова Витьки мотнулась, шапка слетела, сам он отлетел на полметра. Во рту – кровь, прикусил язык. В глазах – слёзы. Не от боли. От унижения. Боль проходит за минуты. Унижение остаётся навсегда.
Все замерли. Десять секунд тишины. Компания смотрела то на Витьку, то на Сергея. Выбирали сторону. Просчитывали расклады. Был королём – стал никем. Один подзатыльник. Одно мгновение.
Витька поднялся. Вытер кровь. Посмотрел на своих – искал поддержку. Не нашёл. Они уже отступили. На полшага, но отступили. Почуяли: вожак слаб. Вожак получил и не ответил. Значит – бывший вожак.
– Ты… ты труп… – голос дрожал. – Мой батя тебя…
– Шапку поднял и отдал. Быстро.
Не просьба. Приказ. И Витька – подчинился. Нагнулся, поднял, протянул. Руки тряслись. На глазах у всех. У своих пацанов, которые вчера ему в рот заглядывали. Сегодня – смотрят в сторону.
Сергей взял шапку. Отряхнул. Повернулся и пошёл. Спиной к десятерым. Это тоже послание: вы мне не угроза. Вы – фон. Декорация.
Таня бросилась навстречу, вцепилась в руку. Маленькая тёплая ладошка. Единственное тёплое в этом холодном мире.
– Серёжа…
– Держи. И больше никому не давай. Никому. Поняла?
Она кивнула. Натянула шапку. Помпон смешно болтался.
Костян стоял в стороне. Молчал. Он тоже всё понял: Серый выиграл бой. И проиграл войну. Витькин батя – начальник цеха на заводе. Номенклатура. С выходом на горком. А выход на горком – это приговор без суда. Суд будет потом. Для формальности.
Но некоторые вещи важнее будущего. Важнее безопасности. Важнее всего.
Шапка. Синяя. С помпоном. Связанная из старого отцовского свитера.
Последняя красивая вещь в их жизни.
И Сергей её вернул.
Яма
или Дно, с которого видно небо
Советское правосудие работало по принципу мясорубки: неважно, что засыпали на входе – на выходе получался фарш.
Качество сырья не имело значения. Виноват, не виноват, защищался, нападал – всё перемалывалось в однородную массу. Статистика требовала показателей, показатели требовали дел, дела требовали обвиняемых. Круг замыкался. Человек, попавший в эту мясорубку, мог рассчитывать только на одно: что ручка крутится медленно и он успеет попрощаться с близкими, прежде чем превратится в строчку отчёта.
Вечер того же дня.
Квартира в хрущёвке – типовой склеп на тридцать квадратов, где государство великодушно разрешило существовать семье из четырёх человек. Первый этаж – самый невезучий: запах подвальной сырости, окна на уровне глаз прохожих, вся музыка соседской жизни сверху. Потолки давят, стены сжимают, воздуха не хватает – и непонятно, то ли квартира маленькая, то ли жизнь.
Обои в цветочек – наследие оттепели, когда власть решила, что советский человек достоин не только серых стен. Розочки давно пожелтели, превратившись в гербарий несбывшихся надежд. Линолеум у порога протёрт до бетона – тысячи шагов людей, идущих по кругу.
На кухне – четыре квадратных метра, где двоим не разминуться – Сергей раскатывал тесто для пельменей. Скалка старая, деревянная, с потемневшими ручками. Мать вела занятия у вечерников: дополнительные часы, копейки, но копейки в этой экономике определяли, будет завтра хлеб или только пустой чай.
Таня лепила пельмени – криво, но старательно. В свои семь она ещё не знала, что старание здесь редко конвертируется в результат.
– Не так, – Сергей поправил её работу. Края расползались. – Крепче защипывай, а то развалится.
– Серёж, а почему тот мальчик такой злой?
Детский вопрос, на который нет детского ответа.
– Не злой. Просто глупый. А глупые часто злятся – им кажется, что виноваты все вокруг.
Звонок в дверь.
Не просто звонок – набат. Длинный, три коротких, снова длинный. В этом ритме было что-то от сигнала тревоги, передаваемого из поколения в поколение: так звонили, когда приходили с обыском, так звонили, когда приносили похоронку, так звонили, когда жизнь ломалась пополам.
Таня вздрогнула. Скалка упала.
– Я открою. Ты пельмени доделывай.
Он не знал ещё, что пельмени уже не важны. Что такие звонки делят жизнь на «до» и «после». И что «после» будет длиться очень долго.
На пороге – воплощение материнской ярости в пальто и платке. Мамаша Витьки. Лицо красное, глаза навыкате, запах перегара и праведного гнева. Советская мать, у которой посмели обидеть отпрыска – самое опасное существо в природе. Опаснее медведицы с медвежатами. Медведица хотя бы действует по инстинкту. Эта – по расчёту.
– ТЫ?! – палец как обвинительный приговор. – ТЫ МОЕГО РЕБЁНКА ПОКАЛЕЧИЛ?! ГДЕ РОДИТЕЛИ, УБЛЮДОК?!
Голос – не крик, а вой. Весь подъезд уже знал: у Сергея проблемы. Соседи повылезали из квартир – бесплатный театр, единственное развлечение в серых буднях. Бабка Нюра с четвёртого уже ковыляла вниз, предвкушая материал для сплетен на месяц вперёд.
– Здрасьте. Он жив. Родители на работе.
Спокойствие – единственное оружие против истерики. И Сергей был уверен: разберутся, выяснят. Он же защищал сестру. Это же очевидно.
– НЕ КАЛЕЧИЛ?! А ЭТО ЧТО?!
Она выволокла Витьку, как тряпичную куклу. На затылке – синяк. Большой, лиловый. Но не от подзатыльника – Сергей знал точно. Слишком обширный, слишком тёмный. Пацан сам себе добавил. Или попросил дружков. Классика: бьёшься головой о косяк и обвиняешь врага.
Витька стоял, опустив глаза. В них – стыд за мать, страх перед Сергеем, и главное – понимание, что обратной дороги нет. Он запустил машину, которая раздавит их обоих. Его – позором труса, спрятавшегося за мамкину юбку. Сергея – советским правосудием.
– МИЛИЦИЮ ВЫЗВАЛА! ПОСАДЯТ ТЕБЯ!
Участковый явился через десять минут – лейтенант Петелин, молодой, прыщавый, с красными ушами. Форма сидела как на вешалке. В глазах – усталость человека, который в двадцать пять уже понял: изменить ничего нельзя. Можно только оформлять бумаги.
– Гражданка, успокойтесь…
Но она не успокаивалась. Вцепилась в него, как утопающий в бревно.
– Товарищ лейтенант! Избиение! Травма! Статья!
Статья. Волшебное слово. Есть статья – есть преступник. Нет статьи – нет проблемы.
Лейтенант смотрел устало. Он всё понял: бытовуха, разборки малолеток. Но женщина со связями – иначе не орала бы так уверенно. А против связей он бессилен.
– Завтра в отделение. Все. С документами. Разберёмся.
Разберёмся. Сергей кивнул. Разберутся – и всё встанет на свои места. Он защищал сестру. Любой нормальный человек поймёт.
Процессия удалилась. Соседи расползлись по квартирам, унося свежую порцию сплетен.
Сергей закрыл дверь, привалился спиной. Ничего, разберутся. Есть свидетели – пацаны во дворе видели. Есть шапка. Есть факты. Факты не обманут.
Так в книжках написано.
Таня выглянула из кухни, вцепилась в его руку.
– Серёж, это была та самая яма? Как в книжке про Винни-Пуха?
Детская ассоциация, но точная до жути. Да, это была яма. Ловушка. Только выкопали её не для Слонопотама.