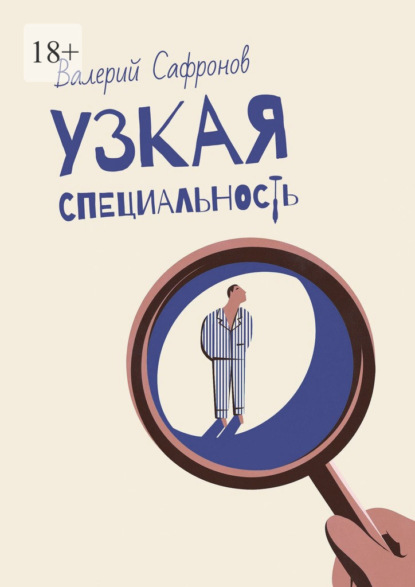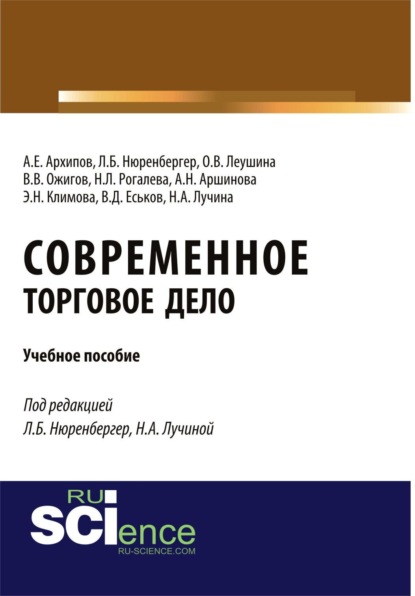- -
- 100%
- +
Многие из нас с четвертого курса работали. Женатые парни умудрялись вкалывать фельдшерами на целую ставку. И это на дневном обучении, то есть работая практически без выходных. Калюжин только учился. Вероятно, ему хватало стипендии, может, помогали родители. Выглядел он неуклюжим увальнем, постоянно думающим какую-то тяжелую думу или в перерывах от думы дремлющим. Однако по всем предметам успевал. В какой-то момент у меня вышла эпиграмма:
Калюжин думами нагружен,Все дремлет, дремлет, что-то ждет;Проснется скоро, как Бестужев,И супротив царя пойдет.Между тем супротив царя Калюжин все не шел, совершенно не касаясь политики и предпочитая разговаривать лишь на медицинские темы.
На пятом курсе зимой у нас была какая-то уж очень продолжительная сессия, 6 или 7 экзаменов, и для стипендии можно было получить пару троек. Прошло уже много лет, и сейчас трудно вспомнить, что это были за предметы. Но точно помню, что помимо госпитальных терапии-хирургии еще были судебная медицина, детские болезни, психиатрия, гинекология. В гинекологи стремились единицы. Студенты-парни больше интересовались урологией. А девушки – наоборот. Вероятно, сказывалось пуританское советское воспитание.
Наш однокурсник Сысоев говорил на каждом углу, что видит себя в будущей жизни только гинекологом. На это у него была веская причина, ведь его дедушка во время войны был главным гинекологом Первого Белорусского фронта.
Перед самой сессией все студенты, не получившие зачета по гинекологии, собрались в кабинете доцента Агамирзяна. Среди должников оказался и Сысоев, что выглядело странно: видит себя в будущей жизни только гинекологом, а имеет хвост.
Принимать зачет Агамирзяну помогал ассистент Паламарчук. Сысоев сел к Паламарчуку. Минут через пять раздались приглушенные пререкания, а потом гомерический хохот Паламарчука.
– Что случилось? – обеспокоился Агамирзян.
– Да вот… я попросил доктора назвать мне наружные половые органы…
– И что же он поведал? – усмехнулся Агамирзян.
– А вот что… – Паламарчук стал перечислять органы.
– Ну правильно, однако он назвал не все.
– Вот и я ему говорю, что не все. И знаете, что он еще добавил?
– И что же?
– Молочные железы.
– А еще знаменитого дедушки внук! – удивились мы.
Между тем Сысоев все-таки стал гинекологом, как говорится, назло рекордам и поперек пьедестала, но до главного не дотянул.
А вот с Калюжиным вышла незадача. Когда на первом занятии по судебной медицине все отправились в морг, он остался в гардеробе, так и просидев там весь цикл. Ведь по программе обучения каждый студент должен был сделать вскрытие, а Калюжин не то что вскрытие – даже и в судебно-медицинский зал войти не мог.
Так и отчислили с пятого курса, признав профнепригодным, и стала ясна причина его предыдущих отчислений-восстановлений. Руководители медицинской учебы все же не рубили с плеча, а давали человеку шанс. Причем до этого несколько раз. У меня нет однозначного ответа на этот вопрос, ведь прилежного студента можно, наверное, было впоследствии использовать на какой-нибудь теоретической кафедре. Биохимиком или генетиком. Да мало ли еще кем. Однако в дипломе-то написано: «Лечебное дело». А какое лечебное дело без навыка выполнить вскрытие?
Танец с саблями в голове
Гуманитарий Юлий Куксов был кандидатом наук и обладал уникальной способностью: в пьяном виде бредил на всех романских языках, включая диалекты. И порою вступал в диалог то с Данте Алигьери, то с Петраркой, то одновременно с Марселем Аленом и Пьером Сувестром – авторами, придумавшими Фантомаса. Как-то явился Александр Дюма-отец и спросил на ломаном русском языке:
– Откуда знаешь, куда девается изображение, когда напиваешься до изнеможения?
– Перемещается в лучшие измерения! – без запинки ответил Юлий.
– Неожиданная мысль! – похвалил его Дюма.
– Видите ли… – начал было по-французски Юлий.
– Ничего не вижу, – пожал плечами Дюма.
– А правду говорят, что вы – это не вы, а воскресший Пушкин?
– Чего-чего? – не понял Дюма.
– Ну, есть версия, что Пушкина вовсе даже и не застрелили на дуэли, а он уехал во Францию и стал Александром Дюма-отцом…
– И какой только чуши о себе не услышишь, – Дюма покрутил пальцем у виска, затем легонько постучал тростью по стенке. – А перегородки у вас хилые. Сразу видно, ремонт делали халтурщики!
– Однако не могли бы вы одолжить мне рублей пятьсот? – спросил Юлий.
– Трубы горят? – поинтересовался Дюма.
– В том-то и дело!
– Вот уж мне эта загадочная русская душа! – вздохнул Дюма, доставая бумажник. – У меня только старые франки…
– Сойдут и франки, тем более старые, загоню на галере один к десяти.
– Но разве можно столько пить?
– Нельзя, – согласился Юлий, покраснел от смущения и спрятал франки в 23-й том Большой советской энциклопедии.
Помимо писателя Дюма к Юлию приходили и другие не менее значительные люди. Как-то в изголовье своей постели он обнаружил и вовсе диковинного гостя с венцом на голове и одетого в тогу и сандалии. Судя по высокомерию манер, сразу было видно, что это высокопоставленный римлянин.
– Вы, случайно, не император? – охнул Юлий, вскакивая с постели. Римлянин кивнул и повелительным жестом разрешил ему оставаться в постели:
– Вы Юлий, я Октавиан, так что все нормально.
Однако продуктивного диалога не вышло, и, как гуманитарий ни пытался одолжить у Октавиана Августа хотя бы пару сестерций, ничего не получалось: император ни в долг, ни так денег не давал.
«Скряга!» – подумал Юлий и, когда Август исчез из его поля зрения, в отчаянии махнул рукой, мол, и скатертью дорога!
До поры до времени жена Куксова – Римма – боролась с пагубной привычкой мужа, насколько хватало сил. Поэтому, когда наступал критический момент, по газетному объявлению приглашала врача-нарколога. Врач из объявления ставил капельницу, на следующий день еще одну, постепенно возвращая Юлия в реальную жизнь. Но однажды после длительного запоя Юлий, вернувшись в комнату из уборной, сказал:
– Римма, выйди в прихожую, там стоит некормленый Росинант, надо бы дать ему овса, однако я никак не могу найти ясли…
Римма в тот момент лежала на диване и сквозь дрему читала роман Шолохова «Тихий Дон». В какой-то момент в ее голове тихий Дон переключился на Дон Кихота. И когда Юлий повторил про ясли, ничего не поняла, ведь их сын давно вырос. Ее вообще все это изрядно удивило, ведь Росинантом звали лошадь Дон Кихота. Тогда при чем тут тихий Дон? Но тут Римма увидала безумные глаза мужа, от страха лишилась дара речи и даже какое-то время заикалась, но потом все прошло.
– Ну-с, и кто же у нас Росинант? – спросил психиатр, когда Юлия доставили в больницу Скворцова-Степанова.
– Как это кто, как это кто?! – возмутился Юлий. – Конь! В прихожей неделю стоит голодный, и никому до этого дела нет!
– С крыльями? – уточнил психиатр.
– Кто? – не понял Юлий.
– Ну конь ваш этот… как его?..
– Росинант? Естественно, без крыльев! – усмехнулся Юлий. – Он ведь не Пегас!
– А вы тогда кто? – поинтересовался доктор. – Диск-жокей?
– Какой еще на… в… жо-жокей? – выругался Юлий, затем словно опомнился и скромно опустил глаза. – Я… тихий Дон Кихот.
В первый раз Юлия довольно быстро выписали из больницы, но через пару месяцев он принялся за старое, причем более усердно, чем раньше. Что же касается пьяного бреда, то в его речах появились новые идеи и оттенки. К примеру, теперь Юлий стал представляться древнегреческим философом Диогеном, залезшим в пивную бочку.
– Это вообще уже ни в какие ворота! – возмущался Дюма-отец, то и дело возникавший в пространствах его комнаты.
– Что вам не нравится? – артачился Юлий. – Лучше бы пожалели своих мушкетеров. А то Д'Артаньяну ядром в голову, а Портоса вообще камнями!
– Не ваше дело! – возмущался в свою очередь Дюма. – Вот станете классиком, тогда и придумывайте свои сюжеты.
Зато вместо водки в какой-то момент Юлий принялся пользовать настойку боярышника. Когда и Римма, и друзья, и Дюма-отец, и профессор Шарко напоминали ему о том, что польза от данного вещества сомнительна, а количество, им потребляемое, пагубно для здоровья, Юлий говорил:
– Ваше мнение для меня безразлично. Коль скоро препарат продается в аптеке, следовательно, имеет несомненную медицинскую пользу!
Когда ему пытались внушить, что ежедневное пьянство ведет к деградации личности, отвечал:
– Высшее философское образование – это высшее образование вообще, то есть применительно к любой сфере человеческой деятельности, так что я грамотнее вас по определению, поэтому не мешайте заниматься диалектикой!
Римма недоумевала:
– Господи! Ну какое у тебя может быть философское образование?! Тоже еще, понимаешь, Аристотель…
– Все должно быть по гамбургскому счету! – кричал Юлий.
– Фильм был такой, – вздыхала Римма.
– «Граф Монте-Кристо»? – оживлялся Юлий. – Это про меня. Однако в чьей трактовке?
– Нет, другой фильм, – Римма вздыхала в очередной раз. – Жизнь с идиотом!
– Не прикасайтесь ко мне! – кричал философ. – Я сегодня в бочке.
А потеря ее целостности, сами понимаете, может быть чревата внутривидовыми греко-римскими осложнениями!
Затем начиналась совсем уж полная чушь: Юлий проводил бруском для заточки ножей, как по стиральной доске, по батарее парового отопления и гнусавым голосом объявлял:
– Выступает народный артист Юлий Куксов, тр-р-р, безродный космополит и наследственный славянофил. Прелюдия называется: «Лунное затмение в городе солнца!» Музыка нечеловеческая, слова ненормативные. Ла-ла-ла… тр-р-р… фа-диез-минор!
Затем в его комнате долго солировал Челентано, причем по-русски: «Ты уехала на побережье, а я торчу один в душном городе. Но вдруг что это: гудок паровоза, стрекот аэроплана и я мчусь к тебе…» И уже по-итальянски: «Азурро! Иль померидже троп азурро лунго пер ме…»
Затем в течение трех суток не переставая пела Клавдия Шульженко: «Ваша записка в несколько строчек…», доводившая соседей до исступления.
– Баста! – кричал на весь двор Челентано.
– Баста! – хором отзывался весь двор.
И уж потом являлась мадемуазель Патрисия Кац огромных размеров, в костюме змеи и с папироской во рту. Потушив окурок о потолок, она пыталась укусить Юлия за ухо:
– Ну иди ко мне, красавчик, я тебя поцелую…
– С ума сошла?! – возмущался Юлий. – Римма же здесь!
– А мы втроем поцелуемся.
К 10—12 дню запой доходил до критической точки: Юлий в лице философа Диогена прекращал бредить, вероятно, из-за того, что у него начиналась неукротимая икота. И тогда Римма снова приглашала врача-нарколога из газетного объявления. Иногда, если требовала ситуация, капельницы ставили и на второй, и даже на третий день. Почему-то Римма была уверена, чем больше Юлию поставят капельниц, тем дольше он потом не будет употреблять боярышник. Между тем в этом совсем не были уверены ни Ги де Мопассан, ни Эмиль Золя, ни даже Фантомас.
– Я не могу видеть твою зеленую рожу, ты мне уже осточертел! – кричал Юлий, а Фантомас отвечал, что еще немного – и Юлий сойдет с ума. И тогда конь Росинант, жена Римма и вся жилплощадь достанутся ему.
– После цветов порока Леди Бельтам твоя Римма будет мне наградой!
Наконец запой прекращался. Однако каждый период трезвости продолжался едва ли более трех месяцев. За это время Юлий умудрялся появиться в какой-нибудь популярной телевизионной передаче – на телевидении его знали и приглашали поговорить о театре. Иногда успевал сняться в кино, чаще благодаря внешним данным играл нервных интеллигентов: адвокатов, искусствоведов, врачей. Писал короткие стихи, в основном лирические:
В кромешной тьме шумели камыши,И мыслей донимала кутерьма;Запой – тяжелая атлетика души,А также танец с саблями ума.Но, получив за кино гонорар, устремлялся в очередное пике.
И брутальная мадемуазель Патрисия Кац, и Дюма-отец, и даже бородатые Карл Маркс и Фридрих Энгельс, являвшиеся всегда неразделимым дуэтом, словно сиамские близнецы, умоляли Юлия прекратить пение. Но куда там!
– Могу спеть из репертуара Ива Монтана, не желаете Монтана – сумею из Элвиса Пресли!
И уже потом, в период интенсивного лечения капельницами, всегда звонила мама философа и актера, врач-эпидемиолог на пенсии.
– Ну что, как его состояние? Дюма-отец больше не приходил? А Челентано и Фантомаса тоже не было? – спрашивала мама Римму.
– Сегодня состояние вполне удовлетворительное. Доктор сказал, что обязательно приедет и завтра. Однако сегодня Юлию уже лучше.
Со стороны могло показаться, что речь ведется о тяжелом больном, у которого вскоре начнется ремиссия.
– Что значит «лучше»?! – негодовала бывший инфекционист-эпидемиолог. – Вы что, измеряли ему артериальное давление?! Или, может быть, делали электрокардиограмму?!
– А то и значит, что, по крайней мере, помалкивает и не несет всякий бред! И сейчас уже дремлет, а до этого несколько раз был в уборной… – оправдывалась Римма.
– У Юлия понос?! Тогда надо срочно сдать анализ кала на дизэнтЭрию!
– Мама, вы в своем уме? Я вот сейчас все брошу и понесусь в лабораторию с его… дизэнтЭрией! Да и вообще, он ходил только по малой нужде. Журчало там что-то.
– Так вроде или действительно, как вы изволили выразиться, «ходил по малой нужде»?
– Да перестаньте вы, мама, в самом-то деле, все преувеличивать и придираться к словам! – Римма в этот момент уже рыдала.
– Да… Юлия давно пора серьезно лечить… – продолжала мама-эпидемиолог. – Я слышала, что в центре «Бехтерев» то ли в твердое небо, то ли в мягкое место вставляют какую-то жемчужную спираль, которая окончательно отбивает все желания…
– Да у Юлия давно уж отбиты все желания! Еще с позапрошлого месяца, когда последний раз побывал в вытрезвителе.
– Надо срочно вставить ему эту жемчужную спираль. Причем не медля ни секунды!
– Ну конечно… – отвечала Римма. – Только разменяю последние десять тысяч зеленых рублей и вставлю. И жемчужную спираль ему в области пупка, и бриллиантовое ожерелье в голову!
– У Юлия началось ожирение?! Я так и знала, ведь вы же совершенно не соблюдаете диету.
– Да не ожирение, а ожерелье с этой… с комнатной антенной, чтобы сигналы из космоса принимать!
– Все правильно, не сегодня-завтра начнется магнитная буря.
– Ну конечно, роман есть такой – «Рожденные магнитною бурей»! – злорадствовала невестка. – Как раз про Юлия! А мне тогда только и остается, что пойти на панель! И увидеть уже, наконец, небо в алмазах! И упасть уже окончательно в ваших глазах на этой самой панели!
– На улице гололед? Но мне показалось, что идет дождь, а я собралась идти в амбулаторию.
– О господи…
В трубке какое-то время раздавалось сердитое сопение, затем шорох, потом треск, сопровождающийся непонятным металлическим лязганьем, и Римме казалось, что свекровь перезаряжает старое охотничье ружье и приспосабливает к ружью оптический прицел. Но через пару минут все начиналось снова:
– Имейте в виду: как только Юлий проснется, ему необходимо срочно сдать кровь на австралийский антиген, потому что вокруг сплошной гепатит, свиной грипп, коронавирус и начинающаяся лихорадка Эбола! Да! Выходя на улицу, он должен обязательно надевать шарф и шапку или в крайнем случае берет. И еще: как только выйдет из запоя, пусть тотчас же садится за написание докторской диссертации!!!
Польза и вред моржевания
Однажды врача Вову Ивашенцева разбил радикулит. Но ведь именно так и происходит: словно разбивается у тебя что-то внутри спины. Когда радикулит свалил в очередной раз, Вова решил, что уже все – финиш, без операции не обойтись. Ежу ведь понятно, что это межпозвоночная грыжа. Но кое-как из радикулита он тогда выкарабкался. И тогда дал слово, что радикально переменит отношение к жизни, а именно – станет закаляться. На такой шаг его сподобил человек по фамилии Дробный. Они работали в одной больнице, только Вова – ординатором неврологического отделения, а Дробный – ортопедом-стоматологом, и часто встречались по утрам в автобусе по пути на работу.
Как-то раз в конце ноября в автобус вошел Дробный с мокрой головой.
– В бассейн ходишь? – поинтересовался Вова.
– Да нет, я с Петропавловки… купаюсь… – шмыгнул носом Дробный.
В тот год зима была не просто лютой. Она была страшной. Весь январь температура не поднималась выше минус тридцати, а местами достигала 33—35. Стоять на автобусной остановке было невозможно. Реально было только передвигаться короткими перебежками. Возле Крестовского моста, около сточной трубы, на льду сидели утки. Их количество уменьшалось с каждым днем. К концу января уток в городе не осталось. А Дробный продолжал купаться в Неве.
– Обязательно продержусь, – говорил он. – А потом – не знаю, буду ли моржевать вообще. Слишком уж непростое это дело.
И продержался. Гвозди бы делать из этих людей…
В середине февраля той зимы Вова опять разболелся. Сначала стреляло только в поясницу, а потом стало отдавать в правую ногу. Ковылял, ковылял, не помогало ничего. На какое-то время облегчение наступало после новокаиновой блокады, которую он просил сделать кого-нибудь из приятелей-коллег, а потом все снова. В конце концов справился Вова тогда как-то со своим недугом. Видимо, наступило лето, а с ним пришло постепенное облегчение.
Но реализовать задуманное (в смысле – начать закаливание) у него долго не получалось, не было времени.
Лишь через год, уже поступив в клиническую ординатуру, Вова стал бегать на Петропавловку. Начал издалека, проплавав все лето в речке на даче, где отдыхали жена с детьми.
И вот в конце августа, напевая песенку про моржей: «В январе зима всерьез, отморозить можно нос, только мы идем купаться на Неву в любой мороз!», Вова бултыхнулся в воду прямо с моржового угла.
Удивила свежая холодная вода и большое количество резвых старичков, купающихся у Петропавловки. Время от времени какая-нибудь сухонькая бабушка сваливалась в невские волны прямо с гранитного спуска, а потом просила: «Сыночки, дайте руку, а то мне уже и не вылезти совсем без вашей помощи…»
В то утро стояла ясная погода, а сильный юго-западный ветер нес с залива вместе с нагонной балтийской волной свежую воду. Короче говоря, с той поры Вова стал регулярно плавать, худо-бедно начиная ощущать себя причастным к общему благородному делу. Иногда по утрам, другой раз после работы прибегал к моржовому углу и, сделав короткую разминку, нырял с разбегу в воду. Иммунитет, нервная система и сосуды понемногу привыкли к холодной воде, и молодой организм стал отвечать какой-то внутренней легкостью и мышечной радостью. Конечно, среди моржей были и такие, по кому явно скучала психиатрическая больница. Приходили, к примеру, два брата-акробата. Они были словно братья-каратисты из фильма «Гений дзюдо». Один длинный и вялый, с каким-то прутиком на плече, а другой – поменьше, но активнее, маниакальнее, что ли. Вялый приходил к моржовому углу всегда с маской, трубкой и ластами. Это в конце сентября, когда по утрам в нашем городе, как правило, заморозки. А Вялый брал с собою лишь ласты, но зато плавал в этих ластах наискосок от Кронверки (вроде бы против течения) до самого Троицкого моста. И, доплыв, веселил из воды прохожих, идущих по мосту. Еще был деятель, похожий на штангиста-иллюзиониста Валентина Дикуля. Тот всякий раз прибегал размеренной трусцою, держа на плечах рюкзачок килограммов 30, из которого неторопливо извлекались гантельки, гирьки, и прочие металлические инструменты для накачивания мышц. В общем и целом было на кого посмотреть. Но ведь надо было с кем-то еще и общаться.
В конце концов Вова познакомился с двумя вроде бы нормальными старожилами местного общества, которые кивали при встрече на моржовом углу.
– Я тут двадцать лет купаюсь – и ничего… – каждый раз говорил инженер из института прикладной химии. Временами меня смущало качество невской воды. Когда не было нагонной волны, от нее исходил легкий керосиновый запашок.
– Формальдегидики! – радовался инженер-химик, входя в воду. – Не могу без формальдегидиков!
Вторым новым знакомым оказался тромбонист из консерватории.
– И чем только ни лечился, и какими только средствами ни пренебрегал – ничего не помогало! – жаловался тромбонист, лежа на спине и покачиваясь на волнах, раньше он страдал фурункулезом. – А помогает единственное средство – наша невская водичка!
– И еще этиловый спирт в концентрации 40 процентов! – хмыкал инженер-химик, отставляя мизинец и выпрямляя большой палец правой руки.
– А формальдегидики? – спрашивал Вова.
– По всем специальным химическим вопросам обращаться туда… – и прикладной инженер показывал в сторону растирающегося махровым полотенцем тромбониста.
Иногда они втроем, если купание выходило на вторую половину дня, выпивали после невских ванн в рюмочной возле метро «Горьковская». Порою, если дело выходило за пределы обычной пропорции, начинали болтать каждый о своем. Прикладной химик рассуждал о болезнях нервной системы и функциональной асимметрии мозга, упоминая работы американского нейрофизиолога Роджера Спери. Тромбонист плел про изотопы водорода, намекая на то, что все мы давно уже подвержены воздействию тяжелой воды.
– Всюду! Всюду окись водорода в состоянии сухом! – многозначительно понижая голос, декламировал он на всю рюмочную.
– Ну, во-первых, не окись водорода, а двуокись… – поглядывая в сторону прикладного химика, поправлял его Вова.
– Да называйте как хотите, только по голове не бейте! – отмахивался инженер. А Вова читал им стихи Блока, при этом нередко вместо Блока цитируя то Гумилева, то Ахматову.
В начале ноября подул сильный северо-западный ветер, который моряки-балтийцы называют «подсеверок». И тут же заметелило мокрым снегом, и наступила сырая стужа. Так получилось, что Вова не был на Петропавловке почти неделю. Носился с дежурства на дежурство, да еще где-то тараканов успевал травить по совместительству. Выходить же из температурного режима было довольно опасно для здоровья. А тут еще эта мокрая метель.
Однажды прибежал к моржовому углу, а приятелей почти и след простыл, лишь две небольшие лужицы возле крепостной стены, на которую обычно вешалась одежда. А может, вовсе и не купались они в этот день. Мало ли «в Бразилии педров», в смысле – в Ленинграде моржей.
Сделав короткую интенсивную разминку, он шагнул в воду Кронверки и встал на небольшой камень.
«Кой леший занес меня на эту голгофу?..» – подумалось, и вдруг из-за моржового угла вышла толпа каких-то южных интуристов, закутанных, словно французы при отступлении из Москвы. Они увидели меня и обмерли. Нет, это не был восторг посетителей цирка, когда, перед тем как крикнуть акробату: «Алле!», все зрители в ожидании замирают. В глазах иностранцев был ужас. Они остановились толпою и стали смотреть на Вову, как смотрят на сумасшедшего, лезущего в водоем с крокодилами. А ему теперь уже ничего не оставалось, как только нырнуть с камушка и, вынырнув, пройтись бодрым, но неспешным кролем, а затем лечь на спину, как это делал тромбонист, и, покачиваясь на волнах, наблюдать за произведенным впечатлением. А иностранцы стали аплодировать, причем громко и долго.
«Дэньги давай!» – хотелось крикнуть, но постеснялся. А они стоят и не уходят. Вот ведь гады! Ему же вылезать пора, а они шоу себе здесь устроили. Делать нечего, прошелся еще раз легким брассом и опять лег на спину. Затем в третий раз. Не уходят. А в холодной воде все же лучше иногда стоять, чем плыть. Наконец, кто-то из них сообразил, кажется, это был их гид, что пора двигать дальше, иначе русский самоубийца вконец здесь окочурится или вмерзнет в гранит набережной. Тем не менее Вова все же простудился в тот день, поскольку пробыл в воде больше, чем следовало, и простудился. Правда, слегка. А может, просто в метро кто-нибудь чихнул, вот и возник этот насморк.
Позже Вова несколько раз возвращался к своему увлечению, а когда переехал в приморский район, то стал бегать в Озерки. В один из дней начала октября произошло следующее: после купания он переодевался и вдруг резко прострелило в пояснице. Еле оделся и с трудом доковылял до дома. Когда на следующее утро, превозмогая боль, стал собираться на озеро, жена возмутилась: «С ума сошел? С таким радикулитом? Так и до инвалидной коляски недалеко!»
Но Вова, хромая, все-таки пошел. Будь что будет. Разделся и не раздумывая нырнул. Когда обсыхал на ветру и растирался полотенцем, обратил внимание, что значительно увеличился объем движений в пояснице. А на обратном пути домой боли и вовсе прошли.
Как-то во время ровной зимы купался и в декабре, пробовал и в конце марта. Но не выдерживал. Радикулит не то чтобы совсем уж прошел. Стрелял время от времени, куда ему деваться? Но зато быстро проходил и без всяких таблеток.
От моржевания имеется несомненная польза, поскольку укрепляется иммунитет. Однако некоторые исследователи считают, что из-за постоянной выработки адреналина на моржевание формируется зависимость. И еще кто-то убежден, что от холодной воды может возникнуть ожирение сердца и облитерирующий атеросклероз артерий нижних конечностей. Вопрос, на мой взгляд, риторический.