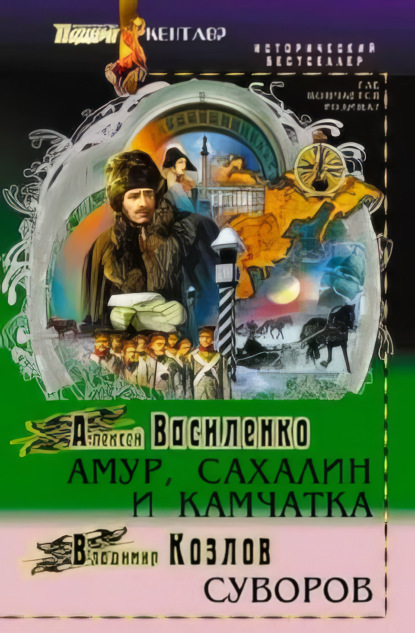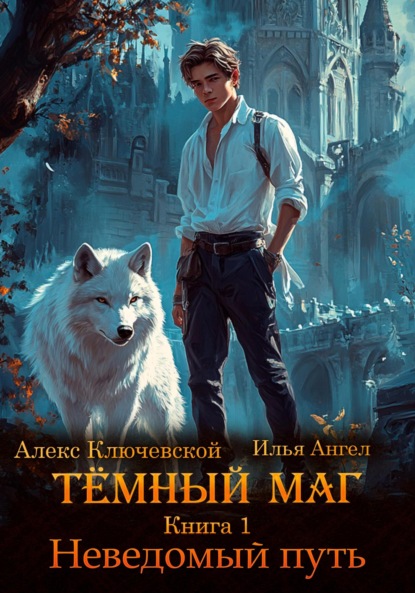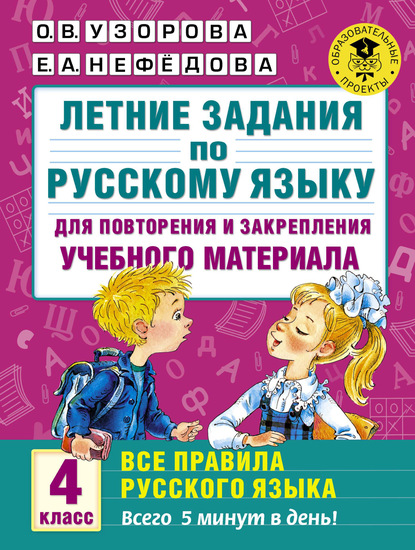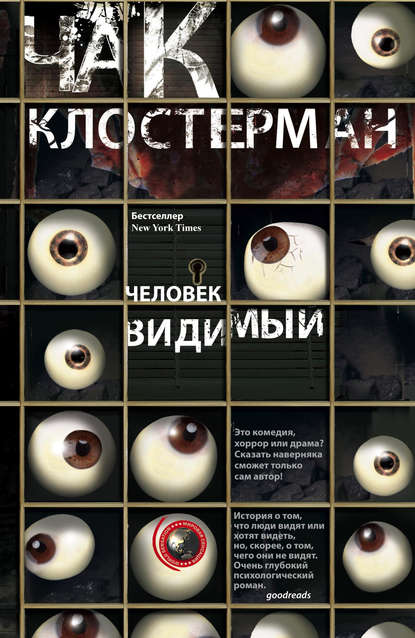- -
- 100%
- +
Загоруйко научил его этому приёму, перед проведением которого обманно надо упасть, будто споткнувшись, а когда соперник обязательно бросится тебя добивать, нанести ему из заранее приготовленного положения, снизу, сабельный улар в лицо, после чего противник будет ещё жив, но полностью беспомощен. И теперь только в твоей воле будет: оставить его в живых или нет… Вот такая секим-башка…
Что ж, так и будем делать. Но это позже. Приём ещё подготовить надо. А пока…
Муравьёв не стал повторяться. Со стороны это выглядело как белый флаг над осаждённой крепостью, но ему было не до того, как он и его речь выглядят со стороны. Он знал, что открытых союзников у него здесь нет, потому и строил своё слово как проповедь, с неистовым желанием привести слушателей к своей вере. Он говорил об огромных пространствах Сибири, о том, что возможности её пока используются ничтожным образом. Казалось бы, – бери эти богатства и торгуй ими или обращай их на пользу России. Ан нет! Придуманные давным-давно пороги и запреты, обветшавшие договоры сводили практически всю торговлю Сибири с востоком и югом только к одной точке – Кяхте, где всё, конечно, было сделано как надо, работала таможня и все необходимые для обмена товарами и торговли заведения. Но стоило отъехать на десяток вёрст, и далеко-далеко, к океану, шли горы, реки и пространства, никем не охраняемые, никому ни в чём не препятствующие. И бесконечным потоком текут по ним караваны с пушниной, текстилем, золотом, другими металлами. И всё это – мимо казны, в чьи-то карманы. Пока эта граница не будет укреплена, Сибирь принадлежит России только теоретически. Но ведь Сибирь – это не только южное направление. Главное – на востоке! Там – будущее России, выход ко всем океанам земли, ко всем странам света. А до сих пор империя не имеет там своего флота, потому что нельзя считать флотом несколько устаревших кораблей, да ещё при отсутствии оборудованных портов и даже просто удобных гаваней. Именно поэтому любая активность в тех краях – во благо России, именно поэтому всячески поощрять нужно первопроходцев, а не одёргивать их, не наказывать за то, за что принято благодарить…
…Нессельроде не слушал Муравьёва. Эти песни он знал наизусть, как бесконечно повторявшаяся Катоном Старшим фраза о разрушении Карфагена: ceterum censeo Carthaginem esse delindam… Ещё только вернувшись из своего путешествия на Камчатку, генерал-губернатор представил доклад о положении на востоке страны, в котором писал:
«Ясно, что всё будущее благоденствие Восточной Сибири заключается в верном и удобном сообщении с Восточным океаном… И вот в последние годы, а особенно в прошлом, возникло небезосновательное предположение, что англичане займут устье Амура… Каких тогда потребуется сил и средств от правительства, чтобы Восточная Сибирь не сделалась английскою, когда в устье Амура встанет английская крепость и английские пароходы пойдут по Амуру до Нерчинска и даже до Читы. Что без устья Амура англичане не довершат своего предприятия на Китай, – это естественно; что восточная оконечность Сибири в последние годы занимает англичан, – это несомненно. Если бы вместо английской крепости стала на устье Амура русская крепость, равно как и в Петропавловском порте в Камчатке, и между ними ходила флотилия… то этими небольшими средствами на вечные времена было бы обеспечено для России владение Сибирью и всеми неисчерпаемыми её богатствами…».
В другом докладе он продолжал долбить в одну точку:
«Что для вящего и полного обладания торговлей в Китае англичанам нужно устье Амура и плавание по этой реке, – это неоспоримо; если бы Амур не была единственная река, текущая из Сибири в Восточный океан, то мы могли бы ещё к предприятиям их быть снисходительны… Кто будет владеть устьями Амура, тот будет владеть и Сибирью, по крайней мере до Байкала, и владеть прочно… Со всей вероятностью можно сказать, что лишь только мы оставим Амур, то и англичане или американцы немедленно завладеют им и уже не будут так вежливы с соседями…».
…Нет, этот выскочка – противник серьёзный. Покончить с Муравьёвым раз и навсегда было невозможно, поскольку из нескольких предлагавшихся кандидатур избран он был самим императором. Свалить его можно, конечно, но прежде нужно срубить опору для его устремлений на восток, где ничто не должно помешать великой Британии выполнить поставленную ею мировую задачу…
…Когда Муравьёв умолк, Нессельроде даже не стал его спрашивать о наказании Невельскому. Во-первых, генерал-губернатор был всего лишь приглашённым лицом, а не членом комитета, а во-вторых, результат опроса был явно не в пользу капитана, ставшего по ходу обсуждения не просто нарушителем дисциплины, а человеком, подрывающим государственные устои. Именно поэтому жестокий приговор был предопределён. Нессельроде, упершись взглядом в Муравьёва (как бы говоря ему: смотри, и тебя это может ожидать), с удовольствием инквизитора произносил:
– Николаевский пост нужно будет немедленно убрать, чтобы не осталось там даже следов русского присутствия. Что же касается Невельского, то его за неслыханную дерзость мы предложили разжаловать… (здесь он сделал театральную паузу)… в матросы! И лишить всех прав состояния, чинов и орденов. Как государственного преступника!
Ошеломлённые Меншиков, Перовский и Муравьёв молчали.
Все они, каждый на свой лад, переводили суть услышанного. Им ещё раз напомнили: не касайтесь востока, чтобы не потерять западных, хотя и таких ненадёжных, союзников! На востоке – именно их интересы, не суйтесь!
Негласная немецкая партия, в которой так много было русских прихлебал, одержала победу. То есть, она обязана была одержать победу, потому что если признать первый шаг, сделанный Невельским, необходимым, то нет никакого сомнения в том, что за этим первым шагом будут сделаны другие. Какие? Угадать трудно. Да и возможно ли? Зачем гадать? Лучше сразу сделать то, что известно и нам, – секим-башка!
Глава 9
Невельской в те дни никого не желал видеть. Слухи по Петербургу разносились мгновенно, и хотя многие уже знали о предстоящем разжаловании капитана, о грозе, которая собралась над его головой, весть о заседании специального комитета бурно обсуждалась. Одни злорадствовали, другие уповали на милость императора, который должен был утвердить решение. Словом, мнения были самые разные. И очень мало было людей, которые сказали бы: ты, капитан, прав в своих исканиях и подвигах. Людей, которые почувствовали бы, что помилование (если оно, конечно, будет) оскорбительно. Оно означало бы наличие действительной вины, а вот именно это Невельской не хотел на себя принимать. И ещё меньше было людей, которые пренебрегли бы общественным смутным бурлением и просто нанесли бы визит, не озираясь по сторонам в испуге: не заметил ли кто. Поэтому, когда постоянный спутник капитана верный слуга Евлампий доложил о госте, Невельской не просто обрадовался старому другу-однокашнику. Он был счастлив ещё и потому, что хоть кто-то нарушил его затворничество.
А пришёл Алексей Бутаков. Не просто товарищ, но и выходец всё из того же костромского края, земляк, приехавший сейчас в столицу из приаральской пустыни. Там он уже два года вёл работу, очень похожую на ту, которую вёл на окраине России Невельской: уничтожал на карте империи огромное белое пятно, описывая берега совершенно неизученного Аральского то ли моря, то ли озера.
Встреча получилась и трогательно-радостной, и грустной одновременно. Не виделись они уже давно. Бутаков как попал за десять лет до того в кругосветку, как увлёкся гидрографией и научными исследованиями, так и пропал для друзей – всё путешествовал по малоизвестным местам. И вот теперь в разных концах империи они занимались, по сути дела, одним и тем же: приращивали к России новые земли. Так что разговаривать было о чём, не считая воспоминаний об учёбе.
С удивлением они обнаружили, что и обстоятельства служебные у них тоже сходны. Алексей Бутаков тоже пошёл против воли императора, тоже заслужил монаршую немилость. Было это ещё тогда, когда в Оренбурге он готовился к экспедиции. Как было положено, нужен был художник, который с натуры делал бы зарисовки, а после этого, обработав их, представил бы наглядные образы и берегов с заливами, и островков, и растительности. Учёным были нужны и документальные изображения местных жителей, детали их костюмов, быта. Но художников, которые добровольно согласились бы на пытку пустыней в течение длительного времени, всё не находилось.
И тут давний знакомый Бутакова, оренбургский чиновник Михаил Лазаревский сказал Алексею Ивановичу, что неподалёку служит ссыльный солдат – из крепостных, но выкупленный несколькими состоятельными людьми за его художественный и поэтический дар. Он оказался замешан в противогосударственных делах не очень серьёзного толка, вошёл в какой-то кружок, но несмотря на то, что все его сообщники – молодые дворяне – были или прощены или получили минимальное наказание, его, бывшего крепостного, сослали в солдаты на двадцать пять лет, практически на всю жизнь. Более того, лично император добавил к этому, пожалуй, самое страшное и жестокое: полный запрет на написание чего бы то ни было и запрет на занятия рисованием. Вот этого-то человека и забрал в экспедицию Алексей Бутаков.
– Два года он не только работал, то есть занимался, практически, запрещённой деятельностью – рисовал и… да, да, писал стихи, а мы усердно «не замечали» этого. Впрочем, он и ещё один ссыльный – геолог Вернер и жили вместе с офицерами, в каюте построенной нами паровой шхуны «Константин»…
– Как – построенной? В пустыне?
– А ты как думал? Каждую деталь, поступавшую из Швеции, возили на верблюдах! А потом и ещё одно судно построили! Назвали в честь Перовского.
– Ну и что с этим поэтом-художником стало потом? По истечении двух лет?
Бутаков помрачнел:
– Ты знаешь, я сам об этом думаю. Было ли благом то, что мы дали ему два года передышки, вернули в нормальное человеческое состояние? Ведь после того, как мы завершили работы и свернули экспедицию, его не просто оставили тянуть солдатскую лямку, а отправили в самое гиблое место, в пустыню ещё страшнее, в неимоверные безводье и жару. Место это называется пост Новопетровский на полуострове Мангышлак, что вдаётся в Каспийское море… Я молю Бога, чтобы дал ему возможность выжить, перенести эту муку. И тогда миру явится новый поэт и художник…
– Как его звали?
– Почему – «звали»? Зовут. Шевченко его фамилия. Тарас Григорьевич. Запомни. Может быть, Бог даст, – ещё услышишь о нём…
Они сидели тихо, беседа текла и текла, проникая в потаённые уголки души, прихотливо следуя за течением мыслей. В какое-то мгновение Невельской догадался о причине этого визита, но тщательно скрываемое сочувствие однокашника, хоть и могло быть поводом для обиды, таковым не стало. Противу чаяния они становились всё ближе и понятнее друг другу. Невельской уже смог говорить даже о своём предполагаемом будущем:
– Понимаешь, Лёша, я матросского житья не боюсь. Всё мне хорошо знакомо на любой ступеньке. Да к тому же – голова-то остаётся на плечах, займётся главным своим занятием вплотную – думать будет, думать!..
– А ты думаешь, что у Шевченко голова хуже?
– Не сравнивай. Меня каждый второй-третий офицер на флоте знает, служба полегче будет, будут какие-то возможности как-то проявить себя.
– Если говорить о том, что тебя ждёт, то я не без оснований полагаю, что ты проживёшь и без привилегий, и без чинов. Но не кажется ли, что от тебя, как от чумного, отстранятся сразу те, кто хорошо знал и Генашу, и капитана Невельского, и даже те, кто считал за честь быть с тобой знакомым? А ведь такое испытание человеческой подлостью не всякий может выдержать.
– Нет, ты не прав. Мир не без добрых людей Ты ведь помогал этому… Тарасу!
– И что? Много ли таких помогальщиков было? На всю Россию десятка два. И всё, Гена! И когда сравнишь эту горстку людей добрых сердцем с числом людей, с которыми поэт общался… Тебя ведь тоже подобное может ждать. А ведь ты ещё неженат. Представь на мгновение, если бы семья от тебя отвернулась? Примеров таких – сколько угодно!
– Да что ты всё обо мне! Я об этом и думать не хочу. Ты с другой стороны посмотри. Вся эта история со мной как ударит по матушке моей? Как ей-то пережить? Или про матросов с «Байкала» подумай. Их-то запорют ни за что ни про что! А ведь они у меня не знали всего этого, я же лучших матросов отбирал с «Авроры», тех, с кем по морям ходить довелось достаточно… Я уж не говорю о товарищах моих по трудам морским. Ведь и им, годами ждавшим нового чина, грозит как минимум понижение, если не разжалование! У нас ведь память на такие дела очень крута. Что-то никого из декабристов до сих пор, около четверти века прошло, не помиловали. Нет, им про карьеру после подобных переделок и думать нечего! Вот о чём душа болит, что меня мучает…
А про то, что я неженат, я тебе простую историю расскажу.
Когда после кругосветки Кронштадт-Петропавловск и после открытия Татарского пролива и Амурского фарватера в устье, после бешеной радости от этого открытия я чувствовал себя летящим над океаном, над всей планетой, Ника реяла у меня за плечами, мне всё казалось по силам, я мог отважиться на что угодно, я был уверен в благосклонности ко мне Фортуны! По договорённости с Муравьёвым я приехал в Иркутск: нужно было закончить отчёты и карты для рассмотрения их в Петербурге. Жил я тогда в доме генерал-губернатора, а поскольку он очень гордился нашим походом, то и меня, хотел я или не хотел, представлял повсюду как отважного моряка, совершившего открытие мирового масштаба. Поэтому приходилось принимать участие во всех балах и праздниках. Николай Николаевич тогда почему-то был очень озабочен моей холостой жизнью, как бы невзначай знакомил меня с родителями девиц на выданье. Именно он и представил меня двум сёстрам. Обе – красавицы! Поначалу, правда, не зацепило меня. А позже в одну из них я… влюбился! Ты же знаешь, я всегда сторонился женщин, они всегда казались мне каким-то другим миром, другой планетой – не враждебной, не инородной, а просто другой. Да ещё эта скованность, неловкость в общении, заикание моё, чёрт бы его побрал! Ну, не считал я себя никогда существом, пригодным для семейной жизни!
Так и дожил анахоретом до тридцати пяти лет. А ты знаешь, возраст этот – особенный. Если кто-то до него не любил, то это рубеж, после которого только два пути: или навсегда остаться одиноким или влюбиться. И тоже навсегда. Вот это несчастье со мной и произошло…
– Почему несчастье? Наоборот! Счастье величайшее!
– Э-э, нет, брат. Так могло бы быть, но так не было. Поначалу всё шло прекрасно: я чувствовал, что не безразличен ей. А это для меня был очень важный момент. Дело в том, что она на семнадцать лет моложе меня. Только-только после окончания института благородных девиц они с сестрой приехали в Иркутск, вышли в свет. И естественно – вокруг стали виться кавалеры: родовитые, молодые и успешные. А Екатерина Ивановна, конечно же, со всем восторгом, присущим молодости (восемнадцать лет!), буквально купалась во всех этих комплиментах, приглашениях на танец, взглядах и натужном остроумии кавалеров всех мастей. И тут появляется какой-то мрачноватый и угрюмый капитан, о котором все говорят, смотрит на неё, не отрываясь, и независимо от себя вдруг включается в этот хоровод, к которому он не привык, в котором чувствует себя чужим.
Зато рассказы его можно слушать, не отрываясь: новые земли, дальние страны и берега, незнакомые обычаи и имена… Какой простор для воображения романтической натуры! Не думаю, чтобы я понравился ей сразу, но постепенно мы всё лучше узнавали друг друга и я начал чувствовать её симпатию…
Но ты знаешь – жизнь наша от нас не зависит, а если и зависит, то в очень малой степени. Пришла пора уезжать с документами.
Муравьёв что-то чувствовал или знал заранее, но в Петербурге я получил выволочку… ну, ты слышал, наверно. Но всё утряслось. Император велел перепроверить мои данные, наказывать за самочинность не стал. А чуть позже оказалось, что я всё-таки прав… В общем, какое-то время было не до романтических грёз.
Зато через некоторое время началось… Ты знаешь, о радостях любви во все времена пишут и рассказывают, красочно воспевают их, при этом забывая рассказать о мучениях любви, о неизбежно сопутствующих ей страданиях. Я не находил себе места, я всё время хотел быть рядом с ней, мучился, представляя возле неё какие-то силуэты, воображая какие-то слова, сказанные не мне… Это был настоящий ад любви, который, будь я помоложе, был бы, вероятно, более бурным, но и легче преходящим. Но мне тридцать пять!
И всё же наступил момент, когда я отчётливо почувствовал, что я получу согласие, когда сделаю предложение и попрошу её руки у опекунов сестёр, уважаемых в Иркутске людей. Их дядя – гражданский губернатор Иркутска. Но… Нужно было уезжать, что-то помешало, – скорей всего моя стеснительность, и решительный разговор так и не состоялся. Были письма, где всё отчётливей и ярче разгорался огонь в душе Екатерины Ивановны, где я получал надежду… нет, уверенность, что любовь моя не отвергнута. Месяцы разлуки…
А затем случилась катастрофа. Недавно проездом в Петербург был я в Иркутске. Я пытался увидеть Катю, но опекунша буквально прятала её от меня, хотя тогда ещё о разжаловании и речи не было, а когда я вышел на прямой разговор с ней и объявил, что я прошу руки Екатерины Ивановны, то получил решительный отказ. Мне было сказано, чтобы я не питал никаких надежд, поскольку Катя любит какого-то Пехтеря (я как-то видел его: молодой, остроумный хлыщ). Даже великодушное посредничество супруги Муравьёва не помогло: я стал прокажённым, общение со мной могло испортить жизнь любому человеку, вот как тебе, например, сейчас…
Бутаков рассмеялся:
– Да уж! Но мне не так страшно, потому что я тоже в какой-то степени заразен! Так что не беспокойся за меня.
– Что ж! Недаром говорят, что зараза заразе не заразительна!
Отсмеявшись, Невельской задумался тяжело, вышел душой из дружеской беседы, унёсся куда-то в иные сферы. Бутаков ему не мешал, терпеливо ожидая его возвращения. Потом Геннадий Иванович, горько вздохнув, сказал:
– И всё же не верю я, не верю, чтобы она могла так легко забыть… Пехтерь! Что такое – Пехтерь? Да, сейчас я сам в преддверии каких-то неизвестных мне событий в ближайшем будущем не могу ничего ей предложить, ничего не могу обещать. Да, сейчас я сам устранюсь с её пути, не желая омрачать ей жизнь. Но – хотя бы слово сожаления или прощения! Неужели не заслужил любовью своей? Не ве-рю… Не ве-рю…
А Алексей Иванович думал в это время о том, какие ещё испытания предстоят честному и чистому его другу, с какой только человеческой низостью придётся ему столкнуться. Пресловутое морское офицерское братство – не более чем фикция. Не существует на флоте всеобщей взаимопомощи, поддержки. Так же, как все люди, моряки делятся на честных, порядочных и на подлецов, негодяев.
Сколько угодно найдётся бывших знакомых и приятелей, которые с внутренним наслаждением будут отправлять матроса Архимеда-Невельского драить медяшку или наводить приборочку в гальюне! А другие, более приличные, не посмеют возразить против придирок и будут отворачиваться, молчать. А оголтелые – и таких тоже немало – будут приказывать пороть его линьками на баке… Так что карта дальнейшего жизненного пути Геннадия Ивановича полностью в руце Божией, и неизвестно, какая ему выпадет судьба…
Глава 10
Уже вскоре после заседания события приняли неожиданный поворот. Когда канцлеру подали на подпись готовый протокол, он неожиданно остановился, занеся было перо над листом. Секретарь в почтительном полупоклоне выжидательно молчал. А «всёжекарл» внимательно перечитал протокол, отодвинул его пальцем весьма небрежно. Присутствовавшему при сём Сенявину сказал с упрёком:
– Что же вы, Лев Григорьевич, не проследили за точностию изложения! Если я не ошибаюсь, а в таких вопросах, как и во всех остальных, я не ошибаюсь никогда, наш любезный генерал-губернатор восточных территорий, выступая с пламенными речами на заседании, ни словом не обмолвился о мере наказания Невельскому…
– Но он ведь, кажется, говорил до того, как вы…
– Какое это имеет значение? Он мог бы что-то добавить или возразить после меня, в своём заключительном слове!
Следовательно… – что, Лев Григорьевич? Он…
– Согласен?
– Вот именно, дорогой мой! Муравьёв гласно не был против.
Поэтому, я думаю, не лишне было бы добавить в протоколе, там, где речь идёт о постановлении, что-нибудь… В том месте, например, где написано: «комитет постановил: капитана Невельского за допущенные им самовольные и преступные действия, противные воле Государя, разжаловать в матросы с лишением всех прав», добавить:
«Генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьёв, приглашённый в комитет, с этим постановлением вполне согласился»! И главное – вот на это обратите особое внимание – дайте ему подписать.
Крутощёкий Сенявин даже всплеснул от неожиданности пухлыми руками:
– Но как же… Он не подпишет!
– Видите ли, Лев Григорьевич, люди бывают очень невнимательны при чтении бумаг. Они зачастую просто пропускают места, даже касающиеся их лично. Поэтому, чтобы всё было в порядке, нужно послать с журналом такого опытного человека, который сумеет создать нужную обстановку и получит необходимую подпись. А она, согласитесь, очень нужна.
– Да, разумеется… Есть у меня такой человечек. Всё сделает по первому разряду.
В то время, когда Невельской, никак не могший влиять на развитие событий, ждал последней точки в своей офицерской карьере – подписи императора, события продолжали развиваться, подталкиваемые с разных сторон и к разным целям. Муравьёв, подробно пересказавший Геннадию Ивановичу ход заседания, готовился к решительным действиям: он уже понял, что игра пошла с таким накалом, что придерживать любые козыри просто гибельно.
Если они есть, конечно… А что есть, в самом деле? Только одно – благосклонное, по-видимому, отношение к нему со стороны императора. Точнее – милостивое разрешение обращаться к нему лично в сложных случаях, когда затрагиваются государственные интересы. А какие интересы затрагиваются сейчас? Не государственные ли? Если отдать Невельского на растерзание, не будет ли навсегда поставлен крест на освоении Востока? И не закончится ли на этом и его, Муравьёва, собственная карьера?
Привыкший анализировать свои действия, даже предстоящие, Муравьёв отчётливо сознавал, что, защищая Невельского, он отстаивает и свои собственные интересы. Именно поэтому, чтобы не выпирала наружу его собственная заинтересованность, он решил не обращаться к монарху лично, а просить об этом своего давнего благожелателя Перовского. Лев Алексеевич пользуется доверием Николая I, а кроме того он лично присутствовал на заседании и сумеет… Надобно только всё это делать быстро, чтобы опередить Нессельроде…
Обо всём этом Николай Николаевич размышлял за столом во время семейного обеда. В какой-то момент он вообще забыл – зачем сидит за столом, настолько углубился он в свои умственные хитросплетения. От раздумий его оторвал адъютант, доложивший, что к генерал-губернатору прибыл посланец из канцелярии Нессельроде со срочным пакетом.
Такое совпадение визита с его мыслями неприятно поразило Муравьёва. Он встал из-за стола и велел пригласить посетителя в кабинет. Посланца он знал. Иван Иванович Савченков числился в весьма умелых чиновниках и был, по сути, правой рукой Сенявина. Уже одно появление именно его, а не простого порученца, должно было бы насторожить Николая Николаевича. Но Савченков так добросердечно расспрашивал генерал-губернатора о былых ранах, о здоровье, попутно рассказав пару забавных историй, получивших недавно хождение в Петербурге, что Муравьёв сбросил внутреннее напряжение. Сев за свой внушительный стол, он протянул руку за бумагой:
– Ну-с, с чем пожаловали, Иван Иванович? Савченков улыбнулся обворожительно:
– Простите великодушно за нарушение вашего досуга. Тем более, что и дело-то пустячное, не стоит оно такой срочности, с какой меня к вам направили. Могло бы и подождать немного, не к спеху!
Так ведь каждая мелочь порядка требует, не так ли? А его превосходительство Лев Григорьевич Сенявин очень строго блюдёт, чтобы всё по регламенту, всё по регламенту… Тут, видите ли, он обнаружил, что на протоколе заседания особого Амурского комитета должна быть всенепременно ваша подпись, как приглашённого лица. Пустейшая формальность, а вот, пожалуйста, – чтоб была подпись немедленно!
Савченков обошёл стол, стал рядом с Муравьёвым, положил перед ним раскрытый на последней странице журнал, показал рукой:
– Вот видите, здесь Лев Григорьевич подписал, здесь, повыше, Карл Васильевич утвердил… А вам вот здесь надлежит-с… Это я недосмотрел, мой недогляд, вы уж простите меня за оплошность!