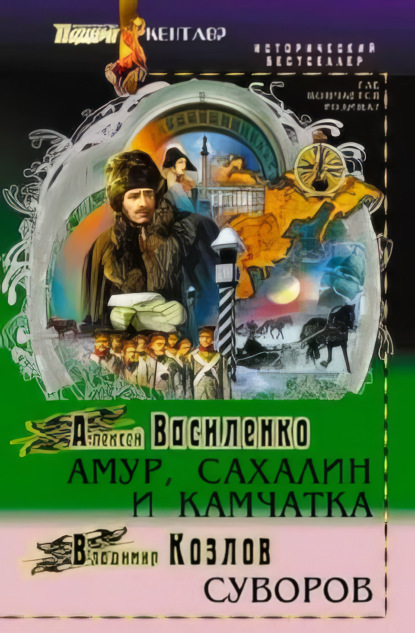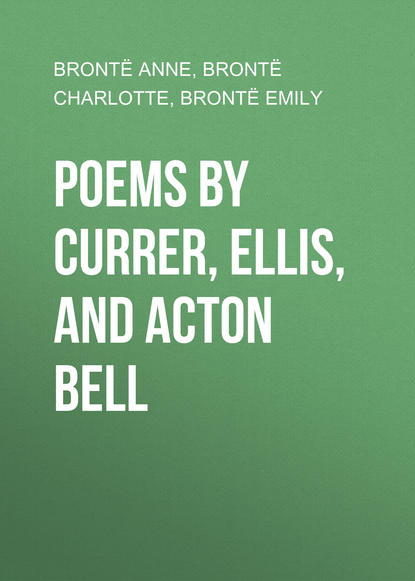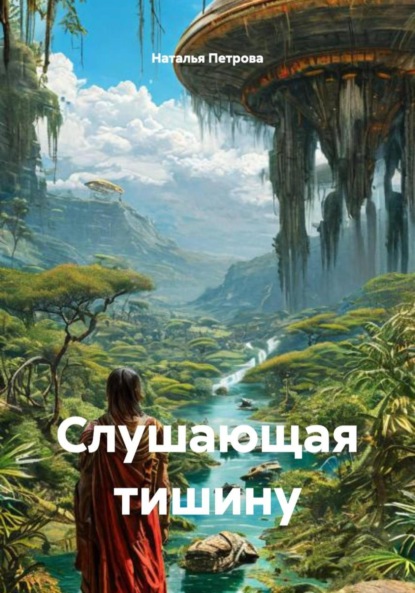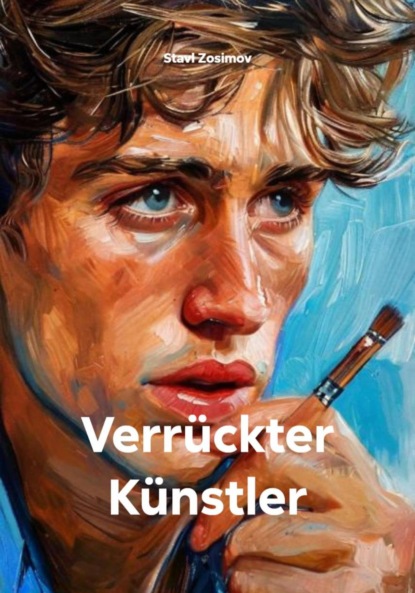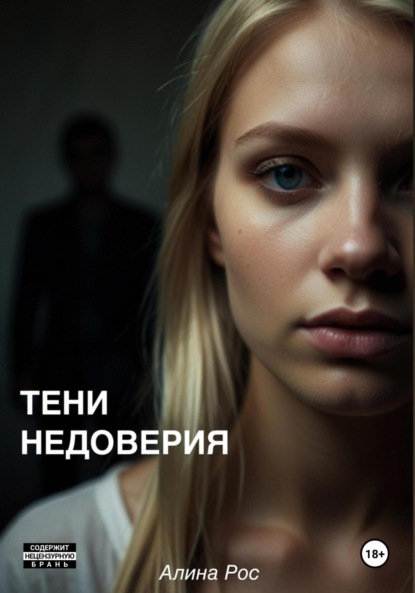- -
- 100%
- +
…Он ещё что-то говорил, журча беспрерывно, но Муравьёв уже снова напрягся. Почему всё это нельзя было подписать сразу после заседания? Что-то тут не так. Он рассеянно перелистнул страницу назад и сразу же попал взглядом на свою фамилию в строчках постановления.
Ах, вон оно что! Самый заурядный подлог? Что же подвигло их на открытую войну? Похоже, дело не только в Невельском, но и в нём самом, в Муравьёве. Убрав капитана, возьмутся за его генерал-губернаторство… Крепко же задели это осиное гнездо! Но, всё-таки, они не так уж уверены в своей позиции, нет у них гарантии, что император утвердит приговор! Нету! А это ведь прекрасная новость. Какая удача! Так подставиться, глупцы… Ну, хорошо, тогда получайте.
Муравьёв медленно положил перо на стол, закрыл журнал и… сунул его в ящик стола:
– Я ознакомлюсь с постановлением сегодня же и верну протоколы его превосходительству Сенявину. А пока, Иван Иванович, прошу меня простить – я нездоров, что-то голова разболелась, а документы нужно смотреть на свежую голову. Больше я вас не задерживаю.
…Как только ушёл растерянный Савченков, Муравьёв бешено затряс колокольчик. Приказал Корсакову:
– С запиской к Перовскому – лётом! И вели карету заложить! То, что произошло в ближайшие за этим часы, казалось Муравьёву по прошествии времени каким-то мельканием, быстро сменяющимися картинками калейдоскопа. Визит к Перовскому, азартный разговор с ним, во время которого изучался пресловутый журнал и решался вопрос: ставить ли подпись для успокоения противника или сразу продемонстрировать обнаружение подлога. Решили – не подписывать, а составить особое мнение, с которым постараться ознакомить императора. Затем журнал был отправлен по принадлежности с припиской Муравьёва, которая сразу же пресекла возможные попытки переписать постановление начисто, скрыв тем самым подделку мнения и дискредитацию генерал-губернатора. Далее – заработала «тяжёлая артиллерия»: граф немедленно отправился устраивать аудиенцию императора для Муравьёва. Это, разумеется, мог бы сделать и сам Николай Николаевич, но нужно было показать, что у него есть поддержка.
И аудиенция состоялась! Николай I к тому моменту уже получил сведения от Перовского и Меншикова, был разговор и с канцлером, поэтому представление о ситуации у царя складывалось из мнений противоположных. Окончательное своё решение он предполагал вынести после разговора с Муравьёвым. Встретил его сухо, сразу предложив деловой тон:
– Опять у тебя какие-то трения с Нессельроде! Что ещё там натворил этот Невельской? Открыл Николаевский пост? Поднял государственный флаг России и объявил территории русскими?
В своём ответе Муравьёв, по существу, повторил содержание своей речи на заседании комитета, убавив, впрочем, количество примеров и эмоций. Основной упор он делал на усилившийся интерес англичан и французов к восточному побережью, на абсолютно безразличное отношение к акции Невельского соседних стран, которые, по всей вероятности, более правильно читают договор или лучше знают географию тех мест, чем российское министерство иностранных дел… По собранным за последнее время данным можно предположить, что хребет, по которому обозначена граница между Россией и Китаем, имеет вовсе другое направление, уходит на юг, и таким образом Приамурье, левобережное только вначале, а ближе к устью – оба берега реки и вся территория Уссурийского Приморья, – законно русская земля.
Николай I глянул Муравьёву в глаза. Такой взор монарха выдерживали немногие, но генерал-губернатор не отвёл взгляда.
Император, опершись на лежавший на столе журнал с протоколом заседания особого комитета, спросил в упор:
– Так именно это утверждает Невельской?
– Да, ваше величество!
– А почему тогда – «можно предположить»? Пусть докажет!
Муравьёв почувствовал, как кровь отлила от его лица: это был самый важный момент разговора.
– В ближайшем будущем, по возвращении на восток, он предполагал направить экспедицию вдоль Хинганского хребта, которая окончательно решила бы этот вопрос. Я тоже был намерен направить туда экспедицию подполковника Ахтэ, чтобы продублировать результаты. Но Невельскому не только не дают это сделать, но и предложено его разжаловать.
– Оставим это. Что же касается сути вопроса… – Николай I задумчиво провёл рукой по странице журнала, где красовались дописка к протоколу и особое мнение Муравьёва. – Мы ещё раз рассмотрим его.
Он взял перо и начертал, проговаривая вслух неторопливо появлявшиеся на бумаге слова:
«Комитету собраться снова под председательством наследника, великого князя Александра Николаевича».
Поставив точку, глянул на Муравьёва, оценивая его реакцию.
Но Николай Николаевич стоял навытяжку с усердным выражением на лице. Не угадав ничего, император почувствовал некоторую досаду, поскольку у него промелькнула мысль о том, что Муравьёв, конечно, умён, но в такие минуты может зародиться в этом сомнение.
Муравьёв же в этот момент как заклинание повторял мысленно: не показывать, не показывать радости, заинтересованности, только долг на лице, только долг меня обязывает об этом говорить, а так – мне-то всё равно, как решится вопрос, я полностью верю своему государю!
Николай I, кажется, угадал его настроение, потому что секунду спустя он выразился определённее:
– К какому бы выводу ни пришёл комитет, всегда должно действовать одно незыблемое правило: где раз поднят русский флаг, он уже спускаться не должен!
Муравьёв просиял, куда делась его напряжённая солдатская поза:
– Ваше величество! Эти слова достойны того, чтобы навсегда остаться в истории государства Российского!
Многим было известно, что Муравьёв наделён дипломатическими способностями. Они проявились в Польше, умело вёл переговоры Николай Николаевич и с абхазами, добиваясь прекращения военных действий, не поступаясь интересами своего государства. Но мало кто представлял, какую сложную игру вёл он именно сейчас, в мирное время, в связи с, казалось бы, вполне мирным вопросом.
Острое ощущение назревающей войны за передел мира именно тогда, когда Россия менее всего готова к этому, преследовало Муравьёва только в последние годы, после знакомства с Невельским. До этого он просто делал ставку на восточное побережье. Николай Николаевич наметил пути, ведущие к цели, и Невельской был только частью этой большой игры. Не отвергая дальних морских путешествий на Камчатку, Муравьёв искал выходы к побережью и по суше, и по воде. Он всячески способствовал Невельскому в его исканиях, но в то же время предпринимал меры, чтобы приступить к налаживанию хотя бы вьючных дорог через болота и тайгу, горы и реки от Якутска до Охотска и до Аяна. Именно поэтому он не считал вначале своей удачей обещание назначить Завойко в Петропавловск. Василий Степанович, по его мнению, был бы более полезен именно в Аяне, если дать ему больше полномочий. Как человек, имеющий соответствующий опыт, в короткий срок сумевший обустроить Аянский порт и сам посёлок, Завойко мог бы развернуть невиданное строительство, которое заставит товарно-военно-денежную кровь бежать по созданным артериям быстрее. Тогда и развитие побережья Дамского моря сделало бы шаг вперёд. А самое главное – наладилась бы связь и с Петропавловском.
Но вмешалось во всё это то самое ощущение надвигавшейся войны. Именно поэтому Завойко стал больше нужен в Петропавловске, Аян отошёл на второй план, а самой главной и важной целью стало исследование Амура и налаживание судоходства по великой сибирской реке. Даже в амурской проблеме Муравьёва в первую очередь интересовал Петропавловск. Шутки на эту тему («хочет город заложить назло надменному соседу, как Пётр Великий!») он не принимал, хотя они, конечно, льстили его самолюбию. И Амур в его глазах был всего лишь средством регулярного снабжения Петропавловска и Камчатки. Да и земли южнее Амура мало интересовали Муравьёва, они не вписывались в его представления о будущем этого края.
И вот одна из ветвей большого замысла может рухнуть из-за сверхосторожности канцлера и десятка чиновников, не понимающих всей важности проблемы. Или – понимающих прекрасно и именно поэтому упорно ставящих всяческие препоны?
Муравьёв не говорил с Невельским о беседе царя с ним, о её ходе и подробностях, потому что ни в чём не был уверен. Он имел достаточно придворного опыта, чтобы понимать: кажущаяся благожелательность может оказаться мнимой, острый интерес может маскироваться равнодушием, решения, на которые намекалось, могут оказаться чуть ли не противоположными. Он умел ждать, выжидать и дожидаться. Именно поэтому он лишь известил Геннадия Ивановича о том, что его вопрос будет рассматриваться вторично. Он не желал вселять в его душу ещё одну бурю сомнений и неуверенности в будущем. Тем более, что на Невельского навалилась и другая душевная смута.
Историю с Зариными и их подопечной – Катей – Муравьёв отлично знал, в мельчайших деталях, потому что именно его супруга приняла деятельное участие в выяснении причин отказа и разрыва с Невельским. По его просьбе Екатерина Николаевна обратилась к опекунам, пыталась встретиться и с самой Катей, но даже ей было отказано под благовидным предлогом.
Всё это выглядело довольно странно, потому что тогда никаких конкретных обвинений Невельскому ещё никто не предъявлял. Но – слухи! Ах, эти слухи, господа! Очень часто именно они, а не реальные события, низвергают в прах людей могучих и мужей весьма достойных, именно спл`етенные сплетения порой начинают войны или лишают репутации порядочных людей, ни сном, ни духом не повинных в том, что им приписывают. Просочившись в иркутское общество с кем-то, приехавшим из Петербурга, они как дрожжи в благоприятной среде, множились, росли, и очень скоро двери перед капитаном, которым ещё совсем недавно восхищались, стали открываться не очень охотно, а некоторые и вовсе перестали отворяться.
Геннадий Иванович не замечал всего этого, не догадывался о том, что Зарины точно так же, как весь иркутский свет, поражены плесенью слухов и, конечно же, по-своему заботятся о будущем своей подопечной. Мнения самой Кати никто не спрашивал. Опекуны считали, что Невельской – партия заведомо проигрышная, но была и партия вполне, на взгляд Зариных, достойная, – это был молодой повеса Пехтерь, фигура заметная на всех балах. Им могли быть недовольны какие-то отвергнутые девицы, но чтобы он вызвал неудовольствие властей, – боже упаси!
Невельской и предположить не мог, что от всех попыток выяснить отношения Катю тщательно оберегает опекунша – тётка Варвара Григорьевна, более того – в каждом разговоре с девушкой всячески подчёркивает полное якобы равнодушие капитана, его нежелание с ней видеться. Одновременно участились всяческие пикники и вечера с непременным участием Пехтеря… Нежелание Кати видеться с Невельским (так полагал Геннадий Иванович, так всё выглядело для всех окружающих, правды не знал никто) ловкой интригой обращало ситуацию в умышленное оскорбление, особенно болезненное для тридцатипятилетнего капитана в связи с молодостью его «соперника».
Уезжая в Петербург, Невельской ещё раз нанёс визит супруге Муравьёва Екатерине Николаевне и попросил о небольшой услуге. Он знал, что спустя несколько дней и Екатерина Николаевна тоже отправляется в столицу, поэтому просил за это промежуточное время изыскать возможность передать Кате записку, в которой прощался с ней и снова говорил о своей любви. Жена генерал-губернатора, как бывшая де Ришемон, истинная француженка да и просто блестящая женщина, была всецело на стороне влюблённого капитана. Она значительно расширила выполнение просьбы: не только нашла возможность увидеться с Катей и передать ей письмо Невельского, но и просто поговорить с ней по душам. Оставляя девушке петербургский адрес Муравьёвых, она попросила написать ей, если что-то в отношении Невельского в душе её изменится. И была потрясена, узнав о том, что Катя не знала ничего, что вокруг неё буквально сплетён заговор. Она порывалась увидеться с Невельским, но было поздно: тот уже ехал навстречу своей судьбе.
Екатерина Николаевна напомнила:
– Катенька, будьте осторожны. О нашем разговоре не говорите никому в доме, даже вашей сестре. Письмо отправляйте не сами, заплатите кому-нибудь, случайному человеку. А я буду это письмо ждать. В него вы вложите конверт с посланием Геннадию Ивановичу, я передам ему немедленно…
А дни тянулись – пустые и страшные. Невельской чувствовал себя болтающимся на ниточке жизни, тогда как Мойры приготовили свои ножницы, поднесли даже к этой нити, чтобы обрезать её, покончить с ним навсегда, и… забыли о нём, повели разговор о ком-то другом. Они смеялись, ссорились, размахивали руками и вполне могли зацепить его нить совершенно случайно, безо всякого умысла…
Самым страшным было вынужденное безделье. Человеку, который привык каждую свободную минуту нагружать делами, и не просто какими-то делами, нужными, важными, истинной мукой казалось полное отсутствие оных. Будучи на Филиппинах, слышал он рассказ о древней пытке водой, когда на неподвижно закреплённую обритую голову человека через абсолютно равные промежутки времени падает капля, другая, третья… и так – до того момента (а он наступает довольно быстро), пока преступник не начнёт мечтать о смерти, об избавлении от ничтожно малых капель, которые уже стали для него всем на свете. В положении Невельского такой каплей становилась ежедневная фраза: ничего нового, ничего нового…
Но всё же что-то в мире, в Петербурге происходило, просто в замкнутое пространство Невельского не проникали звуки и вести. А однажды капризные Мойры свои ножницы просто отбросили.
Невельскому сообщили, что он должен предстать перед государем.
И этот день настал.
Когда Невельской по форме доложил о своём прибытии, император стоял у окна. Фигура его, оконтуренная слабым зимним светом, казалась почти силуэтом, лицо тоже трудно было разглядеть, не говоря уж о том, чтобы уловить тонкости мимики: в каком настроении самодержец, как относится к вошедшему. О том, что Николай I всех принимает стоя, Невельской был наслышан, поэтому остановился на заранее указанном ему расстоянии и замер в ожидании. Император молчал, и совершенно не было понятно: то ли он разглядывает виновного перед вынесением приговора, то ли думает о чём-то другом. Минуту спустя, тягостную и очень долгую минуту, в течение которой мысли роем неслись в голове, а нервы напряглись до предела, монарх нарушил молчание:
– Наверно, тебе надлежало бы доложить: «матрос Невельской»!
Своим неподчинением приказам и самовольством ты вполне это заслужил.
…Всё! Конец. Всем мечтаниям конец, всем делам, всем планам.
Да что там… – всей жизни конец! Кто бы мог подумать ещё совсем недавно, когда всё так удачно складывалось!
Император подошёл к столу, на котором была разложена карта России.
– Подойди. Это, значит, здесь всё и происходило? – указательный палец царя упёрся в побережье Дамского моря. – Да, без всякого сомнения, здесь ты – матрос, не заслуживающий никакого снисхождения или помилования…
…Он сделал долгую паузу.
– Но… ты ведь сам, лично, описал устье Амура? Не так ли?
– Так точно, Ваше Императорское Величество!
– Н-ну… в таком случае здесь, – он провёл пальцем вдоль лимана, – ты мичман.
Он вновь сделал паузу.
– Впрочем, говорят, что ты там ещё кое-что натворил. Открыл пролив между Сахалином и Татарским берегом? Доказал, что Сахалин – это остров?
Николай I в явно деланной задумчивости обвёл пальцем Сахалин, который на этой карте всё ещё был полуостровом.
– Пожалуй, ты здесь лейтенант! Но как быть с тем, что ты основал Петровское зимовье? Наверно, ты, всё-таки, капитан-лейтенант? А у тебя ещё что-то есть в запасе! Ты вошёл в устье и действовал там благородно, молодецки и патриотически. Ты уже – капитан второго ранга. И ты поднял русский флаг на устье Амура! За это ты – капитан первого ранга. Ты собираешься исследовать территорию? Деяние, достойное звания адмира… Впрочем, с этим пока подождём. А к новому званию капитана первого ранга – более чем заслуженная тобой награда.
Император взял со стола орден Святого Владимира IV степени и вручил его ошеломлённому капитану…
…Когда Геннадий Иванович во всех подробностях рассказывал Муравьёву об удивительном монологе императора, а Николай Николаевич чуть ли не пустился в пляс среди домочадцев, он думал, что более счастливого человека не может быть, потому что совершенно неожиданно, в один, фактически, миг оправдались все усилия его и его соратников, сбылись надежды на продолжение великого дела. Спустя некоторое время он прекрасно понял, что стал единственным зрителем продуманного до мелочей спектакля, что решение не рождалось у него на глазах, а заранее было принято, даже орден был приготовлен заранее, но императору было нужно обернуть элементарное устранение несправедливости, за которую принято извиняться, милостью, за которую следовало благодарить его! И, совершенно искренне поверив в разыгранную сцену, Невельской благодарил. За дело, которое он сделал для России.
Но судьба не удовлетворилась победой над невидимыми противниками, которые, разумеется, рукоплескали не имеющей границ широкой душе императора. Екатерина Николаевна, обрадованная новостями не менее супруга, отвела Невельского в сторону:
– Геннадий Иванович, у меня для вас тоже есть новость! Вот, держите.
Невельской с лёгким недоумением повертел в руках запечатанный конверт.
– Что это, Екатерина Ивановна?
– Дело в том, что я сегодня получила из Иркутска письмо, а в него был вложен вот этот пакет. Для вас. Мне почему-то кажется, что в нём хорошие новости!
Невельской надорвал пакет и сразу взгляд выхватил из письма, написанного таким родным, знакомым почерком, строку, содержавшую одно слово, повторенное несколько раз: «…люблю, люблю, люблю…».
Он растерялся. К радости примешивалась горечь: почему не раньше, а сейчас, в миг удачи? Наверно, этот вопрос он задал вслух, потому что Екатерина Николаевна твёрдо сказала:
– У вас зародилась плохая мысль. Выбросьте её. Лучше посмотрите, когда письмо было написано. И вспомните, сколько дней идёт сюда почта из Иркутска. Катя почувствовала, что вам плохо, и написала письмо именно тогда. Наверно, это есть в письме, но я на всякий случай скажу вам: не знала она ничего ни о ваших попытках встретиться с ней, ни об отказе, который получили вы от её опекунов. Да и Пехтеря она никогда не любила, он был для Зариных как бы громоотводом от вашей пошатнувшейся судьбы…
Невельской лихорадочно прочёл письмо от первой до последней строки. Да, Катя любила его, она была готова следовать за ним куда угодно, делить с ним любую судьбу. И это писалось в самые чёрные его дни! Боже, оказывается, счастье бывает безграничным, безбрежным!
Через некоторое время Невельской уже отпрашивался у Муравьёва:
– Мне нужно тотчас же быть в Иркутске! А то опять появится какой-нибудь… Пехтерь.
Николай Николаевич резкие действия капитана не одобрил:
– Поймите вы, Геннадий Иванович, что никак сейчас вам уезжать нельзя! Вы же прекрасно знаете, что после счастливого благоволения к вам императора нужно немедля хватать жар-птицу за хвост!
– Да я именно это и хочу сделать!
– Ошибка, серьёзная ошибка, господин капитан первого ранга! Там, в Иркутске, тоже жар-птица, согласен. Но она – уже пойманная, приручённая, простите меня за подобные сравнения. А здесь птица удачи ещё в небесах, ещё потрудиться нужно, чтобы поймать её!
Удача – ведь она везде, в любом месте или деле. И удачлив по-настоящему тот человек, который внимательно смотрит по сторонам, ищет место для гнезда и обустраивает его, чтобы птичка прилетела именно к вам. Конечно, бывает, что она сама кому-то на голову садится, но так же легко она улетает, ей нужно место, где о ней заботятся… Так что поездку вам я не разрешаю. А в Иркутск вы, конечно же, въедете на белом коне! Но немного позже, когда мы здесь устроим все свои дела. А пока отпишите ей, успокойте страхи её опекунов, готовьте почву для триумфа. Мы же озаботимся планами на будущее.
Будущее это вырисовывалось очень трудно даже среди людей, которые относились к восточному проекту благожелательно.
Разговоры с Перовским и Меншиковым только выявили медлительность и нерешительность столичных вершителей судеб. Наметились противоречия и между Муравьёвым и Невельским. Если Геннадий Иванович намеревался параллельно с обследованием пограничного горного хребта заняться и южным направлением, то Муравьёв о юге не желал и слышать. Его в данный момент интересовал только и только Амур. Но желания и того и другого разбивались о неуверенность собеседников. Светлейший князь, например, совершенно не воспринимал пассажи Муравьёва о приближающейся войне и необходимости из-за этого торопиться.
Меншиков не верил в возможность военных действий: слишком сильна была в нём иллюзия сильного российского государства. Для развития экономики – да, необходимо двигаться на восток. Для приращения территорий – пожалуйста! А война – это сказки, нечто невозможное, поэтому необходимо не стращать, а примерять семь раз, прежде чем один раз отрезать. «Что отхватишь – не приставишь, что отрежешь – не пришьёшь», – пошучивал по своему обыкновению светлейший. Да и вообще – всё его сочувствие к экспедиции Невельского сводилось к тому, что Меншиков, курировавший флот, очень ревностно относился к любым действиям моряков, кораблей, флотилий, которые хоть на йоту приподнимали славу России на морях. Шло ли это от патриотизма? Вряд ли в большой степени. Но любой успех моряков ложился отблеском и на светлейшего!
Кстати, во время этих разговоров с разными персонами Невельской обратил внимание на то, что именно его наблюдение, вывод, идея о приближающейся войне, то есть то, в чём ему много раз приходилось убеждать генерал-губернатора, стали постепенно и незаметно наблюдением, выводом и идеей Муравьёва, который с некоторых пор преподносил это всё в беседах как выстраданное, своё. Как-то незаметно отодвинулась его первоначальная цель, сводившаяся к обустройству окраины России, подтягиванию его до уровня средне-российского. Конечно, от такого перемещения центра тяжести дело в настоящий момент только выигрывало: мнение правителя восточных территорий было весомее мнения новоиспечённого капитана первого ранга. И всё же… Факт этот неприятным осадком ложился на душе.
Реально же всё сдвинулось с места только после встречи Невельского с Великим Князем Константином. Он тепло принял Геннадия Ивановича, недавнего своего ближайшего помощника и сослуживца:
– Наслышан о твоих подвигах, наслышан… Извини за досужее любопытство, но одну деталь мне хотелось бы уточнить. Когда именно у тебя зародилось сомнение в данных Крузенштерна, Лаперуза и иже с ними? Когда мы служили вместе или позже?
– Если честно, Ваше Высочество, то значительно раньше.
– Это… В гардемаринах?
– Нет, ещё раньше. В Морском корпусе.
– Но ведь именно Крузенштерн был во главе корпуса! И ты опровергал его?!
– Мы говорили с ним об этом. Я сказал тогда, что истина научная не может зависеть ни от возраста человека, её ищущего, ни от опыта. Ни от чина. Он воспринял такую юношескую дерзость нормально, сказав, что об этом стоит подумать.
– Ну-у… Теперь я вижу, что тебя не напрасно Архимедом называли!
Они долго сидели над картами. Невельской рассказывал обо всём подробно, Константин слушал, не отрываясь, потому что при всём накопленном им уже в делах флота опыте такие откровения, такой широкий взгляд на то, что когда-то потом назовут геополитикой, он встречался впервые. Когда Геннадий Иванович остановился, спросил только:
– И что теперь?
Невельской стал говорить о своих планах окончательного установления российско-китайской границы, о задуманном уже давно обследовании южного направления, где по сведениям от местного населения были великолепные бухты, так необходимые будущему Восточному российскому флоту.
Великий князь задумался. Он прекрасно понимал, что Невельской прав: и тактически, и стратегически занимать побережье к югу от устья Амура было просто необходимо. Но отец пока не желал распространения на востоке! В слове «пока» просматривалась надежда на другой поворот дела, но надежда эта была слабой. Нужно было искать выход. Константин был абсолютно уверен: если не разрешить исследования, то Невельского этим не остановишь, он всё равно будет работать в южном направлении. Если же он ещё раз пойдёт против воли государя, то это может поставить крест не только на карьере блестящего офицера, но и на всей восточной затее…
– Что тебе нужно в первую очередь?
– Люди. Нужны грамотные офицеры с желанием вести работы исследовательские, нужны люди мастеровые, чтобы обустраивать поселения прочно и надолго. Женщины нужны, без них мужчины дичают… Что ещё… Обязательно нужен пароход, пусть небольшой. Без этого мы не сможем нормально обследовать и обустроить фарватеры. Да, и нужен корабль, который хотя бы иногда крейсировал вдоль берегов, обозначая военное присутствие, и хотя бы настораживал всяких нежеланных гостей. Это – прямо сейчас. А завтра уже нужна армия для заселения территорий и для надёжной защиты, солидное оружие и морские военные корабли, которые отныне имеют уже возможность укрываться в Амуре от превосходящих сил противника.