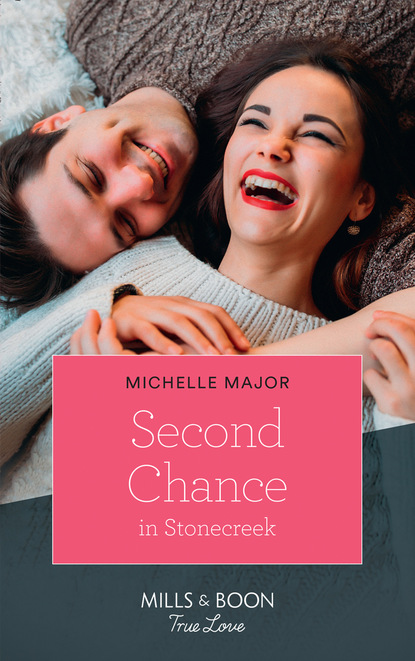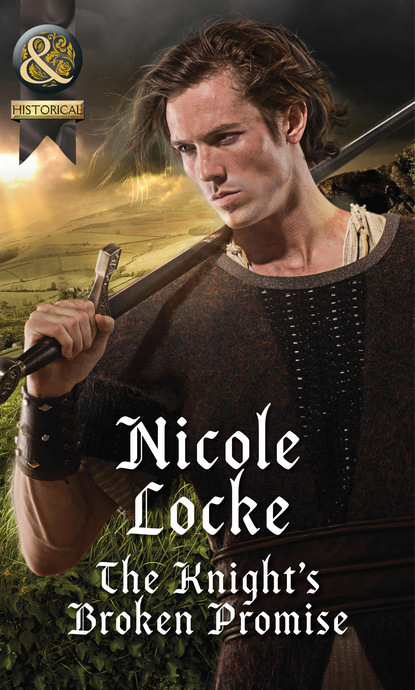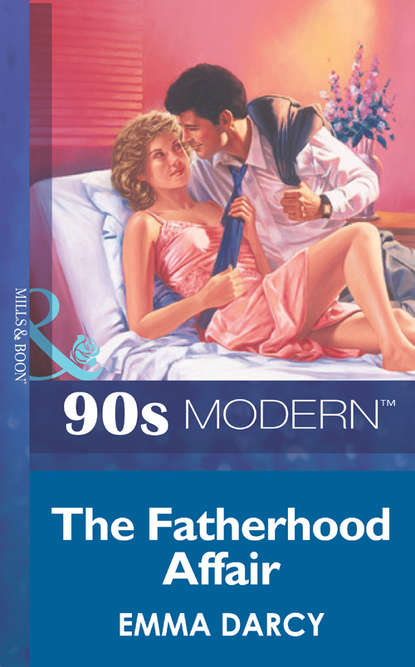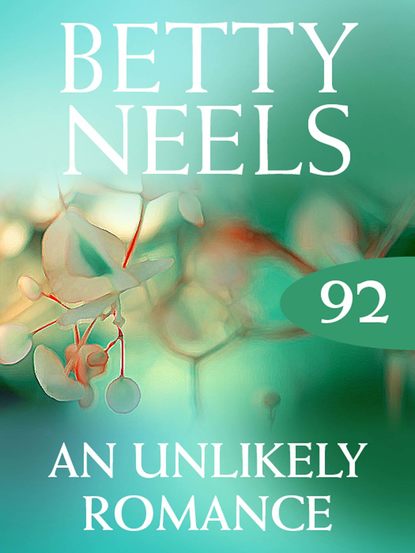Детские политические сказки для взрослых. Том II

- -
- 100%
- +

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ
«ДЕТСКИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СКАЗОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»
Дорогой читатель,
Перед тобой – вторая часть нашей с тобой тревожной и увлекательной игры. Если первый том был громким и яростным, как топот сапог по брусчатке, то этот – тихий, как шепот за спиной у надзирателя. Мы переходим от анатомии диктатуры к физиологии рабства. От внешних механизмов подавления – к внутренним тюрьмам, которые люди добровольно выстраивают в собственном сознании.
Название «Детские политические сказки для взрослых» – не оксюморон, а горькая констатация: мы вступили в эпоху, где тоталитарные искушения обрели изощренность, недоступную прежним тиранам. Современное рабство не носит кандалов – оно предлагает удобные тапочки из памятивата, яды – в оболочке из сладкой риторики, а несвободу – под соусом из заботы о нашем же благополучии.
Традиция, в которой написаны эти тексты, восходит к Оруэллу, Олеше, Хаксли – картографам кошмаров XX века. Их гений заключался в понимании: чтобы описать чудовищность системы, порой нужен не многостраничный трактат, а один ёмкий, почти детский образ. Свинья, вставшая на две ноги. Говорящий луковица. Общество, променявшее любовь на стабильность.
Настоящий том – попытка продолжить этот диалог, но уже с вызовами века XXI. Если прежде угроза приходила снаружи – в виде очевидного насилия, то сегодня она просачивается внутрь, через микротрещины в нашей повседневности. Этот сборник – кабинет кривых зеркал, где под видом сказок скрываются диагнозы нашему времени:
Аллегории удушья
Здесь, в духе «Скотного двора», но с поправкой на цифровую эпоху, мы исследуем, как грубая сила эволюционировала в изощрённое манипулирование. Как отнять у человека воздух, не запрещая дышать? Просто сделайте его платным. Как украсть радугу? Убедите всех, что серость полезнее для душевного спокойствия.
Антиутопии комфорта
Развивая линию «О дивного нового мира», эти рассказы показывают: самые прочные ошейники – невидимые. Самый надёжный тюремщик – тот, кто убедил тебя, что свобода есть тяжкое бремя, а покой серых стен – и есть воля. Современная несвобода пахнет не порохом, а лавандой.
Экономика призраков
Продолжая традицию «Трёх толстяков», мы вскрываем механизмы, где ценностью становится отсутствие: тишина – в оглушённом мире, чистый воздух – в отравленном городе, правда – в океане лжи. Герои этих сказок – не бунтари с молотом, а коллекционеры угасающих смыслов, охотники за последними бабочками в выцветшем мире.
Технологии исправления
Вслед за «Заводным апельсином» эти тексты исследуют мир, где преступление можно «вылечить», сознание – перепрограммировать, а инакомыслие – искоренить курсами вежливости. Насилие облачилось в белый халат психотерапевта, цензура – в маску заботы о психическом здоровье нации.
Сопротивление памяти
Завершающий раздел – не о громких революциях. Он – о тихом упорстве архивариуса, спасающего последнюю книгу; о девочке, рисующей мелом на асфальте солнце с печальным лицом; о старике, хранящем ключи от подвала, где спит правда. Их оружие – не кулак, а память. Их бунт – не крик на площади, а шепот в наглухо задраенной комнате.
Уважаемый читатель, эта книга не даёт ответов. Её задача – будить спящие струны души, которые ещё способны звенеть от боли при виде несправедливости. Она напоминает: последний бастион свободы – не на баррикадах, а в сознании отдельного человека, способного отличить сладкую ложь от горькой правды.
Возможно, именно такой, «детский» взгляд, очищенный от идеологических шор и политической мишуры, и является сегодня самым трезвым и взрослым.
Ваш проводник по лабиринтам несвободы,
Рассказчик из страны утраченных смыслов.
Проклятие нектара
В Глиняном Царстве, в сердце Великого Муравейника, жизнь была отчеканена, как монета. Каждый день, в незыблемый Час Пробуждения, триста миллионов заслонок поднимались одновременно, и триста миллионов муравьев приступали к своему Предназначению. Воздух, густой от феромонов Повелительницы, был наполнен гудением мандибул, скрежетом хитина о камень и мерным стуком абдоминальных барабанов, отбивающих ритм труда. Это был идеальный механизм, где винтик, вздумавший стать пружиной, подлежал немедленной утилизации.
Фотограф 9-734-Б, известный среди таких же, как он, безымянных «номеров» как Фикос, принадлежал к касте Летописцев. Его Предназначением было запечатлевать на светочувствительной плесени, выращенной в пещерах Грибниц, этапы Великого Строительства: укладку хвойных игл для кровли Складских Галерей, транспортировку тли на пастбищах Тлиного Фермерства, триумфальные лица Солдат-фуражиров, вернувшихся с окровавленным телом жука-скарабея. Кадр должен был быть четким, композиция – строго по диагонали, символизирующей Неуклонный Подъем, а экспозиция – выверена так, чтобы ни тени упадка, ни блика сомнения не оскверняли картину всеобщего процветания.
Но у Фикоса была тайна, тягчайшее из преступлений, именуемое в Уложении о Единой Воле «Индивидуальной ересью»: он коллекционировал красоту.
Он прятал в потайной нише за своим спальным коконом кристаллы плесени, на которых он втайне от всех, рискуя не просто карьерой, а хитиновым шкурой, снимал не то, что должно, а то, что было. Каплю росы на паутинке, переливающуюся всеми цветами радуги, чего в подземном царстве быть не могло. Одинокий цветок папоротника, пробившийся сквозь толщу хвои, – символ не санкционированного свыше роста. И главное свое, самое опасное сокровище – серию размытых, дрожащих снимков, сделанных им однажды, когда он отстал от колонны фуражиров. Он назвал их «Предрассветные шёпоты».
На них было Нечто. Нечто, от чего трещали его хитиновые соединения и сжималось олеиновое тельце. Нечто неописуемо огромное, куполообразное, цвета расплавленного янтаря и спелой манго. Оно медленно поднималось из-за линии Леса, разрывая серую пелену ночи, и его лучи, невидимые и всепроникающие, заставляли кристаллы плесени на его пластинах светиться изнутри. Это был Рассвет. Абстрактное понятие из пропагандистских листков, где он упоминался лишь в связке с «новыми трудовыми победами, озаренными светом грядущего дня». Но никто, кроме него, Фикоса, не видел его настоящего лика. И это зрелище было столь величественным, что все «Великие Строительства» и «Триумфы Воли» на его официальных снимках казались жалкой бутафорией.
Его непосредственный начальник, Надсмотрщик 4-081-Д, по кличке Жвал, был ходячим воплощением системы. Его брюшко было раздуто от постоянного потребления пади сомнений, которую он выжимал из подчиненных, а мандибулы были привычно сжаты в подобие каменной ухмылки.
– Фотограф 9-734-Б, – просипел он однажды, входя в лабораторию, пропахшую кислотой для проявки. – Отчет по укреплению Южного Фундамента. Где кадры?
– Я… их обрабатываю, товарищ Надсмотрщик, – пробормотал Фикос, инстинктивно прикрывая грудными лапками свою потайную нишу.
– Обрабатываешь? – Жвал медленно обошел его, щелкая жвалами. – Мне докладывают, что ты вчера отклонился от маршрута на три секунды. На три секунды! Твой КПД упал на 0,0001%. Это песчинка, Фотограф. Но из песчинок складываются дюны предательства. Ты что-то скрываешь. Ты пахнешь… индивидуальностью.
В тот вечер Фикоса вызвали на Единочасье – ежедневный ритуал, когда весь муравейник, от самых низких галерей до залов Аристократии Усиков, собирался у Главного Экрана – гигантской светящейся плесневой колонии. На нем появлялся Верховный Оратор, его усики, усиленные резонаторами, транслировали на всю колонию прописные истины:
«Единый – Муравейник! Воля – Закон! Труд – Освобождение! Личность – Ничто, Коллектив – Все! Враг не дремлет! Враг – это безделье, это вопрос «зачем», это яд индивидуального восприятия! Тот, кто смотрит на цветок, а не на общую клумбу, – предатель! Тот, кто ищет свой путь, а не следует по проторенной тропе, – вредитель! Будьте бдительны! Ваш сосед может быть носителем ереси Красоты!»
Фикос смотрел на мерцающий экран и чувствовал, как его собственные мысли кричат в унисон с этими лозунгами. Он был заражен. Он был болен. Болезнь называлась «Проклятие Нектара» – так в официальной доктрине именовали способность видеть мир не таким, каким он должен быть, а таким, каков он есть.
Его спасение пришло оттуда, откуда он не ждал. В касте Санитаров, чьим долгом было вычищать муравейник от физического и идеологического мусора, была своя оппозиция. Их называли «Ржавые». Они не стремились к революции, они просто знали, что механизм дает сбои, и пытались его починить, не ломая. Один из них, старый Санитар по имени Склиз, заметил странность в поведении Фикоса. Он подошел к нему, когда тот в одиночестве смотрел на протоки с отработанным фиксажом, в которых медленно тонули бракованные кадры.
– Отходы плохие нынче, – сипло проскрипел Склиз. – Раньше брак был из-за дрожи в лапках или ошибки в экспозиции. А сейчас… сейчас я вижу кадры, которые технически безупречны. Но на них… неправильный свет. Свет, которого не может быть в наших протоколах.
Фикос замер. Это была ловушка.
– Не бойся, малый, – сказал Склиз, и в его фасетках не было лжи, лишь усталая мудрость. – Я тоже когда-то болел. «Проклятием Нектара». Вылечился. Частично. Покажи, что ты прячешь.
И Фикос, поддавшись порыву, показал ему «Предрассветные шёпоты».
Склиз долго молчал, глядя на сияющие кристаллы. Потом тяжело вздохнул.
– Так вот он какой… Говорят, Тучный Барон, правитель Аристократии Усиков, коллекционирует такие артефакты. Говорят, у него в покоях есть целая галерея запретного света. Он называет это «искусством». Для нас это – смерть, а для него – развлечение.
И тогда у Фикоса родился безумный, еретический план. Он не хотел разрушать муравейник. Он хотел всего лишь одного – показать эту красоту другим. Сделать так, чтобы еще один муравей увидел рассвет. Он решился пронести один-единственный снимок на ежегодный «Бал Прогресса», куда допускались и лучшие из низших каст, и выставить его на всеобщее обозрение.
План был безумием с самого начала. Жвал уже следил за ним. Система, этот гигантский, слепой и зрячий одновременно организм, уже запустила механизмы защиты. Фикоса окружили. В ночь перед балом, когда он пытался спрятать кристалл в полости высохшего тлиного рожка, который он должен был нести как часть ритуала, его схватили.
Следствие было недолгим. Допрос вел лично Жвал.
– Преступник 9-734-Б, вы обвиняетесь в индивидуализме, эстетизме и попытке визуальной диверсии. Ваши показания?
– Я хотел показать им красоту, – тихо сказал Фикос. Его усики больше не дрожали.
– Красоту? – Жвал фыркнул. – Красота – это отлаженный механизм. Красота – это ряд муравьев, несущих груз в идеальном строю. Ты же хотел показать им хаос. Ты хотел показать им то, что не служит Коллективу. Этот твой «рассвет»… он греет? Нет. Он кормит? Нет. Он укрепляет стены? Нет. Он лишь отвлекает. Он – наркотик. А наркотики подлежат уничтожению.
Фикоса приговорили к Высшей Мере Социальной Гармонии – он должен был быть публично разобран на атомы в Гиперболоиде Единения, аппарате, который стирал личность в порошок, идущий на удобрение Грибниц.
Перед казнью ему устроили последнюю аудиенцию. Его привели в роскошные покои. На стенах, вместо предписанных схем метро и планов строительства, висели кристаллы. На них были запечатлены капли, цветы, узоры паутины и… рассветы. Десятки рассветов, в разных красках. Перед ним, на троне из слезной смолы, восседал Тучный Барон. Его брюшко было столь огромно, что он не мог передвигаться самостоятельно.
– Ах, несчастный художник! – прошелестел он, помахивая усиком. – Какой дивный кадр ты пытался нам подарить! Такая игра света! Такой трагизм! Я, знаешь ли, коллекционирую такие шедевры. Жалко, что их создатели… нежизнеспособны в нашем обществе. Твоя гибель придаст этой работе еще большую ценность. Ирония, не правда ли?
Фикос смотрел на него и понимал, что система не просто убивает инакомыслящих. Она их коллекционирует. Она делает их частью своего украшения. Она пожирает их протест и переваривает в элемент своего же богатства. Барон был не антагонистом системы. Он был ее закономерным, гнилым плодом.
Когда его повели к гигантскому, похожему на цветок аппарату, на площади собрались тысячи муравьев. Их фасеточные глаза были пусты. Верховный Оратор вещал о торжестве справедливости.
Но когда Фикоса уже подводили к сияющему жерлу Гиперболоида, он увидел Склиза. Старый санитар стоял в толпе и смотрел на него. И не на него, а поверх него, на свод пещеры. Фикос повернул голову.
В системе вентиляции, в самой ее верхней точке, кто-то установил его кристалл. И в этот миг, через шахту, пробился луч настоящего, живого утреннего солнца. Он упал на пластину, и гигантское, сияющее изображение Рассвета вспыхнуло на стене главной площади Муравейника.
На секунду воцарилась мертвая тишина. Триста миллионов муравьев увидели то, что не должно были видеть никогда. Триста миллионов пар фасеток отразили запретный свет. Послышался странный звук – не скрежет, не гул, а всеобщий, завороженный вздох.
А потом система сработала. Жвал взревел: «Диверсия! Отвести взгляды!» Оратор завопил о коварстве Врага. Солдаты бросились к вентиляционной шахте. Свет погас.
Фикоса стерли в порошок. Его кристалл раздробили. Склиза и его сообщников казнили на следующей неделе. Бал у Тучного Барона прошел как обычно. Муравейник жил дальше.
Но что-то изменилось. Незначительная, неучтенная песчинка попала в шестерни идеального механизма. Иногда, в час, когда по радиоточкам транслировали бодрые марши, какой-нибудь муравей-строитель, таща свою хвою, на секунду останавливался и украдкой смотрел вверх, в темноту свода, словно пытаясь разглядеть там след давно погасшего света. И в его олеиновом тельце, в самом его центре, что-то тихо щелкало, как крошечный, ни на что не влияющий, но уже не останавливающийся механизм.
Архивариус Снов
В Стеклянном Городе, где дождь был подкисленным, а солнце – отфильтрованным через купола Ультрафиолетовых Станций, самым ходовым товаром был покой. Не счастье – его считали вредным возбудителем, ведущим к неоправданным рискам и социальной нестабильности. Именно покой, ровный, как линия горизонта на мониторе, и прохладный, как эмаль раковины, продавался в знаменитых «Садах Гесперид».
Сады были гордостью Режима Благоденствия. На бесчисленных рекламных щитах, в промежутках между новостями о победах на Беспочвенных Фронтах и росте Валового Национального Спокойствия, улыбающиеся граждане вступали под сень серебристых деревьев. Их лозунг был прост и неотразим: «Забудь – и живи с чистого листа. Твой вклад в стабильность – твоя забытая боль».
Цветок Забвения, или «Геспер», был творением гения государственных биологов. Он напоминал огромный, неестественно белый мак, но сердцевина его пульсировала мерцающим, как экран с заставкой, светом. Его пыльца, «манна», была тем самым волшебным эликсиром. Попадая в легкие, она точечно выжигала нейронные связи, отвечающие за конкретное, выбранное тобой неприятное воспоминание. Добровольно, разумеется. И под наблюдением Социальных Инженеров.
Лео был Архивариусом Седьмого Округа. Его мир состоял из запаха старой бумаги, пыли на катушках магнитных лент и тихого гуения серверов, хранивших оцифрованные копии всего, что горожане так стремились забыть. Он был не писателем, не героем, а скромным библиотекарем забвения. Его работа заключалась в том, чтобы принимать, каталогизировать и хранить «депозиты» – распечатанные описания или аудиозаписи воспоминаний, которые граждане приносили перед визитом в Сады. Считалось, что сам ритуал фиксации на бумаге или пленке усиливает очищающий эффект манны.
Лео не был бунтарем. Он был конформистом по натуре, человеком, который верил в порядок, каталоги и правила. Но годы работы среди чужих трагедий, предательств и несбывшихся надежд создали в его душе странный осадок. Он видел, как люди приносят в жертву не только боль, но и нежность, любовь, стыд, радость – все, что делало их личностями, а не гладкими единицами статистики. Они стирали ссоры с любимыми, чтобы остаться в удобном, но безжизненном браке. Они стирали память о погибших детях, потому что горе мешало трудовой дисциплине. Они стирали мечты стать художником, музыкантом, путешественником, потому что эти мечты вызывали диссонанс с их серой, предсказуемой реальностью.
Его начальником был доктор Айзек Вейл, главный Социальный Инженер Округа. Человек с лицом, лишенным каких-либо заметных эмоций, и голосом, похожим на ровный гул вентиляции. Он был апологетом системы.
– Лео, ваш КПД по обработке депозитов упал на 2%, – говорил он, просматривая отчеты. – Вы слишком много времени проводите за чтением. Ваша задача – архивировать, не рефлексировать. Помните, каждое стертое воспоминание – это кирпичик в стене нашего общего благополучия. Личная боль – это роскошь, которую наше общество не может себе позволить.
Однажды в Архив пришла женщина. Ее звали Клара. Она была не похожа на других посетителей – с опустошенными, словно выгоревшими глазами. Она принесла депозит: воспоминание о своем муже, Адаме, который не погиб и не ушел к другой. Он просто исчез. Он был поэтом. И однажды, прочитав ей свои стихи о «запахе настоящего дождя» и «цвете неотфильтрованного неба», он вышел из дома и не вернулся. Власти объявили его «добровольным эмигрантом в небытие» – официальный термин для тех, кто отказался от благ цивилизации.
– Я хочу забыть его, – сказала Клара, и ее голос был безжизненным. – Я хочу забыть его голос, его стихи, его улыбку. Я хочу забыть, что он существовал. Больше не могу.
Лео принял конверт. По правилам, он должен был просто присвоить ему номер и отправить в хранилище. Но что-то в этой женщине, в ее абсолютной, отчаянной решимости стереть не просто боль, а саму суть любви, задело его. Впервые за всю карьеру он нарушил протокол. Он не просто подшил депозит. Он его прочел. И не выбросил, как положено, ключ-карту от ячейки с аудиозаписью.
Ночью, в гулкой тишине Архива, он вставил карту в проигрыватель. И услышал голос. Не Клары, а Адама. Это была запись его стихов, сделанная ею тайком. Голос был тихим, но твердым, полным странной, неукротимой жизни. Он говорил о вещах, которых в Стеклянном Городе не существовало. О ветре, который «не пахнет озоном от кондиционеров». О звездах, которые «не точки на куполе, а бездны». И в конце, почти шепотом: «Они продают нам анестезию, выдают за покой. Но я предпочитаю боль настоящей жизни их иллюзии. Я ухожу искать Край, где память не преступление».
Лео выключил запись. Его руки дрожали. Это было не просто воспоминание. Это было свидетельство. Доказательство того, что за стенами Города, за пределами Садов, существует что-то еще. И кто-то осмелился об этом говорить.
На следующий день он увидел Клару, выходящую из Садов. Ее глаза были по-прежнему пусты, но теперь в них не было и намека на страдание. Она шла ровной, спокойной походкой, ее лицо выражало легкую, ни к чему не обязывающую улыбку. Она выглядела как все. Она была исцелена.
И Лео, Архивариус, хранитель порядка, понял, что стал соучастником убийства. Не человека, а души.
Он пришел к Вейлу, пытаясь говорить на языке системы.
– Доктор, этот случай… Стирание не просто боли, а целой личности… Не приведет ли это к… к эмоциональной стерильности? Может, есть способ…
– Лео, – Вейл посмотрел на него с легким недоумением, как на сломанный прибор. – Эмоциональная стерильность – это и есть цель. Больная ткань отсекается, чтобы здоровый организм жил. Этот «Адам» был раковой клеткой. Его стихи – это метастазы сомнения. Женщина исцелена. Общество защищено. Что вас смущает?
В тот момент Лео понял всю чудовищную логику системы. Она не была злой в классическом понимании. Она была рациональной, как машина. Ее цель – бесперебойное функционирование. Любая сложность, любая глубина, любая боль – это трение, которое мешает шестеренкам крутиться.
Он не стал революционером. Он не поджег Сады и не взорвал Гиперболоид. Он сделал то, что умел лучше всего. Он начал архивировать. Тайно. Он создал «Черный Каталог». В него он вносил не просто депозиты, а имена. Имена тех, кто принес в жертву самые яркие, самые горькие, самые человеческие свои воспоминания. Он сохранял обрывки стихов, признаний в любви, детских смехов, записанных на коленке у смертного одра, рассказы о проваленных экзаменах, о преданной дружбе, о несделанных шагах. Он собирал душу города, которую тот так старательно выбрасывал на свалку.
Его сообщником стал старый техник Сергей, чья дочь, талантливая балерина, стерла память о травме ноги и теперь работала упаковщицей на фабрике консервированного воздуха, с той же пустой улыбкой, что и Клара.
– Они не понимают, Лео, – хрипел Сергей, помогая ему настроить незарегистрированный сервер. – Они думают, что, стирая память о падении, они стирают и само падение. Но пустота, которую они оставляют… она ничуть не лучше боли. Она просто другая. Хуже.
Система, однако, не дремала. Вейл, с его безупречным чутьем на сбои, заметил аномалии в энергопотреблении Архива. Он давно подозревал, что его тихий, исполнительный сотрудник болен «ностальгией» – так официально называли тягу к запрещенным воспоминаниям.
Развязка наступила стремительно. Сергея взяли с поличным при попытке вынести микросхемы с данными. Под «мягким давлением» он сломался и назвал имя Лео.
Когда в Архив вошли люди Вейла в серых униформах, Лео не сопротивлялся. Он сидел за своим столом, перед монитором, на котором мерцала карта его «Черного Каталога» – тысячи имен, тысячи загубленных жизней.
– Архивариус Лео, – голос Вейла был, как всегда, ровным. – Вы обвиняетесь в накоплении и распространении социально опасной информации. В подрыве устоев Благоденствия. Что вы можете сказать в свое оправдание?
Лео посмотрел на него. Он не чувствовал страха. Только странную, горькую ясность.
– Я ничего не распространял, доктор. Я просто хранил. Как и положено Архивариусу. Вы стираете память, чтобы люди не знали, кто они. Я же просто… сохраняю их подлинные имена.
Его приговорили к принудительной реабилитации. Не к тюрьме – тюрьмы были неэффективны. Его отвели в самый центр Садов Гесперид, в Павильон Высшей Очистки.
Перед процедурой к нему зашел Вейл.
– Вы уникальный случай, Лео. Вы не просто носитель опасных воспоминаний. Вы – их накопитель. Ваше очищение будет тотальным. Мы вернем вас к состоянию чистого листа. Вы забудете и этот разговор, и свой «Черный Каталог», и ту женщину, Клару, и стихи ее мужа. Вы забудете, что такое боль утраты, горечь предательства и яд сомнения. Вы будете счастливы.
Лео молчал. Он смотл в безупречно белый потолок.
Его пристегнули к креслу. Над ним склонился гигантский цветок Геспера, его сердцевина замерцала ярче, чем когда-либо. Облако золотистой пыльцы окутало его лицо. Он сделал глубокий вдох.
Он забыл. Все. И боль, и любовь, и стихи о дожде, и Сергея, и Вейла, и Клару, и свой собственный протест. Он стал идеальным гражданином. Его назначили на простую, не требующую рефлексии работу – сортировщиком упаковок с консервированным воздухом. Он улыбался своей ровной, безмятежной улыбкой. Он был счастлив.
Но иногда, проходя мимо здания Архива, он на секунду останавливался. Он не помнил, почему. В его очищенном сознании всплывал странный, ни на чем не основанный образ: пыльное солнце, пробивающееся сквозь стекло витрины, и запах… запах старой бумаги. И на его идеально спокойном лице на мгновение появлялось выражение, которого там быть не должно было – тень безотчетной, непонятной тоски.
А в глубинах заброшенных серверов Архива, в лабиринте неучтенных кабелей, тихо гудел спрятанный жесткий диск. Мигала маленькая лампочка. «Черный Каталог» ждал. Память, даже похороненная, была еще жива. Система стерла Архивариуса, но не смогла стереть Архив. И в этой горькой иронии таилась крошечная, хрупкая, как первый подснежник в бетонной трещине, надежда.
Человек-шайба
Гиперзавод «Прогресс-Единство» был не предприятием, а вселенной, заключенной в стальные своды. Воздух здесь был густым коктейлем из машинного масла, озона и испарений раскаленного металла. Свет, никогда не гаснущий, лился из люминесцентных трубок, окрашивая все в мертвенный, синеватый оттенок. Звук – оглушительная симфония из гула моторов, лязга автоматических манипуляторов и монотонного стука штамповочных прессов – был настолько постоянным, что в редкие минуты тишины у рабочих закладывало уши.
В этой вселенной, на участке 7-Г-Эпсилон, сорок лет своей жизни проработал Артем, известный в табеле учета как Оператор-Наладчик 3-го разряда 734-Б. Его мир был ограничен радиусом действия его станка – «Титан-7М», циклопического сооружения из рычагов, шестерен и конвейерных лент. Задача Артема была проста, как удар молотка: каждые сорок семь секунд брать с подающей ленты небольшую, отполированную до зеркального блеска металлическую деталь – шайбу. Проверять ее на отсутствие дефектов, вручную доводить до идеала, если требовалось, и укладывать на принимающую ленту, которая уносила ее в черный зев следующего цеха, запечатанный стальной шторой.