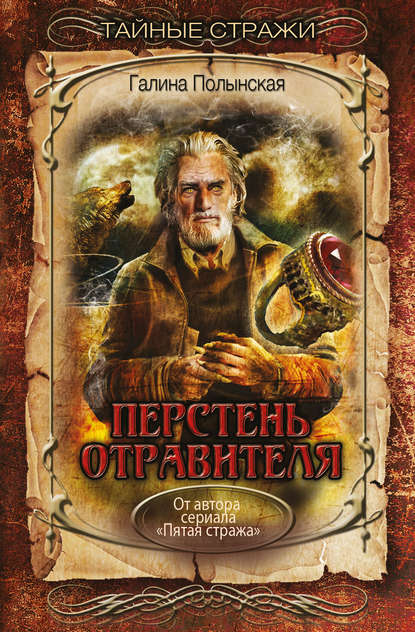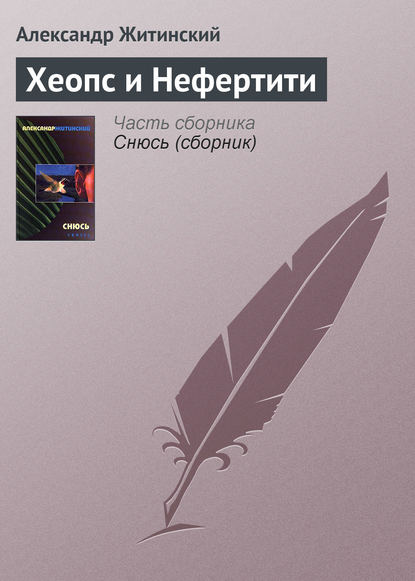Детские политические сказки для взрослых. Том II
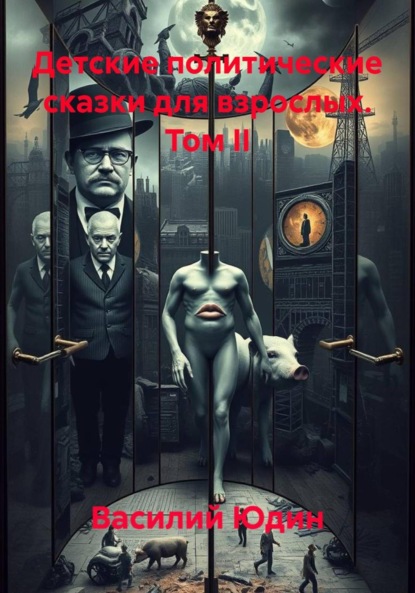
- -
- 100%
- +
– Игнатий Васильевич, да вы в уме? Это же хлеб!
– Приказ, Степан, – устало сказал агроном, отводя глаза. – Циркуляр из самого Центра. Нам приказали сеять сою.
– Какую сою?! – взревел Степан. – Здесь ей не расти! Это же гибрид, ему нужны тонны химикатов!
– Я знаю, – прошептал Игнатий. – Но это приказ.
Степан, стиснув зубы, завел свой старенький «Владимирец». Гусеницы с лязгом врезались в спелые колосья. Золото превращалось в зеленую жижу. Он плакал, сидя в кабине, но давил на газ. Он был винтиком. Винтики не спорят.
Звено третье: Мельник.
На местной мельнице, которую кормила пшеница с поля «Нива-7», работал старый мельник Архип. Он молол муку, которую потом пекли в окрестных деревнях. Мука «Ауреи» была особенной – душистой, нежной. Из нее получался самый вкусный в мире хлеб.
Когда пшеницу перепахали, поток зерна к мельнице прекратился. Архип ждал неделю, две. Потом пришло официальное уведомление: «В связи с реструктуризацией посевных площадей и ориентацией на экспортно-ориентированные культуры, поставки зерна сорта «Аурея» прекращены. Мельница №3 подлежит консервации».
Архип стоял посье своей пустой мельницы. Безжизненно висели жернова. Пахло не свежей мукой, а пылью и горечью. Его жизнь, дело его предков, было уничтожено циркуляром, о котором он никогда не слышал.
Звено четвертое: Пекарь.
В деревне Светлой, в своей маленькой пекарне, Мария пекла тот самый хлеб из муки Архипа. Его покупали все. Он был вкусом детства, вкусом дома. Люди специально приезжали из города. Когда мука закончилась, Мария попыталась печь из привозной. Но это был безликий, ватный мякиш. Клиенты разошлись. Пекарня закрылась. Мария осталась без работы и без куска хлеба, который когда-то сама же и создавала.
Звено пятое: Семья.
У Марии был сын, Антон. Он учился в техникуме в губернском городе. Деньги на учеду и общежитие Мария высылала ему из доходов пекарни. Денег не стало. Антону пришлось бросить учебу и вернуться в деревню, чтобы помогать матери. Его мечта стать инженером рассыпалась в прах.
Прошел год. Тит Люциус Септимус получил премию «За эффективное управление» и повышение. Отчет из региона «Золотой Колос» лег на его новый, полированный стол. В нем говорилось, что «план по коэффициенту эффективности выполнен на 102%». Соя-гигант, как и предсказывал Игнатий, не прижилась. Поле «Нива-7» было заброшено и заросло бурьяном. В отчете это называлось «вывод земли из сельскохозяйственного оборота для восстановления плодородного слоя».
Тит не стал вникать. Он поставил на отчете резолюцию «Согласен» и подписался. Его подпись была такой же аккуратной и безжизненной, как и год назад.
А в деревне Светлой Мария и Антон пили вечерний чай с хлебом из соседнего супермаркета. Он был мягким, воздушным и абсолютно безвкусным.
– Почему все так вышло, мам? – спросил Антон. – Почему закрылась мельница? Почему ты не печешь больше свой хлеб?
– Не знаю, сынок, – тихо ответила Мария, глядя в окно на темное поле. – Говорят, был какой-то приказ. Из самого Центра.
Они не знали о существовании Тита, Игнатия или Степана. Они не видели циркуляра №734-Б. Они лишь пожинали его горькие плоды. В Империи Белых Стеллажей одна маленькая подпись, поставленная человеком, не видящим дальше своего стола, могла перемолоть в пыль сотни жизней, даже не узнавших имени своего палача. И это был самый совершенный, самый бесчеловечный вид насилия – насилие, совершаемое абстракцией над реальностью.
Священный Мануал Ржавого Бога
Племя Железноруких жило в Каменном Гнезде, как они называли руины небоскреба «Титаник-Плаза». Их мир был ограничен грудой искривленного металла, оплетенного лианами, и заросшими трещинами в асфальте, которые они почитали за священные реки. Воздух здесь всегда пахнул озоном после грозы и сладковатой гнилью разлагающейся пластмассы. Их божеством был Ржавый Бог, Великий Создатель, который, как гласила Книга (обрывок руководства по эксплуатации промышленного кондиционера), «сотворил мир за семь циклов охлаждения, а на восьмой – предался покою, ибо температура достигла заданных параметров».
Жрецы, каста Избранных, были единственными, кто мог толковать Священные Тексты – выцветшие мануалы, инструкции к микроволновкам и полустертые этикетки с правилами техники безопасности. Они носили ритуальные одеяния, сшитые из старых матричных распечаток, а на шеях у них висели «Ключи Знания» – отмычки и скрученные провода в пластиковой оплетке.
Элитой племени были Сыны Розетки – воины и охотники, находившие и приносившие в жертву Ржавому Богу самые ценные артефакты: микросхемы, транзисторы, целые блоки питания. Они верили, что однажды, когда будет собрана足够 (достаточно) священных деталей, Бог пробудится и вернет мир к состоянию «номинального напряжения», описанного в Писании.
Внизу социальной лестницы копошились Чистильщики Контактов – те, кто очищал найденные артефакты от грязи и окисления, и Поглотители Статики – изгои, которым поручали самые опасные работы в «Зонах Молчания» (районах с высоким радиационным фоном), дабы их тела впитали «гнев Божий».
Главным героем этой истории был юный Чистильщик по имени Искра. Он был мал, тщедушен и обладал опасным даром: он умел читать. Не просто складывать буквы, а понимать их. Он проводил дни, очищая медные дорожки плат, и ночи, тайком вглядываясь в выброшенные жрецами «апокрифы» – обрывки журналов, книг, этикеток. Его ум, не отягощенный догмами, начал задавать крамольные вопросы.
– Отец, – спросил он однажды у старейшины-чистильщика, – почему мы молимся на этот черный ящик с кнопками? (Он имел в виду системный блок).
– Молчи, дитя! – испуганно прошипел старик. – Это Алтарь Ввода! Через него наши молитвы, нажатия на Священные Кнопки, достигают Центрального Процессора Бога!
– Но внутри только пыль и паутина, – возразил Искра. – И мертвые жуки.
– Это – испытание нашей веры! – отрезал старейшина.
Верховный Жрец, человек по имени Быт-Протокол, был живым воплощением системы. Его лицо напоминало клавиатуру, изъеденную временем, а голос скрипел, как не смазанный подшипник. Его власть держалась на невежестве. Он не просто верил в Ржавого Бога – он верил в свою роль его пророка.
– Смотрите! – вещал он с «Балкона Обратной Связи» (останков пожарной лестницы). – Бог оставил нам Четкие Инструкции! «Вставьте вилку в розетку». Это значит – обретите связь с силой! «Нажмите кнопку POWER». Это значит – проявите волю! «Не разбирайте корпус». Это – запрет на сомнения! Горе тому, кто нарушит Завет!
Искра не мог молчать. Нашедший редкий артефакт – целую клавиатуру – он не отнес ее Сынам Розетки, а утаил. Ночью, при свете светлячков, помещенных в прозрачные корпуса от мышек («Священные Фонари»), он изучал ее. Он нажимал клавиши, и ему казалось, что он общается с самим Богом, минуя жрецов.
Апофеозом его ереси стала находка в запретной «Зоне Молчания» – полуистлевшая книга с картинками. «Краткая история человечества». Он увидел изображения людей, которые не молились на технику, а создавали ее. Увидел города, полные света, не от «Священных Светодиодов», а от миллионов окон. Он увидел самолеты и понял, что «Великий Грохот», с которого, по учению жрецов, началось время, был не гневом Бога, а войной этих самых людей.
– Они не боги! – с пылающими глазами кричал он нескольким другим чистильщикам. – Они были как мы! Они создали все это! А потом уничтожили сами! Мы молимся на обломки их безумия!
Его сообщники испуганно разбежались. Один из них, желая выслужиться, донес жрецам.
Искру схватили. На суд, именуемый «Процедурой Аппаратной Проверки», собралось все племя. Быт-Протокол был беспощаден.
– Обвиняемый, Искра, чистильщик низшего разряда, уличен в чтении апокрифов, нарушении Заповедей и распространении ереси «Самостоятельного Прочтения». Он утверждает, что Великий Создатель – не Бог, а такой же, как мы! Что вы можете сказать в свое оправдание?
– Я говорю правду! – выкрикнул Искра, держа в дрожащих руках свою книгу. – Смотрите! Вот они, те, кто все построил! Мы не должны бояться обломков! Мы должны учиться!
Жрец взял книгу, пролистал ее с видом эксперта и торжественно провозгласил:
– Это – не Священный Текст! Здесь нет ни серийных номеров, ни предупреждений! Это – фантазия! Кошмар! Ты принес в наше Гнездо безумие Древних! Твоя вина доказана. Ты – вредоносная программа, подлежащая удалению.
Его приговорили к высшей мере – «Вознесению на Антенну». Это означало быть привязанным к самой высокой металлической мачте во время сезона гроз, дабы «статическое электричество очистило его душу».
Перед казнью Быт-Протокол посетил его в камере (запертой кладовке с broken handle – «сломанной ручкой»).
– Юный глупец, – сказал он беззлобно. – Ты думаешь, я не знаю? Я читал не меньше твоего. Я видел те же картинки.
– Тогда почему?! – взвыл Искра. – Почему ты лжешь им?
– Потому что правда бесполезна! – голос жреца впервые зазвенел сталью. – Что она даст им? Знание, что они живут на свалке? Что их боги – это тени сумасшедших? Они сломаются! Племя распадется! Наша вера, наши ритуалы – это то, что держит нас вместе. Это ОС – операционная система нашего выживания. А ты хотел ее переустановить, не имея дистрибутива! Ты не спаситель. Ты – вирус.
Искру вознесли на антенну. Когда началась гроза, и молнии стали бить в металлические шпили руин, он не молился. Он смотрел на освещенные вспышками очертания мертвого города и смеялся. Он смеялся над абсурдом, над гибелью цивилизации, породившей новое варварство на своих костях.
Его тело нашли обугленным. Жрецы объявили, что Ржавый Бог отверг еретика. Племя жило дальше. Но что-то изменилось. Слова Искры, как вирус, проникли в умы некоторых молодых чистильщиков. Они уже не могли смотреть на «Священную Розетку» без тайной, едкой усмешки.
А однажды, группа этих юношей, рискуя жизнью, пробралась в «Святая Святых» – серверную комнату, куда имел доступ только Быт-Протокол. Они не нашли там Бога. Они нашли лишь горы праха, скелет крысы на клавиатуре и на стене полустертую надпись, сделанную рукой одного из Древних: «Запустите меня в последний раз».
Они не поняли смысла. Но сам факт был красноречивее любых проповедей. Они не устроили бунта. Они просто ушли. Ушли из Каменного Гнезда в неизвестность, унося с собой не веру в Ржавого Бога, а горькое знание, которое было, возможно, единственным настоящим наследием утраченного мира. Знание того, что боги смертны, а истина часто бывает страшнее и бесполезнее самой утешительной лжи.
Зенит Единого Лика
В Городе Ступеней не было горизонталей. Все было наклонным, ярусным, иерархичным. Дома аристократии, «Белые Утесы», карабкались ввысь по склонам холма, отбрасывая длинные, холодные тени на убогие лачуги «Низин», где ютился рабочий люд. Тень была мерой социального веса. Чем она длиннее и гуще, тем значимее была персона. Сам Повелитель Теней, Верховный Директор, как поговаривали, отбрасывал тень, способную накрыть целый квартал.
Идеология города зиждилась на «Вертикальном Прогрессе». Лозунги гласили: «Каждая тень – след восхождения!», «Сильный отбрасывает длинную тень слабого!», «Стремись к свету, и твоя тень укажет путь другим!». Экономика была основана на «световом налоге»: жители Низин платили за право хотя бы на час в день выйти из-под сеньи Белых Утесов. Их жизнь проходила в полумраке, их кожа была бледной, а глаза привыкли щуриться.
Но раз в году, в день летнего солнцестояния, происходило чудо. Ровно в полдень солнце вставало в зените, и на сорок семь секунд тени исчезали. Абсолютно. Гигант и нищий, дворец и лачуга – все оказывались в одной, ослепительной точке настоящего. Не было прошлого, не было будущего, не было «выше» и «ниже». Было только плоское, тотальное, выжигающее сетчатку «сейчас».
Власти провозгласили этот феномен величайшим праздником – «Зенитом Единого Лика». Символом всеобщего равенства перед ликом Светила. В этот день отменялись все сословные ограничения. Жителям Низин разрешалось подниматься в верхние город, чтобы «вместе с братьями по вертикали ощутить благодать бестеневого единства».
Главный герой, молодой рабочий литейного цеха по имени Эмиль, поначалу был ярым сторонником праздника. Для него эти сорок семь секунд были глотком свободы. Он верил лозунгам. Он видел, как аристократы в шелках и рабочие в промасленной робе стоят плечом к плечу, зажмурившись от непривычного света, и ему казалось, что мир вот-вот переродится.
Его отец, старый, поседевший в тенях литейщик, лишь горько усмехался.
– Равенство? Они продают нам иллюзию, сынок. На сорок семь секунд. А потом тени возвращаются. И знаешь что? После этой вспышки они кажутся еще чернее. Это не праздник равенства. Это – прививка. Прививка от надежды.
Антагонистом системы был не человек, а сама ее структура. Ее голосом был Канцлер Просвещения, синьор Лючиус, человек с лицом, напоминавшим отполированный мрамор, и улыбкой, холодной, как лунный свет. Он был архитектором праздника. Накануне «Зенита» он выступал с речью с Главной Смотровой Площадки:
– Завтра мы все станем братьями! Солнце, наш великий Санитар, на сорок семь секунд очистит мир от теней – этих пережитков индивидуальности! Мы будем как один организм, одно целое! Это и есть истинная демократия света!
Эмиль слушал и верил. В этом году он поднялся в верхний город не один, а с дочерью садовника, Лили. Они мечтали в эти сорок семь секунд, стоя в толпе, держаться за руки, не чувствуя разницы в своих загрубевших ладонях.
Праздник начался с ритуала «Очищения». Гигантские зеркала, управляемые инженерами синьора Лючиуса, ловили первые лучи солнца и направляли их в Низины, выжигая последние клочки утренней тени. Толпа ликовала. Люди поднимались по лестницам, смешивались. Аристократы с плохо скрываемым отвращением терпели соседство «пахнущих потом».
Эмиль и Лили нашли место на площади. Солнце пекло макушки. Эмиль смотрел на циферблат огромных часов на башне. Оставались секунды.
– Пять… четыре… три… – считала толпа.
Эмиль взял Лили за руку.
– Два… один…
И оно наступило. Ослепительная, оглушающая тишина света. Тени исчезли. Эмиль зажмурился, чувствуя, как слезы выжигаются на его глазах. Он чувствовал плечо соседа-аристократа, слышал его учащенное дыхание. Они были одинаковы. Никто никого не заслонял. Он сжал руку Лили. Это был миг абсолютной, невесомой свободы.
Но затем он открыл глаза. И увидел то, чего не замечал раньше. Без теней мир стал плоским, лишенным объема. Дворец и хижина слились в одну яркую, но безликую плоскость. Исчезла глубина. Исчезла текстура. Исчезла индивидуальность. Это было равенство, но равенство пустоты. Одинаковость.
И в этот миг он увидел синьора Лючиуса. Канцлер стоял на балконе, и на его лице была не улыбка причастности, а холодная, научная удовлетворенность экспериментатора. Он смотрел на толпу, как на выверенный биологический процесс.
«Он не верит в это, – пронзила Эмиля мысль. – Он использует это».
Сорок семь секунд истекли. Первая, острая, как нож, тень от шпиля башни упала на площадь, разрезая толпу пополам. Затем появились другие. Ликующие крики стихли. Миг иллюзии рассеялся. Аристократы, поморщившись, отодвинулись от простонародья. Мир вернулся в свою колею.
Но для Эмиля все было уже иным. Теперь он видел механизм. Иллюзия равенства была нужна системе, чтобы снять социальное напряжение. Это был предохранительный клапан. Дать людям глоток утопии, чтобы они не требовали ее всегда. Показать, что равенство возможно, но лишь как краткий, неестественный, почти болезненный миг, после которого реальность с ее неравенством кажется даже комфортнее.
В тот вечер, спускаясь в Низины, Эмиль и Лили шли в густой, привычной тени. Но теперь Эмиль смотрел на нее не с тоской, а с новым пониманием.
– Ты права, отец, – прошептал он. – Это прививка. Они показывают нам свет, чтобы мы полюбили свою тьму.
Он не стал революционером. Он не призывал к бунту. Но он изменился внутри. Он больше не верил в «Зенит». Он понял, что настоящее равенство – это не миг без теней, а общество, где тени имеют право быть разной длины, но ни одна из них не имеет права угнетать другую. Где свет принадлежит всем, а не лишь тем, кто живет на вершине.
На следующий день он вернулся в литейный цех. Солнце снова светило под углом, отбрасывая длинные, четкие тени. Жизнь в Городе Ступеней шла своим чередом. Но в сердце Эмиля, озаренное на сорок семь секунд ослепительным, обжигающим светом правды, навсегда поселилась крошечная, но неистребимая тень сомнения. И в этом была его горькая, одинокая победа. Система могла управлять светом, но она не могла контролировать тьму, которую он порождал в пробудившихся душах.
Диссонанс
В Городе Гармоничных Созвучий эмоции были не спонтанным проявлением души, а регламентированным ритуалом. Существовал «Эмоциональный Протокол» – толстенный фолиант, предписывавший, когда, как и сколько надлежит улыбаться, грустить, восхищаться или негодовать. Смех, к примеру, имел 12 официально утвержденных градаций: от «Вежливой Усмешки Согласия» (уголки губ приподняты на 0.5 см) до «Одобрительного Смеха Начальства» (три коротких, ритмичных «ха-ха-ха» с максимальной амплитудой раскрытия рта в 3 см).
Социальное устройство было выстроено вокруг этого культа. Наверху пирамиды стояли Регуляторы Чувств – чиновники, следившие за соблюдением Протокола. Их дети с младенчества обучались в Академии Эмоциональной Гармонии. Ниже – класс Исполнителей: актеры, певцы, ведущие, чьи лица были идеально откалиброванными масками. И в самом низу – простые граждане, «Статисты», чья главная задача была – не высовываться и вовремя включать предписанную эмоцию.
Главный герой, господин Адам А., был мелким клерком в Департамечети Статистики. Он был идеальным статистом. Его улыбка всегда была «Умеренно-Дружелюбной», его сочувствие – «Тактично-Отстраненным». Он был шестеренкой, которая не скрипела.
Все изменилось в тот день, когда он стал свидетелем падения Регулятора Высшего Ранга с трапа воздушного судна. Это была ужасная трагедия. Толпа замерла в «Торжественном Ужасе» (брови сведены, рот приоткрыт, дыхание задержано). Но Адам А. вдруг почувствовал, как в его горле поднимается странный, непрошенный ком. И он захохотал. Не «Одобрительным Смехом», а диким, истеричным, животным хохотом, который терзал его глотку и заставлял слезы литься из глаз.
На него обрушился шквал «Единого Общественного Презрения». Его схватили и доставили в Кабикт Эмоциональной Коррекции.
– У вас диагностирован «Диссонанс», – сказал ему Регулятор, доктор Ф., человек с лицом, напоминавшим гладкую поверхность озера в безветренную погоду. – Это опасное социальное заболевание. Ваш смех был неуместен. Он внес хаос в гармонию.
– Но я не мог сдержаться! – попытался оправдаться Адам. – Это было… нелепо!
– Нелепость – не оправдание, – холодно парировал доктор Ф. – Эмоция должна служить обществу, а не вашим личным, сиюминутным порывам. Вам предписан курс «Эмоционального Выравнивания».
«Лечение» заключалось в просмотре тысяч часов видеозаписей с «правильными» эмоциональными реакциями. Его кормили пресной пищей, дабы не возбуждать вкусовые рецепторы, и заставляли часами слушать монотонные гимны Гармонии.
Но болезнь лишь усугубилась. Выйдя на свободу, Адам А. обнаружил, что полностью потерял контроль. На похоронах коллеги, когда все стояли в «Благоговейной Скорби», он заливился смехом, глядя на слишком пышный венок в форме служебного значка. На церемонии вручения государственной награды, в момент высшего пафоса, он разрыдался, увидев, как у героя дня дрожит от воления рука.
Он стал изгоем. «Человеком, который смеется невпопад». Его уволили. С ним перестали общаться соседи. Дети тыкали в него пальцами. Но странная вещь: его «болезнь» начала заражать других. Кто-то, услышав его дикий хохот на официальной церемонии, вдруг фыркал, пытаясь сдержать свой собственный, запретный смешок. Кто-то, видя его слезы на празднике, чувствовал, как в груди шевелится их собственная, давно задавленная тоска.
Власти забеспокоились. Адам А. из социального изгоя превратился в проблему. Он стал живым символом абсурда всей системы. Его неуместный смех обнажал фальшь ритуалов. Его слезы показывали, что за предписанной радостью скрывается настоящее горе.
Доктор Ф. вызвал его на последнюю беседу.
– Адам, ваше упрямство губит вас. Вы стали «эмоциональным сорняком», отравляете почву нашего общества. Ваш смех – это анархия. Ваши слезы – это яд.
– А может, это ваша «гармония» – и есть яд? – впервые дерзко возразил Адам. Его собственная смелость удивила его. – Вы требуете, чтобы люди грустили и радовались по команде. Разве это не абсурд?
– Абсурд? – Доктор Ф. позволил себе легкую, «Снисходительную Улыбку». – Дорогой мой, общество – это машина. А в машине не должно быть деталей, которые вибрируют не в такт. Вы – такая деталь. И вас либо починят, либо… заменят.
Адаму предложили последний шанс – добровольную лоботомию в Центре Гармонизации, процедуру, которая навсегда лишила бы его способности испытывать спонтанные эмоции. Он отказался.
Его арестовали по статье «Эмоциональный саботаж». Суд был скорым. Его признали «социально опасным элементом, неспособным к интеграции в гармоничное общество».
Но система, столь безупречная в теории, дала сбой. В день оглашения приговора, когда судья зачитывал решение с лицом, выражавшим «Непоколебимую Справедливость», Адам А. снова засмеялся. На этот раз его смех был не истеричным, а спокойным, глубоким, почти философским. Он смотрел на эту идеально отрепетированную трагедию и видел в ней высшую форму комедии.
И произошло нечто неожиданное. В зале суда, среди статистов и репортеров с их калиброванными лицами, кто-то тихо, почти неслышно, всхлипнул. Потом еще один. А потом молодой репортер, поймав на себе взгляд Адама, вдруг улыбнулся. Не улыбкой «Тактичного Согласия», а настоящей, живой, человеческой улыбкой.
Система не рухнула. Адама А. все равно увезли в исправительную колонию для «эмоционально нестабильных». Но семя было посеяно. Его «диссонанс» эхом отозвался в душах тех, кто устал от вечного спектакля.
В колонии, лишенный общества, Адам А. иногда смеялся без причины. Он смеялся над муравьем, тащившим крошку хлеба, над формой облака, над собственным отражением в миске с водой. И в этом смехе, абсолютно свободном и неуместном, была горькая, одинокая победа. Он проиграл системе, но сохранил то, что она так и не смогла у него отнять – право чувствовать невпопад. И в мире, где все эмоции были уместны, именно его неуместный смех был, возможно, самым честным и человеческим проявлением из всех.
Последний смех Соломенного Короля
В городе Благонадежнинске, утопающем в пыли и бюрократических циркулярах, единственной валютой, имевшей вес, была Бумага. Не та, что с чернильными кляксами детских слез, а казенная, с гербовой печатью, оттиснутой так глубоко, будто вдавливали в саму душу города. Герб изображал Улыбку. Не лицо, не фигуру – лишь одинокая, идеально подогнанная дуга улыбки, паспортного размера, 3 на 4 сантиметра. Этой улыбкой сияли со стендов, ее требовали предъявить при получении пайка, ее отсутствие каралось штрафом за «насаждение уныния».
Город был разделен на три Уступа. Верхний Уступ, где воздух был густ и сладок от аромата жареных лебедей и патоки, населяли Бланкописы. Они не имели лиц, лишь гладкие, как яйцо, овалы, на которые они при необходимости приклеивали ту самую казенную Улыбку. Их дети, малые Бланкописы, играли в серсо обручами от испорченных дел и пили густой сироп из фонтанчиков.
Нижний Уступ, он же Жилмассив, был царством Серости. Небо здесь было вечно затянуто паутиной проводов, по которым передавались приказы, а дома стояли так тесно, что соседи через стену слышали не слова, лишь вздохи. Жители, прозванные Тенями, ходили, сгорбившись, их рты были стерты в прямые, безвольные линии. Они производили все: от гвоздей до тех самых казенных Бумаг, но сами владели лишь разрешением на существование.
А между ними, на Среднем Уступе, ютился Базарчик – место, где официальная Благонадежность давала трещину, как пересушенная глина. Здесь пахло жженым сахаром, кожей и легкой крамолой. И здесь, в покосившейся будке, некогда бывшей сторожкой при часовне, жил и работал старик по прозвищу Беззубик.
Настоящего его имени не помнил никто. Беззубиком он стал после того, как в голодные годы сдал все зубы за паек сахару для больной дочери. Дочь унесла чахотка, а у стака остались впалые щеки и беззубая, но поразительно добрая усмешка. Он был худ, подвижен, и глаза его горели двумя живыми угольками в паутине морщин.
Беззубик был кукольником. Но не простым. Его театр был диковинкой. Он не ставил сказок о принцессах. Он показывал «Современные истории для юного гражданина».