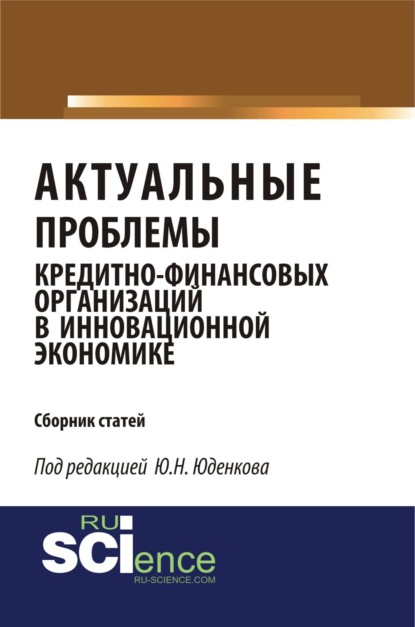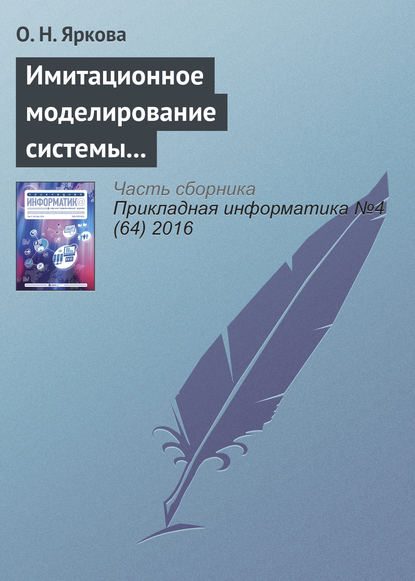Детские политические сказки для взрослых. Том II

- -
- 100%
- +
Власти поначалу благоволили к нему. «Эстетическое воспитание подрастающего поколения в духе лояльности», – значилось в разрешении, выданном ему инспектором по забавам, товарищем Пупковым. Пупков был жирным, потным мужчиной с вечно влажными ладонями и улыбкой, которая казалась нарисованной поверх его настоящего лица.
Но очень скоро благосклонность сменилась недоумением, а затем – леденящим ужасом.
Вот сюжет одного из его спектаклей, под названием «Как Толстопуз спасал репу».
На сцену, сооруженную из ящиков и занавешенную старым ковром, выходила кукла-марионетка, поразительно похожая на товарища Пупкова. Тот же отвислый живот, заправленный в аляповатые штаны, та же лысина, начищенная до блеска. Имя у куклы было – Граф Репкин. Он сидел на горке из бутафорских реп и кричал писклявым голосом: «О, какая тяжкая ноша! Бремя власти! Я должен съесть все эти репы, чтобы они не испортились и не смущали умы простого народа!»
Затем появлялась худая, вертлявая кукла с лицом, напоминающим заместителя Пупкова, Крохина. «Ваше Сиятельство! – визжала она. – Репы протестуют! Они хотят, чтобы их ели по справедливости!»
«Неслыханно! – вопил Граф Репкин. – Немедленно издать указ: все репы являются моими личными друзьями. А друзей не едят. Их… конфискуют в пользу дружбы!»
И начинался танец: Граф Репкин и его приспешники, под мелодию похоронного марша, играемую Беззубиком на расческе с приложенной бумажкой, набрасывались на маленькие деревянные репки-куколки, запихивали их в мешки, а те, у кого не было мешков, засовывали их себе в одежду, отчего становились еще толще.
Дети, сидевшие на корточках перед будкой, заходились хохотом. Они-то знали, что на прошлой неделе товарищ Пупков издал указ о «добровольной сдаче излишков овощей с приусадебных участков на нужды города».
Власти попытались прикрыть театр. Но тут случилось неожиданное. Дети Бланкописов, случайно заглянувшие на Базарчик, принесли весть о невероятном кукольнике в Верхний Уступ. Вскоре у будки Беззубика стали появляться кареты. Маленькие Бланкописы, изнывающие от скуки в своих сиропных кущах, требовали «посмотреть на смешного Толстопуза».
Арестовать Беззубика? Легко. Но как объяснить это детям верхов? Их плач мог вызвать ненужные вопросы у вышестоящих инстанций. Товарищ Пупков ломал голову. Он вызвал старика к себе.
Кабинет Пупкова был обит звукопоглощающим бархатом цвета запекшейся крови. Сам он восседал в кресле, похожем на гигантскую пиалу.
«Старик, – начал он, всасывая в себя воздух сквозь зубы. – Твое искусство… ценно. Но оно смущает умы».
«Ваша правда, товарищ инспектор, – беззвучно улыбнулся Беззубик. – Я и смущаю. Смущаю их от скуки. Чтобы веселее было».
«В твоих спектаклях усматривают намеки!» – Пупков стукнул кулаком по столу.
«Намеки? – удивился старик. – Да я же про репки. Про овощи. Разве у вас, во власти, есть время на репки? Вы заняты великими делами».
Пупков понял, что в лоб не взять. Он изменил тактику.
«Вот что, дед. Мы дадим тебе официальный статус. Будем платить. Будешь ставить спектакли по нашим сценариям. О том, как
Граф Репкин заботится о репках. Как он их… поливает».
Беззубик помолчал, глядя на свою стоптанную обувь.
«Благодарю за честь, – сказал он наконец. – Но мои куклы… они из соломы и старого тряпья. Ваши сценарии будут для них слишком тяжелы. Они порвутся».
Пупков выдержал паузу, его глаза сузились до щелочек.
«Солома, говоришь? – прошипел он. – Знаешь, что бывает с соломой? Она легко вспыхивает».
Угроза висела в воздухе, густая, как патока. Но Беззубик лишь кивнул и вышел.
На следующий день он поставил новый спектакль. Название было шедевром сатиры: «О том, как Благородный Светлячок учил букашек любить тьму».
Главный герой, кукла с лицом Пупкова, но с приделанным к заду светящимся фонариком, объявлял ночь – днем, потому что так «удобнее для учета». Он заставлял букашек носить темные очки и петь гимны мраку. А когда один маленький сверчок осмелился стрекнуть, что ему не видно дороги, Светлячок-Пупков наступил на него ногой и объявил: «Тьма – это новый свет! А тот, кто его не видит, – вредитель!»
Дети хохотали до слез. Взрослые Тени, стоявшие позади, переглядывались, и в их глазах, потухших и безразличных, проскакивали те самые искры, которых так боялись Бланкописы.
Власть решила действовать тоньше. Они запустили своего «кукольника». Молодой человек в ярком кафтане, выпускник Академии Государственных Забав, открыл напротив будки Беззубика свой театр. Его куклы были лакированные, механические, они разговаривали громкими, пафосными голосами и прославляли «Мудрость и Заботу Репкина». Детям поначалу было интересно из-за блеска, но очень скоро они вернулись к Беззубику. Его куклы были несовершенны, дергались, ниточки было видно, но в них была душа. Они были живыми.
Тогда Пупков пошел на крайние меры. Он придумал «Фестиваль Единодушия». Все кукольные театры должны были принять в нем участие, показав один и тот же утвержденный сценарий. Беззубику принесли толстую папку. Он ее взял, поблагодарил и вечером, на глазах у всей улицы, растопил ею самовар.
«Бумага – она и есть бумага, – сказал он толпе. – Горит хорошо. А для спектаклей у меня своя есть».
Фестиваль провалился. Пока казенный кукольник орал о «великом будущем», у будки Беззубика шепотом передавали:
«Сегодня Беззубик покажет новое! Говорят, про то, как Граф Репкин боится собственной тени!»
Конфликт достиг апогея. Город замер. Благонадежнинск, этот отлаженный механизм, дал сбой. Вирус свободы, переданный через соломенных кукол и детский смех, разъедал его изнутри.
И вот, темной ночью, когда луна скрылась за облаками цвета грязной ваты, к будке Беззубика подошли три тени. Это были не официальные лица, а «энтузиасты чистоты», нанятые Пупковым. Они несли канистру с керосином.
Беззубик в это время сидел внутри и чинил свою любимую куклу – Соломенного Короля, мифического правителя, который когда-то, по легенде, управлял городом справедливо. Кукла была простой: соломенное тело, веточка-скипетр и добрая улыбка, вырезанная перочинным ножом.
Дверь с треском выломали. В будку ворвался запах дешевого табака и злобы.
«Привет, старик. Пришло время твоим куклам загореться», – прохрипел первый.
Беззубик не испугался. Он медленно поднял голову. Его беззубый рот растянулся в улыбке.
«Огонь – дело хорошее, – тихо сказал он. – Но знаете, что интересно? Солома быстро сгорает. А вот тень, которую она отбрасывала, никуда не девается. Ее не сжечь».
Один из громил, самый молодой, заколебался. Он был из Нижнего Уступа, его сестра тайком водила сюда своего сына.
«Да чего с ним разговаривать!» – крикнул другой и плеснул из канистры на кукол.
Но в этот момент произошло нечто. С потолка будки, с полок, из всех углов, на нападавших уставились десятки пар стеклянных глаз. Куклы, похожие на Пупкова, на Крохина, на других чиновников, с их гротескными носами и животы, в полумраке казались живыми. Они молча смотрели на громил. И этот безмолвный суд был страшнее любых криков.
Молодой парень отшатнулся. «Я не буду…» – пробормотал он и выбежал из будки.
Остальные двое, проклиная его, высекли огонь. Первый язык пламени лизнул солому. Запах гари пополз по Базарчику.
Наутро от будки осталась лишь груда пепла да обгоревшая дверная рама. Товарищ Пупков издал циркуляр: «В результате несчастного случая прекратил свою деятельность частный кукольный театр, не соответствовавший нормам противопожарной безопасности».
Но на следующий вечер на пепелище собрались дети. Они пришли из всех Уступов. Маленькие Бланкописы в бархатных кафтанах и босоногие Тени. Они молча смотрели на черное пятно земли.
И тут из толпы вышел тот самый парень, что сбежал ночью. Он был бледен, но в руках он держал нечто. Простую куклу из обгоревшей щепки и обрывка веревки. Он поставил ее на обугленный камень и заставил дернуться.
«Граждане! – пискнул он, подражая голосу Беззубика. – Сегодня мы посмотрим историю про то, как Феникс чихнул на пепел!»
Кукка дернулась, упала, а потом поднялась. Дети не засмеялись. Они зааплодировали. Тихо, но это был звук, от которого по коже бежали мурашки.
Беззубика не стало. Но его театр остался. Он больше не был привязан к месту. Он жил в карманах мальчишек, которые на переменках показывали друг другу сценки с помощью пальцев и носовых платков. Он жил в шепоте матерей, рассказывавших на ночь не официальные сказки, а «анекдоты про Репкина». Он жил в самой атмосфере города, в этом новом, колючем ощущении, что даже у самой прочной власти есть уязвимое место – насмешка.
Товарищ Пупков по-прежнему сидел в своем кабинете. Но он стал бояться детей. Их прямого, невинного взгляда. Он боялся соломы, теней и тихого шепота за спиной. Система победила. Она уничтожила бунтаря. Но она проиграла войну за смех. И это было горькой, соломенной победой, которая не давала спать по ночам всем Графам Репкиным этого мира.
Цирк «Последний Вздох»
В Империи Грома, раскинувшейся меж серых гор, главной добродетелью был Порядок. Порядок, высеченный в граните скрижалей, отлитый в бронзе памятников Первому Наместнику и вбитый в головы граждан мерным стуком молотов о наковальни. Воздух здесь был густ от дыма плавилен и запаха свеженапечатанных «Ежедневных Директив» – газеты, где каждая буква была одинакового размера, а каждая новость восхваляла Мудрость и Силу Регента, хранителя заветов Первого Наместника.
Столица, город Надежград, была поделена на Концентрические Кольца. Внутреннее Кольцо, Оплот, сияло полированным мрамором. Здесь, в тишине дворцов, жили Вершители – чиновники, чьи лица от долгого ношения казенных масок с утвержденным выражением «спокойной уверенности» стали напоминать аккуратно вылепленное тесто. Они пили воду из хрустальных источников и дышали воздухом, очищенным особыми фильтрами от «смущающих примесей».
Внешние Кольца, Спицы, были царством Тружеников. Они жили в идентичных серых коробках, ели идентичную серую пасту «Благоразумие» и носили униформу цвета моклого асфальта. Их жизнь была циклом: сон – работа у станка или в конторе – сон. Развлечения регламентировались: раз в неделю – обязательный просмотр фильмов о «Радости Труда», два раза – прослушивание гимна по утрам.
И вот, в это выверенное, как часовой механизм, существование, ворвался он. Цирк «Последний Вздох».
Он появлялся ниоткуда, как мираж на раскаленном асфальте. Его шатер был не алым, а цвета выцветшей крови и пыли. Над входом не красовались веселые клоуны, а висел герб: рука, сжимающая птицу, из клюва которой вырывалась последняя струйка воздуха. Никакой яркой афиши, лишь мелким, уставшим шрифтом: «Представление. Один раз. Для тех, кто способен увидеть».
Власти поначалу не обратили на него внимания – еще один бродячий балаган. Но слухи поползли. Говорили, что после его представления не хлопают. Говорили, что зрители выходят оттуда молчаливые, с глазами, полными странной тоски, и разбивают свои еженедельные талоны на «Радость». Кто-то шептал, что цирк показывает не фокусы, а… правду.
Главным соглядатаем Регента был Надзиратель Чистоты Идей, товарищ Аргус. Человек с сухим, как гербарий, лицом и глазами-буравчиками. Он приказал своему лучшему агенту, молодому и идеально преданному Инспектору Линзу, внедриться в цирк и доложить.
Линз, переодетый в потрепанную одежду Труженика, купил билет. Внутри шатра пахло не сахарной ватой, а старыми книгами, пылью и чем-то горьким, вроде полыни. Лавки были жесткими. Публика – молчаливая смесь самых отчаянных Тружеников и пары-тройки любопытствующих Вершителей, скрывших лица воротниками.
Представление началось без фанфар. Из-за занавеса цвета запекшейся крови вышел человек в костюме, напоминающем ливрею Вершителя, но стоптанном и в заплатах. Это был Конферансье, он же директор, он же душа цирка – человек по имени Тихон. Его лицо было маской безразличия, но глаза горели холодным огнем.
«Добро пожаловать, – его голос был тих, но пробивал толщу тишины. – Сегодня мы покажем вам все, что вы знаете. Но под другим углом».
Первый номер: «Бег по кругу».
На манеж выбежал акробат в облегающем трико, испещренном стрелками и циферблатами. Он был привязан тонким, почти невидимым шелковым канатом к центральному столбу. Под меланхоличную музыку шарманки он начал свой бег. Он прыгал, кувыркался, делал сальто, взлетал по стенам – но канат всегда натягивался, возвращая его к столбу. Скорость нарастала, движения становились все более отчаянными, почти истерическими. Зрители, сами того не замечая, начали дышать в такт этому бегу. Они узнавали в этом свой день: метроние, контора, завод, метроние. Бег на месте. Внезапно музыка оборвалась. Акробат замер, грудь его ходуном ходила от усилий. Он посмотрел на столб, потом на свой канат, и медленно, с нечеловеческим усилием, начал его перегрызать. Зубами. Звук рвущегося шелка прозвучал как выстрел. Канат лопнул. Акробат сделал шаг к свободе… и рухнул без сил. Он был свободен, но у него не осталось сил, чтобы идти.
Второй номер: «Воздушные замки».
На трапецию под куполом взобралась худая, как тростинка, девушка. Ее звали Ирина. Она начинала строить. Из ничего, из воздуха, движениями рук она возводила в вышине причудливые, ажурные конструкции. Замки с башенками, мосты через пропасти, целые города. Зрители, затаив дыхание, следили, как под ее пальцами рождается красота. Это были их несбывшиеся мечты, их утраченные надежды. Но как только сооружение было готово, из темноты под куполом вылетала кукла, уродливая карикатура на Регента, с большой метлой. И одним взмахом она сметала эти воздушные замки в ничто. Девушка падала вниз, в сетку, и лежала там, бездвижная, глядя вверх, в пустоту. И снова поднималась, чтобы начать все сначала.
Линз, сидевший в первом ряду, чувствовал, как по его спине бегут мурашки. Его учили, что искусство должно возвышать и направлять. Это – ранило. Это обнажало какую-то стыдную, спрятанную глубоко правду.
Третий номер: «Клоун без маски».
И вот на манеж вышел он. Главная загадка цирка. Клоун по имени Пьеро. Но это был не смешной Пьеро. Его лицо было выбелено, но не для смеха, а как лицо покойника. Огромные черные слезы были нарисованы от глаз до подбородка. Рот – тонкая, горькая черта. Он не говорил. Он молча подошел к стенду, на котором лежали предметы: казенная Улыбка, как в Благонадежнинске, молоток, колода карт с портретами Вершителей, детская погремушка.
Он взял Улыбку и попытался приклеить ее к своему лицу. Она падала. Он прижимал ее сильнее – она снова отваливалась. Он взял молоток и попытался прибить ее гвоздем. Гротескная, ужасающая пантомима. Зрители замерли. Кто-то сдержал рыдание. Это был их ежедневный ритуал – приклеивать улыбку поверх своей усталости и отчаяния.
Затем Пьеро взял колоду карт и начал строить из них дом. Карточный домик рос, становился все выше и причудливее. Он был хрупок, он дрожал от каждого движения воздуха. И в этот момент Пьеро посмотрел прямо на Линза. Его взгляд был бездонным, полным немого вопроса. И Линз, обученный верить в незыблемость Системы, вдруг с ужасом осознал, что весь Надежград, вся Империя Грома – это тот самый карточный домик. И он, Линз, – одна из карт в его основании.
Представление закончилось. Тихон вышел на манеж.
«Спасибо, что дышали с нами в унисон», – тихо сказал он.
Никаких аплодисментов. Люди молча вставали и расходились. Но они уходили другими. Они смотрели на серые стены своими, заново открытыми глазами.
Линз вернулся к Аргусу с докладом. Но доклад не получился. Вместо сухого пересказа он пытался объяснить то чувство щемящей тоски и странного просветления, что охватило его.
«Они не призывают к бунту, товарищ Надзиратель! Они… они показывают нам нас самих. Таких, какие мы есть внутри».
«Это и есть самый опасный призыв! – прошипел Аргус. – Бунт можно подавить штыком. А что ты сделаешь с тишиной? С взглядом, полным понимания? Они сеют сомнение! А сомнение – ржавчина на стальном Порядке!»
Цирк приказали уничтожить. Но как? Арестовать? Они стали мучениками. Разогнать силой? Они не сопротивлялись. Их искусство было неуязвимо, как призрак.
И тогда Аргус придумал гениальный в своей циничности ход. Он вызвал к себе Тихона.
«Ваше искусство признано… уникальным, – сказал Аргус, сладко улыбаясь. – Оно отражает глубинные процессы в обществе. Поэтому мы даем вам официальный статус. Государственный Цирк «Последний Вздох». Вы будете играть в Оплоте. Для Вершителей. По подписке».
Это была ловушка. Приручить. Обезвредить, превратив в модную забаву для скучающей элиты. Оделть в бархат и позолоту, выхолостить душу.
Тихон понимал это. Он стоял перед выбором: исчезнуть, сохранив чистоту своего жеста, или пойти в самое логово, рискуя стать придворным шутом, но возможно, донести свой «шепот» до тех, кто управляет машиной.
Он посмотрел на Аргуса своим спокойным, всепонимающим взглядом.
«Мы согласны, – сказал Тихон. – Но при одном условии. Мы покажем наш главный номер. Тот, что никогда не показывали. «Немое сердце»».
Аргус, польщенный, согласился.
Весь цвет Империи Грома собрался в золоченом зале Дворца Искусств. Вершители в своих лучших одеждах, сам Регент в ложе. Воздух был густ от духов и предвкушения.
Шатер цирка здесь казался чужеродным пятном. Представление шло, как всегда. «Бег по кругу». «Воздушные замки». Вершители смотрели с любопытством, как на диковинных зверей. Они не узнавали себя в акробате. Их замки были из камня.
И вот, финал. «Немое сердце».
На манеж выкатили большую, пульсирующую механическую конструкцию, похожую на сердце, сделанную из шестеренок, трубок и лампочек. Оно мерно стучало, и с каждым ударом лампочки зажигались, показывая идеальные графики и цифры. Это было сердце Системы.
К нему подошел Пьеро. Он сел рядом, склонил голову набок и слушал. Затем он достал из складок своего костюма маленькую, затертую монету – обычную медяшку, на которую Труженик покупал кусок хлеба. Он поднес ее к механическому сердцу.
И случилось нечто. Механизм дрогнул. Его стук сбился. Лампочки замигали в хаосе. Из трубок пошел не дым, а что-то похожее на черную, густую слезу. Пьеро положил монету на шестеренку. Раздался скрежет. Механизм захрипел. И из его глубины, сквозь стук и гул, прорвался звук. Тихий, едва слышный. Детский плач.
Это длилось всего мгновение. Потом механизм снова набрал обороты, заглушив все посторонние звуки. Но этого было достаточно.
В зале воцарилась мертвая тишина. Никаких аплодисментов. На лицах Вершителей не было ни злобы, ни восторга. Лишь растерянность. Один пожилой сановник, ветеран многих чисток, вдруг снял очки и вытер глаза. Другой сжал ручку кресла так, что костяшки побелели.
Цирк «Последний Вздох» уехал из Оплота. Их не тронули. Приказ Аргуса был отменен. Молва говорила, что сам Регент, выходя из ложи, произнес: «Неудобное искусство».
Цирк продолжал кочевать по Спицам. Его представления не изменились. Но что-то изменилось в воздухе Империи Грома. Порой, проходя мимо идеально отполированного фасада, кто-то из Тружеников мог остановиться и увидеть в нем трещину. Маленькую, почти невидимую. Или ему это лишь казалось.
Система не пала. Молоты стучали, «Ежедневные Директивы» выходили, гимн звучал по утрам. Но теперь, в этой отлаженной симфонии Порядка, слышался едва уловимый диссонарующий звук. Тихий, как вздох. Как последний вздох птицы, которую когда-то пытались удержать в кулаке. И этот звук было уже не заглушить.
День, когда замолчали цикады
В Улье-Империи, раскинувшейся на бескрайнем Цветущем Лугу, царил идеальный, отлаженный как часы гул. Это был не просто звук. Это был фундамент мироздания, воздух, которым дышали, ритм, под который жили. Его создавали Цикады.
Министерство Громкого Слова – так официально именовался их род – занимало самые высокие, самые удобные ветви Древа Власти. Их тела, отполированные до маслянистого блеска, сверкали на солнце, как зеленоватая броня. Их рты, вернее, звуковые мембраны по бокам туловища, были самым ценным активом Империи.
Страта Улья была проста и незыблема. На самой вершине, в золоченых сотах, пребывала Матка-Императрица, существо огромное, почти неподвижное, вечно окруженная свитой муравьев-придворных. Она откладывала Яйца-Указы, которые тут же уносились на нижние этажи.
Ниже обитали Жуки-Бюрократы, толстые, неповоротливые, покрытые хитиновыми панцирями с нашивками-классами. Они переваривали Указы в Подзаконные Акты, регламентирующие каждый взмах усика, каплю росы, угол падения солнечного луча на лист.
Еще ниже – бесчисленные рабочие Муравьи и Пчелы. Их жизнь была службой. Они собирали нектар «Национального Благоденствия» и пыльцу «Общественного Единства», строили, чинили, таскали, не задавая вопросов. Их индивидуальность была стерта в едином порыве – Ради Улья.
А на самом дне, в сырости и плесени, копошились Немогоны – разношерстная братия мокриц, пауков-отшельников и прочих маргиналов, не вписавшихся в систему. На них смотрели с отвращением, но терпели – для отвода глаз.
И над всем этим царил Гул Цикад. Он был вездесущ. Он не умолкал ни на секунду.
«УЛЕЙ – ЭТО СИЛА! ЕДИНСТВО – ЭТО ПУТЬ!» – визжали они с рассвета.
«НАШ НЕКТАР – САМЫЙ СЛАДКИЙ! НАШЕ ДРЕВО – САМОЕ ПРОЧНОЕ!» – вторили им после полудня.
«СОМНЕНИЕ – ПРЕДТЕЧА ГНИЕНИЯ! ТИШИНА – СЕСТРА ИЗМЕНЫ!» – гремели они перед сном.
Этот гул был мощнейшим оружием. Он заглушал все. Стук пустых брюшек голодного муравья. Шепот пчелы, уставшей от бесконечного круговорота «сбор-отдача». Тихое покашливание старого жука, сомневающегося в мудрости нового указа. Гул заполнял собой любую паузу, любую возможность подумать. Он был наркотиком, усыпляющим разум.
Главным Дирижером этого адского хора был Сир Кастальный, старейшая и самая крупная цикада. Его мембраны были величиной с лепесток, а голос, как утверждала пропаганда, мог в одиночку заткнуть глотку любому урагану. Он жил в особой резонансной камере, стены которой были выложены застывшей смолой – «Эликсиром Вечной Правды», как он ее называл.
«Помни, дитя мое, – учил он молодую цикаду по имени Стридуля, свою перспективную ученицу. – Мир боится тишины. Ибо в тишине рождаются Вопросы. А Вопрос – это червь, точащий Древо изнутри. Наша задача – не дать этому червю родиться. Звук – наш щит и наш меч. Мы не просто говорим. Мы создаем реальность».
И реальность была прочной. Муравей, сломал ногу? Его гул приободрял: «ТВОЯ ЖЕРТВА УКРЕПЛЯЕТ УЛЕЙ!». Пчела недобрала норму? Гул осуждал: «ЛЕНЬ – ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ВРАГА!». Все было объяснено, оправдано, выверено.
Но у любой системы есть изъян.
Цикады питались ложью. Точнее, особым соком, который вырабатывался из смолы Древа Власти, когда на нее наносились лживые утверждения. Чем громче и наглее была ложь, тем слаще и питательнее был сок. Они пили его, и их мембраны вибрировали с новой силой.
Однажды утром Стридуля, готовясь к утренней проповеди, подошла к желобку с эликсиром и замерла. От него пахло не сладкой пыльцой, а пылью и пустотой. Она сделала глоток – и чуть не подавилась. Это была безвкусная, пресная жидкость. Ложь, которой они питались, стала настолько очевидной, настолько грубой и избитой, что смола перестала ее переваривать. Она обессмыслилась. Высохла.
В тот день Гул был чуть тише. В нем появились первые, едва уловимые паузы.
Сир Кастальный пришел в ярость. «Усильте напор! – скомандовал он. – Больше энтузиазма! Больше позитива!»
Цикады надрывались, выжимая из себя последние соки. Они кричали о «рекордных сборах нектара», хотя запасы были на исходе. Они вещали о «несокрушимой прочности Древа», хотя из-под коры сыпалась труха. Они славили «мудрость и прозорливость Матки», которая уже много лун не подавала признаков разума.
Но смола молчала. Она не давала больше пищи. Цикады слабели. Их знаменитый гул становился хриплым, сбивчивым, прерывистым.
А потом наступило Утро Великой Тиши.
Солнце взошло, но привычного оглушительного звона не последовало. Воздух был пуст. Абсолютно пуст. Не было ни визга, ни треска, ни гула. Лишь легкий шелест листьев, далекий жалобный писк комара – звуки, которых никто никогда не слышал.
Сначала в Улье воцарилось недоумение. Муравей-работяга, вышагивающий на стройку, замер на полпути. Он впервые услышал, как скрипят его собственные суставы. Пчела, вылетающая на сбор, остановилась у входа. Она услышала, как стучит ее испуганное сердце.
Потом пришел страх.
Тишина обнажила все. Без гула, оправдывающего лишения, стало невыносимо слышать урчание в собственных брюшках. Без гула, восхваляющего систему, стало страшно видеть кривизну построенных стен и скудость запасов. Без гула, осуждающего инакомыслие, в головы полезли чудовищные, крамольные мысли.
«А почему я всегда голоден?»