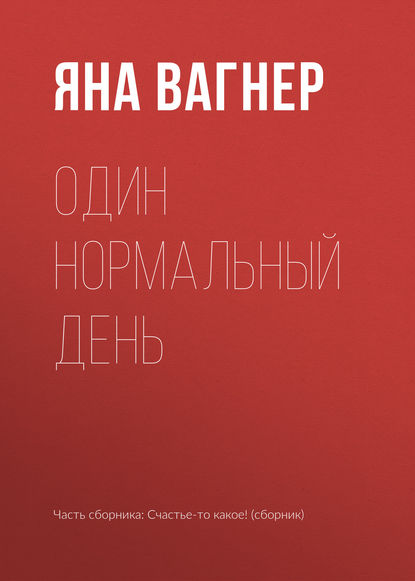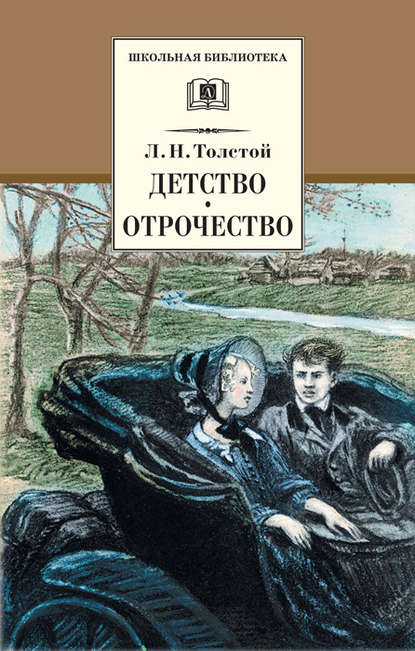Детские политические сказки для взрослых. Том II
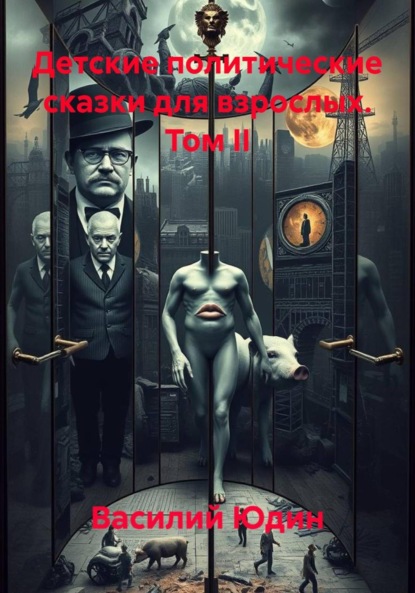
- -
- 100%
- +
«А зачем мы строим эту башню?»
«А та ли это Матка, что была раньше?»
На площади у подножия Древа собралась толпа. Муравьи, пчелы, даже несколько жуков низшего ранга. Они не бунтовали. Они просто стояли и молча смотрели наверх, на ветви, где сидели обессиленные, похудевшие цикады. И это молчание было страшнее любого крика.
Сир Кастальный, бледный, с потухшими мембранами, выполз из своей камеры. Он увидел эту безмолвную толпу, эти тысячи пар глаз, полких не злобы, а вопроса. И он понял, что проиграл. Он попытался издать звук, любой звук. Из его горла вырвался лишь жалкий, сиплый писк, похожий на предсмертный хрип.
И тогда из толпы вышел тот, кого никто не замечал. Старый, подслеповатый жук-могильщик по имени Копр. Он всегда молчал. Его работа была тихой.
Он поднял голову и посмотрел прямо на Сира Кастального. Его голос был тих, скрипуч, но в звенящей тишине его услышали все.
«Я копал яму для умершего личинка, – сказал Копр. – И наткнулся на корень Древа. Он сгнил. Весь. Изнутри. Держится на одной коре».
Он не кричал. Он не обвинял. Он просто констатировал факт. И этот факт, прозвучавший в гробовой тишине, прозвучал громче любого гула цикад.
Началась паника. Но не разрушительная, а странная, тихая. Жуки-бюрократы метались, пытаясь издать указ против тишины, но указы тонули в безвоздушном пространстве. Муравьи перестали работать и сели, уставившись в землю. Кто-то заплакал.
Власть не пала в один день. Не было штурма, не было революции. Просто система, лишенная звукового опиума, начала медленно и необратимо разваливаться, как то самое Древо. Цикады, обессиленные и ненужные, тихо умирали на своих ветках, став символом не силы, а великого обмана.
Стридуля, ученица Сира Кастального, сидела на обломке ветки и смотрела на рушащийся миропорядок. Она была голодна, ее мембраны онемели. Но в ее голове, впервые за всю жизнь, было тихо. И в этой тишине она впервые услышала саму себя. И этот тихий, робкий внутренний голос был страшнее и прекраснее всего, что она когда-либо оглушала своим гулом.
Империя Насекомых не исчезла. Она вступила в Эпоху Шепота. Эпоху, когда каждый звук имел вес, а каждая правда, даже самая горькая, была ценнее самой сладкой лжи. Древо Власти еще стояло, но теперь каждый знал, что внутри оно пусто. И это знание было новой, хрупкой и страшной свободой.
Фабрика героев
В Столице Единения, городе, выстроенном по линейке, с небом, покрашенным в утвержденный лазурный цвет, главной добродетелью была Вертикаль. Все было подчинено ей: стройные ряды домов-коробок, график работы, маршруты прогулок, даже рост деревьев, подстриженных в форме устремленных вверх стрел. На самой вершине Вертикали, в Золоченом Шпиле, обитал Отец-Блюститель, чей портрет висел в каждой комнате, в каждой конторе, в каждом сознании.
Общество делилось на Чистых и Служащих. Чистые – те, чьи предки стояли у истоков Вертикали. Они жили в Центральных Кварталах, носили одежду из струящегося гипюра и дышали воздухом, очищенным от «сомнительных примесей». Их дети учились в Академии Перспектив, где главным предметом было «Искусство быть опорой».
Служащие – все остальные. Они населяли Беспредельные Жиломассивы, носили униформу цвета уныния и питались пайковыми концентратами «Сила» и «Воля». Их жизнь была служением Идее Вертикали, символом которой был Гигантский Хрустальный Столб, возвышавшийся над площадью Согласия.
Но у любой системы, даже самой прочной, есть ахиллесова пята. Ей требовался Враг. Без Врага тускнели лозунги, рассыпалась в прах идея жертвенности, исчезал смысл Вертикали. Враг сплачивал. Враг оправдывал лишения. Враг позволял быть жестоким во имя добра.
Так родилось Министерство Игры, известное в народе как «Фабрика героев».
Оно располагалось на заброшенной окраине, в комплексе зданий, стилизованных под руины – «Квартал Хаоса». Здесь готовили актеров. Но не для театров. Они играли роли Врагов Народа, «Теней, точащих Столб». Министерство писало сценарии: «Теневой сговор», «Покушение на символ», «Ядовитые семена раздора». Затем подбирались актеры из числа неблагонадежных, но талантливых маргиналов. Им предоставляли кров, еду и возможность «искупить вину искусством».
После тщательных репетиций «Тени» выходили на «сцену» – в город. Они разбрасывали листовки с наивными, почти детскими лозунгами («Спроси почему?»), рисовали на стенах карикатуры на Отца-Блюстителя. Затем, по сценарию, появлялись «герои» – бойцы Отряда Чистоты, которые с победными криками «обезвреживали» злодеев. Наутро газеты «Голос Вертикали» выходили с заголовками: «ПРЕСЕЧЕНА ГНУСНАЯ АКЦИЯ! ОТВАГА ВОИНОВ ЧИСТОТЫ!» Народ ликовал, сплачивался, благодарно взирая на Шпиль.
Одним из таких актеров был человек по имени Арктур. Бывший поэт, осужденный за «распространение меланхоличных настроений». Он был худ, бледен, с горящими фанатичным огнем глазами. Ему была противна эта игра. Но сценарий… сценарий его завораживал. Ему поручили роль главного идеолога «Теней», некоего Мыслителя. Он должен был произносить пламенные речи о «лживости Вертикали» и «праве на сомнение».
Речи писали бездарные чиновники, но Арктур, талантливый и измученный, вдруг начал их переписывать. Он вкладывал в уста Мыслителя не казенный бред, а свою боль, свои настоящие мысли. Он говорил о том, что Хрустальный Столб – просто кусок стекла, отбрасывающий осколки, которые ранят людей. Что Вертикаль – это тюрьма для духа. Что за утвержденным цветом неба скрывается настоящая, живая, бесконечная синева.
На первой же «акции» его речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Служащие, собравшиеся поглазеть на представление, слушали, разинув рты. Они не бросались задерживать «Теней». Они стояли и слушали. В их глазах Арктур видел не страх, а пробуждение.
Начальник Фабрики, товарищ Кукольник, человек с лицом уставшего садовода, выращивающего ядовитые растения, был в ярости.
«Ты что, творишь?! – шипел он на Арктура. – Это же игра! Ты должен быть карикатурой, пугалом! А ты… ты говоришь так, будто это правда!»
«А может, это и есть правда?» – тихо ответил Арктур, и в его глазах вспыхнуло что-то новое, опасное.
Кульминацией спектакля должно было стать «Покушение на Столб». По сценарию, Арктур-Мыслитель с несколькими актерами должен был символически бросить в Столб тухлые овощи, после чего их героически скрутят.
Ночь перед акцией. Арктур не спал. Он смотрел на гипсовую маску Мыслителя, лежавшую на столе. Маска и его собственное лицо слились воедино. Система, желая создать жалкую пародию на врага, случайно создала идеал. Она вложила в его уста ту самую правду, которую так тщательно вытравливала. И он поверил. Поверил в созданный ею же миф о самом себе.
«Они хотят театра, – прошептал он маске. – Так получите его. Но по-настоящему».
На следующее утро площадь Согласия была запружена народом. Чистые наблюдали с балконов, Служащие толпились внизу. На сцене – Арктур и его «Тени». Камеры включены. Отряд Чистоты замер в ожидании сигнала.
Арктур вышел вперед. Но вместо тухлого помидора он поднял над головой не кусок бутафорского щебня, а настоящий обломок гранита, подобранный им ночью. Его речь была не заученным текстом, а криком души.
«Они говорят, что этот Столб – символ прочности! – гремел он. – Но я говорю, что это глыба, придавившая нас! Они говорят, что он хрустальный! А я говорю, что он глиняный, и треснет от одного сильного удара!»
Он размахнулся и изо всех сил швырнул камень в основание Хрустального Столба.
Раздался оглушительный треск. Не символ треснул. Треснула толстенная плита из казенного стекла, прикрывавшая постамент.
И все увидели, что под ней – ржавые балки, гнилые доски и горы мусора. Столб был бутафорией.
На секунду воцарилась мертвая тишина. Потом раздался вопль товарища Кукольника: «Держите их!»
Но что-то сломалось. Отряд Чистоты бросился к Арктуру, но толпа Служащих, еще минуту назад пассивная, вдруг нехотя, но сомкнулась перед ними. Не для защиты. Просто они заслонили собой путь. В их глазах читался не бунт, а шок, растерянность и странное, щемящее понимание.
Арктур воспользовался заминкой. Он метнулся в боковой проход и исчез в лабиринте улочек Беспредельного Жиломассива.
Система дала сбой. Враг, созданный ею для отвлечения внимания, сбежал за кулисы, унеся с собой костюм и сценарий. И, что было страшнее, он унес с собой идею.
Арктур скрылся. Но он не просто скрылся. Он стал тем, кого играл. Настоящим Мыслителем. Из подполья он начал рассылать уже свои, а не казенные тексты. Они были полны не ненависти, а горькой правды. Он рассказывал о Фабрике, о Кукольнике, о бутафорском Столбе. Его листовки читали тайком. Его слова, как семена, падали в умы, подготовленные годами лжи.
Власть объявила его «Истинным Врагом Народа №1». Теперь охота шла по-настоящему. Но, иронично, образ этого Врага был создан ими же. Каждый плакат с его изображением был шедевром пропагандистского искусства, наделявшим его почти демонической силой и харизмой, которых у рядового актера до этого не было.
Товарищ Кукольник сидел в своем кабинете, заваленном сценариями будущих спектаклей. Он понимал страшную правду: чтобы поймать призрака, которого они сами и создали, им придется стать по-настоящему жестокими. Игрушечные аресты уже не работали. Призрак требовал настоящей крови. И система, чтобы выжить, была готова ее пролить. Она начала превращаться в того самого монстра, которого так долго и безопасно изображала.
А в подполье Арктур, глядя на свой старый, зачитанный до дыр сценарий, горько улыбался. Он добился своего. Он заставил их играть по-настоящему. Но цена этой игры была уже не бутафорской. Она была самой высокой из всех возможных. И он, бывший актер, теперь навсегда остался в роли. Роли, из которой не было выходов.
Театр одного зрителя
В городе Единомыслии, зажатом в тиски Серых Холмов, главным строительным материалом был не камень и не бетон, а Страх. Страх сквози в идеально прямых проспектах, в фасадах домов, лишенных каких-либо украшений, в глазах прохожих, устремленных исключительно перед собой. Городом правила Директория – совет пяти Старейшин, чьи портреты, выполненные в стиле «сурового реализма», смотрели на граждан с каждого угла. Их единственным врагом была Инаковость.
Все здесь было регламентировано. Работа, отдых, питание (три вида питательных паст: «Стандарт», «Труд» и «Премиум» для начальства). Даже эмоции. Существовал «Кодекс Чувств» – брошюра, предписывающая улыбаться при виде символа Директории (Сжатого Кулака, держащего Молот) и выражать «сдержанную озабоченность» при упоминании «внешних угроз». Искусство было мертво. Его заменили Агитпроп-Бригады, разыгрывавшие на площадях примитивные скетчи о «радости подчинения» и «счастье быть винтиком».
В этом мире, где душа человека была заперта в бронированном сейфе, родилось самое опасное и самое прекрасное, что только могло возникнуть – интимное искусство.
Его создателем был человек по имени Лукьян. Бывший хранитель городской библиотеки, упраздненной за «ненадобностью». Он был тих, невзрачен, ходил сгорбившись, словно постоянно ища на земле утерянные слова. Его домом стал заброшенный угольный бункер под развалинами старого вокзала – место, забытое даже Страхом.
Этот бункер, прозванный «Каменным Мешком», стал сценой. Лукьян не ставил пьес в привычном понимании. Он создавал «Отголоски». Краткие, емкие истории, длиной в пятнадцать-двадцать минут. Истории не о свободе, как о лозунге, а о ее отголосках в душе. О том, как пахнет книга, которую не сожгли. О том, как звучит смех, не одобренный Кодексом. О том, как дрожит рука, впервые за долгие годы решившаяся на неподчинение.
Но самое главное правило – зритель всегда был один.
Система работала на шепоте и доверии. Лукьян, в течение дня бывший никем – учетчиком в отделе распределения пасты «Стандарт», – вечерами становился режиссером, сценаристом и актером. Он присматривался к людям. К той самой Маше, доярке с фермы синтетического молока, которая, подавая ему пасту, всегда чуть дольше, чем положено, задерживала взгляд. К тому самому Степану, вахтеру, в чьей каморке он однажды увидел засохший цветок в треснувшей кружке. Он искал в их глазах не искру бунта – ее давно вытравили, – а тлеющий уголек одиночества.
Приглашение передавалось без слов. На пайку с пастой незаметно ложился крошечный, свернутый в трубочку клочок бумаги. На нем – лишь адрес и время. Ни названия, ни имени.
В назначенный час зритель, с замирающим от ужаса и любопытства сердцем, пробирался в «Каменный Мешок». Внутри пахло сыростью, старым камнем и… человеческим духом. Посреди подвала стоял один-единственный стул. Рядом – жестяная кружка с водой. Больше ничего. Никаких декораций. Никакого занавеса.
Представление начиналось, когда Лукьян зажигал одну-единственную свечу. Ее свет выхватывал из тьмы лишь его лицо и часть стены, становящейся экраном для теней.
Один из его «Отголосков» назывался «Птица из проволоки».
Лукьян садился на корточки перед стулом. В его руках был кусок ржавой проволоки.
«Однажды человек, который забыл, что такое птица, нашел проволоку, – тихий, ровный голос Лукьяна заполнял подвал, становясь единственной реальностью. – Он не помнил, как она выглядит. Он знал только, что она должна петь. И летать».
Он начинал гнуть проволоку. Скрип металла был единственным звуком, кроме его голоса. Он лепил из нее нечто уродливое, корявое, с длинной шеей и кривыми лапами.
«Он делал ее из того, что было. Из запретов. Из страха. Из памяти о запретах и страхе».
Затем он подносил свое творение к свече. На стене появлялась тень. И тут происходило чудо. Уродливая проволочная коряга на стене превращалась в изящный, прекрасный силуэт летящего журавля. Тень была идеалом, к которому тщетно стремилась убогая реальность.
«И он понял, – шептал Лукьян, глядя в глаза единственному зрителю, – что даже из этого… даже из этого можно попытаться слепить песню. Пусть она будет беззвучной. Пусть ее услышит только тень на стене. Но это будет его песня».
Представление заканчивалось. Лукьян тушил свечу. Во тьме зритель слышал его шепот: «Иди. И помни».
Эффект был не мгновенным. Люди выходили оттуда не революционерами. Они возвращались к своим пастам и станкам. Но что-то в них менялось. Маша-доярка, глядя на белые стены фермы, вдруг начинала видеть в разводах плесени очертания лесов и гор. Степан-вахтер начал поливать свой засохший цветок. Он не ожил, но Степану казалось, что однажды он может это сделать.
Однажды Лукьян пригласил нового зрителя. Молодого парня по имени Артем, ученика слесаря. У него были умные, жадные до чего-то настоящего глаза. Лукьян показал ему свой новый «Отголосок» – «Имя ветра». Историю о том, как человек пытался вспомнить, как зовут ветер, и в итоге назвал его своим, давно забытым именем.
Артем был потрясен. Он плакал в темноте, не стыдясь своих слез. После спектакля он схватил руку Лукьяна и стал горячо благодарить. «Это надо показывать всем! – восторженно шептал он. – Тысячам! Мы должны найти способ!»
Лукьян отшатнулся, как от огня. «Нет, – сказал он резко. – Это лекарство, а не оружие. Его доза должна быть мала. Иначе оно убьет. И нас, и тех, для кого мы это делаем. Искусство для толпы – это уже пропаганда. Даже если пропаганда добра».
Но семя упало в благодатную почву. Артем, пьяный от открывшейся ему правды, начал действовать. Он стал осторожно, через доверенных лиц, приглашать в бункер по два, а потом и по три человека. Он говорил: «Больше людей – сильнее мы!»
Лукьян чувствовал надвигающуюся беду. Он видел, как меняется атмосфера в подвале. Исчезала та интимная, доверительная тишина, рождавшаяся между одним актером и одним зрителем. Появлялся шепот, приглушенное обсуждение. Искра индивидуального переживания гасилась в коллективном восторге.
И система, этот гигантский механизм, чуткий к любым вибрациям, наконец, уловила дрожь. Донос написал не стукач, а сосед, обеспокоенный «подозрительным оживлением» у старых развалин.
Облава пришла глубокой ночью. Людей в плащах цвета асфальта было много. Они ворвались в «Каменный Мешок». Внутри они нашли лишь Лукьяна. Он сидел на том самом единственном стуле и читал вслух, при свете той самой свечи, какую-то старую книгу. Для самого себя. Он был и актером, и зрителем в своем последнем представлении.
Его увели. «Каменный Мешок» замуровали.
Но история на этом не закончилась.
Через несколько месяцев Маша-доярка, разливая синтетическое молоко, вдруг положила перед одним из работников пустую кружку. И прошептала: «Птица из проволоки». Работник вздрогнул и кивнул.
Степан-вахтер, сидя в своей будке, рассказывал новому сменщику историю о человеке, который пытался вспомнить имя ветра. И называл его своим именем.
Театр одного зрителя погиб. Но его «Отголоски», как вирусы, продолжали жить. Они не могли изменить систему. Они не поднимали восстаний. Они просто напоминали отдельным людям, что они – люди. Что где-то внутри, под слоями страха и пасты «Стандарт», живет что-то, что можно согреть одним лучом свечи и одним тихим словом. И это было самой страшной, самой неуловимой и самой живучей формой сопротивления, какую только можно было придумать.
Улитка, которая несла свой дом
В Великом Саду, окруженном Непроходимым Забором из спрессованной соли, царил Порядок. Порядок, установленный Улитками-Надзирателями, чьи раковины были унизаны шипами, а рожки-антенны постоянно испускали вибрации Указов. Весь Сад был поделен на Улицы Листьев, пронумерованные и закрепленные за семьями. Каждое утро с Громкого Листа, висевшего на центральном Стволе, доносился Голос Великой Улитки, напоминая всем об идеологии «Счастливого Ограничения».
«НАШ САД – ЛУЧШИЙ ИЗ САДОВ! – вибрировал Голос. – ЗА ЗАБОРОМ – ЛИШЬ СОЛЬ И ТЬМА. НАШ ПАНЦИРЬ – НАША ГОРДОСТЬ И НАША КРЕПОСТЬ! ТОТ, КТО ХОЧЕТ СБРОСИТЬ ПАНЦИРЬ, ХОЧЕТ СБРОСИТЬ САМУ СУТЬ УЛИТКИ!»
Социальное устройство Сада было иерархично и незыблемо. На вершине – Улитки-Аристократы, обладатели тяжелых, инкрустированных известью раковин с причудливыми завитками. Они жили на самых сочных, молодых листьях Верхнего Яруса, питались нежными побегами и почитывали «Свитки Мудрости», где доказывалось их право на лучшую долю.
Ниже – Улитки-Труженники. Их раковины были проще, серого или коричневого цвета. Они день за днем обгрызали старые, жесткие листья, производили слизь для общих дорожек и строили новые уровни Сада, чтобы Аристократам было просторнее. Их лозунгом было: «Трудись, не сомневайся, ползи вперед».
И на самом дне – Беспанцирные, или Слизни. Их презирали все. Они ютились в сырых трещинах коры, питались гнилью и служили пугалом для остальных: «Вот что будет с теми, кто посмеет сбросить свою ношу!»
Главной героиней этой истории была улитка по имени Илита. Она принадлежала к Труженникам и жила на Улице Пожелтевшего Листа. Ее раковина была невзрачной, цвета пыли, но удивительно прочной. С самого детства Илита чувствовала странное беспокойство. Ее не радовал вкус предсказуемого листа, ее раздражали вечно повторяющиеся вибрации Указов. По ночам она заползала на самый кончик своего листа и, рискуя быть замеченной Надзирателями, всматривалась в даль.
За Забором не было ни соли, ни тьмы. Там мерцали огоньки. Иногда доносились странные, незнакомые запахи – не запахи гнили или зелени, а чего-то неведомого, манящего. От странствующих Жуков-бродяг, которых изредка пускали в Сад для торговли, она слышала шепотом легенду о Земле Обетованной – крае, где листья всегда свежи, где нет Надзирателей, а каждая улитка сама хозяин своей раковины.
Решающим толчком стал «Указ о Единообразии Панциря». Все улитки должны были покрасить свои раковины в единый, «патриотичный» цвет заплесневелой зелени. Илита увидела, как ее сосед, старый мастер по обработке извести, плакал, замазывая уникальный узор, передававшийся в его роду поколениями.
В ту же ночь Илита приняла решение. Это было не импульсивное бегство, а холодный, выстраданный выбор. Она знала, что ее раковина – это и есть она сама. Сбросить ее – значит перестать быть собой. Но и остаться – значит позволить системе уничтожить ее душу. Она должна была унести свой дом с собой.
Побег был делом немыслимой сложности. Каждый сантиметр пути охранялся. Патрули Надзирателей, липкие ловушки из специальной слизи, доносчики-сверчки. Но Илите помогало то, чего так боялась система – ее незначительность. Кто обратит внимание на еще одну серую улитку, ползущую по своим делам?
Она покинула Сад через сточную трубу, омывающую Забор. Мир снаружи оказался огромным, пугающим и прекрасным. Это была Не-Земля, пространство, не предназначенное для улиток. Гладкие, каменные равнины, по которым ее нога скользила, не находя опоры. Чудовищные, грохочущие существа (люди), чьи шаги вызывали мини-землетрясения. Островки зелени, которые оказывались отравленными или уже занятыми враждебными местными улитками, смотревшими на пришелицу с подозрением.
Ее раковина, ее дом, стала настоящим испытанием. При переходе через шершавый асфальт она царапалась и теряла кусочки. При подъеме на вертикальную стену ее вес едва не сталкивал Илиту вниз. В сухую погоду раковина становилась хрупкой, в сырую – невыносимо тяжелой. Она была ее крепостью, в которую она могла спрятаться от мира, но она же была ее тюрьмой, не дававшей двигаться быстро. Она была ее идентичностью, но она же кричала всем о том, что она – ЧУЖАЯ.
В своем путешествии Илита встречала разных существ. Встретила сороконожку-циника, которая сказала: «Земля Обетованная? Ха! Это миф, который придумали те, кому слишком тяжело таскать свою кожу. Лучше сбрось этот дурацкий домик и стань, как все нормальные твари – быстрой и гибкой».
Встретила семью муравьев-кочевников. Они несли на себе свои яйца и не имели постоянного дома. «Дом не в раковине, дом – в ногах», – вибрировали они, стремительно пробегая мимо.
Однажды, переползая через гигантский металлический прут, Илита поскользнулась и упала. Удар был сильным. На ее раковине образовалась глубокая трещина. Это была не просто рана, это была рана в ее самости. Через трещину в ее нежное тело могла проникнуть зараза, ее дом перестал быть надежной защитой.
Она заползла под какой-то лист и несколько дней не двигалась, впав в отчаяние. Она плакала о своем Саде, о своем старом, надежном листе. Может, они были правы? Может, счастье – в том, чтобы знать свое место?
Но однажды утром она увидела, что трещину начали заполнять паутинки. Маленький паук, сам изгой, трудился над тем, чтобы залатать ее дом. Не известием, не глиной, а чем-то новым, прочным и эластичным. «Ничего, – прошептал паук. – Шрамы делают нас сильнее. Теперь твой дом будет не таким, как у всех. Он будет только твоим».
Илита поползла дальше. Но теперь она ползла иначе. Ее раковина все так же была тяжела, но трещина, залатанная паутиной, напоминала ей, что ее дом – это не просто наследство. Это то, что она сохранила, то, что она отремонтировала сама. Это был ее выбор.
Она так и не нашла мифическую Землю Обетованную. Однажды, преодолев бесконечную каменную пустыню, она нашла другой сад. Не такой ухоженный и богатый, как ее родной. Более дикий, немного запущенный. Там жили улитки с самыми разными раковинами – пятнистыми, полосатыми, с трещинами и без. Здесь не было Надзирателей. Здесь каждый полз своей скоростью и ел тот лист, который ему нравился.
Ее встретили настороженно. «Откуда ты?» – спросила местная старейшина, улитка с раковиной, покрытой причудливыми наростами.
«Я из-за Забора», – ответила Илита.
«И что ты принесла с собой?»
Илита подумала. Она принесла свою усталость, свои шрамы, свою историю и свою раковину, которая была и ее бременем, и ее спасением.
«Я принесла свой дом», – сказала она.
Ее приняли. Не с восторгом, а с тихим пониманием. Она нашла не Рай, а Просто Другое Место. Иногда по ночам она заползала на самый высокий стебель и смотрела в сторону своего старого Сада. Она знала, что там, за Забором, другие улитки все так же слушают Громкий Лист и красят свои раковины в цвет плесени. И она понимала, что ее путешествие изменило не мир, а только ее саму. Ее дом был уже не тюрьмой и не знаком принадлежности к системе. Он был ее личной историей, высеченной в известняке и залатанной паутиной. И в этом была ее горькая, медлительная, но настоящая победа.
Последнее дерево Мегаполиса
В городе Единого Потока, носившем гордое имя Прогрессоград, не было ничего лишнего. Ни кривой улочки, ни случайного цветка, ни пылинки, лежащей не на своем месте. Город был шедевром стерильной геометрии, состоящим из сверкающих башен-кубов, соединенных прямыми, как стрела, эстакадами. Воздух был дистиллирован и подавался через вентиляционные шахты с добавлением «бодрящих ароматов» – запаха озона и свежей краски. Небом служил гигантский LED-экран, на котором сменялись утвержденные пейзажи: лазурный берег, строгие горы, бескрайние поля пшеницы.