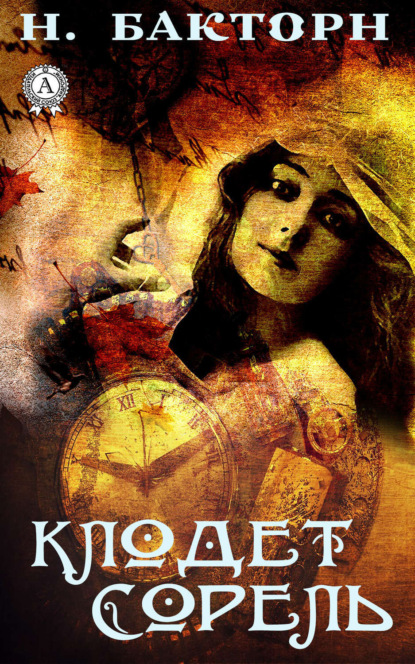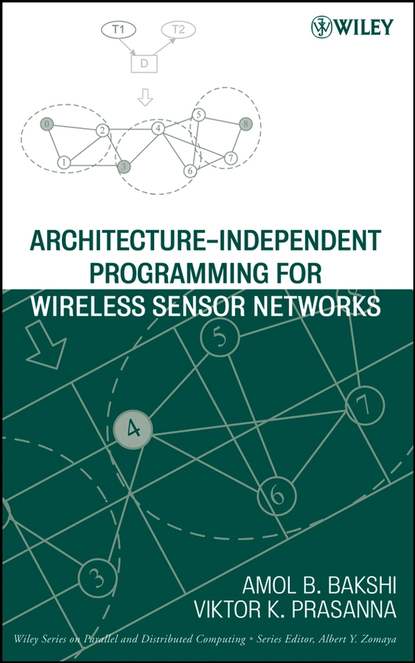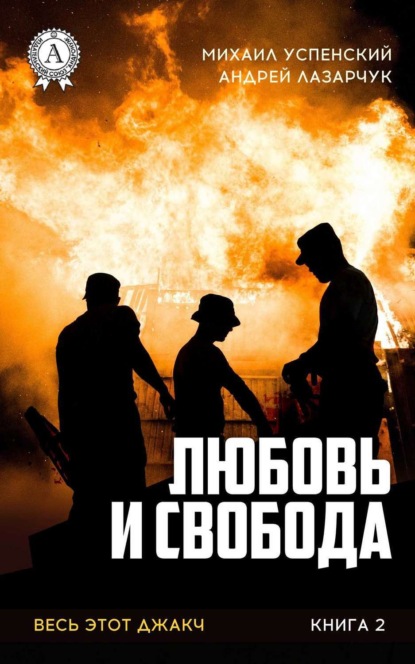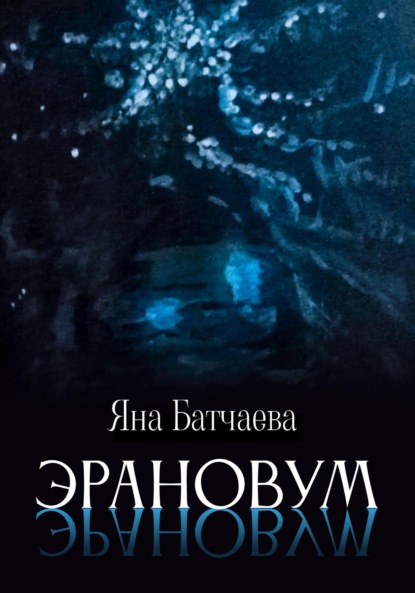Детские политические сказки для взрослых. Том II
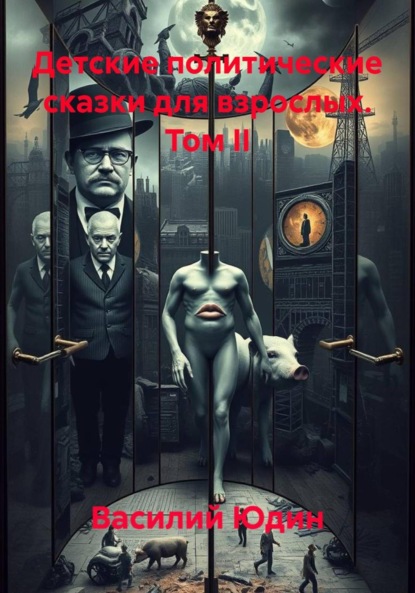
- -
- 100%
- +
Обществом правила Технократия – совет самых рациональных умов, чьи портреты, лишенные каких-либо эмоций, смотрели на граждан с плакатов с лозунгом: «ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ВСЕ, ОСТАЛЬНОЕ – СЕНТИМЕНТ».
Город был разделен на Сектора. В Центральных Секторах, в апартаментах с шумоизоляцией и системой рециркуляции воздуха, жили Инженеры Души – архитекторы, программисты, чиновники. Они питались синтезированной пищей, идеально сбалансированной по нутриентам, и развлекались виртуальными путешествиями.
В Периферийных Секторах, в идентичных капсулах-квартирах, обитали Функционеры. Они обслуживали машины, следили за чистотой эстакад и получали за это пайки – безвкусные, но питательные батончики «Вита». Их жизнь была расписана по минутам: подъем, транспорт, работа, сон. Мечтать не запрещалось, но для этого существовали специальные «Залы Грез», где под наблюдением психолога можно было помечтать об улучшении своих рабочих показателей.
И был еще Сто тридцатый сектор. Зона не планируемого, но пока не устраненного хаоса. Здесь, среди полуразрушенных старых построек и запутанных переходов, на крошечном пятачке земли, пробивающемся сквозь асфальт, стояло Оно.
Дерево.
Никто не знал его вида. Оно было просто Деревом. Старым, могучим, с корой, покрытой шрамами, и раскидистой кроной, которая весной покрывалась нежными зелеными листьями, а осенью роняла на серый асфальт желтые и багряные. Оно было анахронизмом, сбоем в программе, живым упреком стерильности.
Для детей Периферийных Секторов Дерево было чудом. Они тайком бегали к нему после «социоадаптационных игр». Они трогали кору, слушали шелест листьев – настоящий, а не сгенерированный компьютером звук! Они собирали его листья и засушивали между страницами технических мануалов. Для них оно было единственной по-настоящему живой вещью в этом искусственном мире.
Для стариков, которых система списывала в утиль как «исчерпавший ресурс элемент», Дерево было памятью. Они сидели на скамейке у его подножия и вспоминали запах дождя на земле, пение птиц (давно истребленных как разносчики бактерий), вкус настоящего яблока. Оно было их молчаливым собором, их связью с миром, который уничтожили во имя Прогресса.
Главным героем этой истории был мальчик по имени Юн. Сын Функционеров, он был идеальным продуктом системы: послушный, рациональный, веривший, что все существующее – разумно. Он собирался стать инженером-оптимизатором. Но однажды его младшая сестра, болезненная девочка по имени Лия, тайком привела его к Дереву.
«Потрогай», – прошептала она.
Юн скептически прикоснулся к шершавой коре. И его пальцы ощутили нечто невероятное – пульсацию. Теплую, медленную, живую. Это был не ритм машин, а нечто иное, древнее. Он вдохнул запах листвы и почувствовал головокружение. Это был запах свободы, о которой он не подозревал.
В это время Технократия утвердила грандиозный проект «Вертикаль-Х». Новая, суперскоростная магистраль, которая должна была соединить Центральный Сектор с космопортом. Проект был безупречен с точки зрения логистики и экономики. Была лишь одна «незначительная помеха» – трасса проходила точно через Сто тридцатый сектор. Через Дерево.
Объявление появилось на всех экранах: «В целях оптимизации транспортных потоков подлежит ликвидации биологический объект B-130, известный как "Дерево". Работы начнутся ровно в 08:00».
Город принял это как данность. Инженеры Души пожали плечами. Функционеры вздохнули и пошли на работу.
Но в Сто тридцатом секторе что-то произошло. Старик по имени Матвей, бывший учитель ботаники, которого система давно списала, вышел из своей капсулы и медленно, опираясь на палку, побрел к Дереву. Он сел на землю, прислонившись спиной к шершавому стволу, и закрыл глаза.
За ним вышла его соседка, бабка Агата. Потом – другие старики. Они не сговаривались. Они просто пришли. Молча. Они образовали вокруг Дерева неподвижное, хрупкое кольцо.
В 07:55 к сектору подъехали машины. Из них вышли рабочие в защитных комбинезонах и человек в идеально гладком костюме – Инспектор по Освоению Пространства, товарищ Шлифов. Он был олицетворением системы: холодный, эффективный, лишенный сантиментов.
«Что это за несанкционированный митинг? – произнес он гладким, как стекло, голосом. – Просьба освободить зону для работ».
Матвей поднял на него свои мутные глаза.
«Мы не митинг. Мы – щит. Живой».
Шлифов усмехнулся. «Ваш "живой щит" не имеет юридической силы. Вы нарушаете регламент нахождения в зоне работ. Просьба удалиться».
В этот момент на площадь выбежали дети. Десятки детей. Во главе с Юном и Лией. Они молча встали между стариками и рабочими, взявшись за руки. Они не кричали лозунгов. Они просто стояли и смотрели. Их молчание было оглушительнее любого грохота отбойных молотков.
Шлифов почуввал раздражение. Система не была готова к такому. Она умела подавлять бунт, умела наказывать ослушников. Но что делать с тишиной? Что делать с непротивлением, которое было самой мощной формой сопротивления?
«Применить протокол "Вежливое убеждение"», – приказал он.
Рабочие, больше похожие на роботов, сделали шаг вперед. Но они не могли пройти. Перед ними были не враги, а дети и старики. Хрупкие, безоружные. Один неверный шаг – и хруст кости, детский плач. Это был пиар-кошмар. Эффективность системы дала сбой перед лицом человечности.
Шлифов связался с Центром. Голос в его наушнике был холоден: «Ситуация не прогнозировалась. Отложить работы. Найти административное решение».
Техника уехала. Но победы не было. Была лишь передышка.
Система ударила с другой стороны. На следующий день Юна вызвали к директору учебного центра. «Твое поведение иррационально, Юн, – сказал директор. – Ты ставишь под угрозу свой рейтинг. Твои родители могут лишиться премии. Это дерево – всего лишь скопление целлюлозы и хлорофилла».
Взрослых Функционеров, участвовавших в акции, начали вызывать на «профилактические беседы» с угрозами увольнения. По городу поползли слухи, что Дерево является рассадником опасных бактерий и его листья радиоактивны.
Дух раскола проник в ряды защитников. Некоторые родители запретили детям ходить к Дереву. Несколько стариков, испугавшись за свои и без того скудные пайки, отошли в сторону.
Система делала свое дело – она разъединяла, сеяла страх и сомнения.
Юн смотрел на все это и чувствовал, как его детская вера в рациональность рушится. Он видел, что система, говорящая об эффективности, на самом деле была чудовищно неэффективна, когда сталкивалась с чем-то, что нельзя было измерить цифрами. Она была сильна, как сталь, и так же хрупка, как сталь, не выдерживающая непредусмотренного давления.
Наступил день слушаний по делу Дерева в Комиссии по Рациональному Землепользованию. Шлифов представил безупречные графики, диаграммы, расчеты окупаемости магистрали. Он говорил о прогрессе, о логике, о будущем.
Слово дали Матвею. Старик медленно поднялся. Он не смотрел на графики. Он смотрел в лица членов комиссии.
«Вы все говорите о будущем, – его голос был тих, но слышен в идеальной тишине зала. – Но вы хотите построить его, уничтожив последнее напоминание о том, откуда мы пришли. Вы строите дорогу в никуда. Дорогу, на которой не будет ни одного живого места, чтобы остановиться и спросить: "А куда, собственно, мы едем?" Вы называете это дерево помехой. А я называю его компасом. Оно указывает направление, в котором мы все давно заблудились – направление к жизни».
Решение комиссии было предсказуемо: «Интересы Прогресса выше интересов отдельного биологического объекта. Работы возобновить».
Но когда на следующее утро техника снова прибыла, она застала ту же картину. Дети и старики. Живой щит. Только теперь их было больше. К ним присоединились некоторые Функционеры, те, у кого еще не совсем атрофировалась душа.
Шлифов стоял в растерянности. Он мог бы применить силу. Но цена была слишком высока. Образ системы, безупречной и рациональной, был бы разрушен.
И тогда система пошла на свой излюбленный ход – она создала иллюзию. Было объявлено, что «благодаря обращениям граждан принято компромиссное решение». Дерево не срубят. Его… пересадят. В специальный ботанический резервацию под куполом, где за ним будут ухаживать роботы.
Все понимали, что это смертный приговор, завуалированный под помилование. Дерево, чьи корни уходили на десятки метров вглубь, не переживет пересадки.
Но система победила. Она дала людям красивую форму, под которой скрыла свое циничное содержание. Протесты стихли. Магистраль построили.
Дерево, помещенное под стеклянный купол, медленно засохло. Его превратили в арт-объект, опрыскали консервантами и поставили в холле Центрального административного здания. К нему водили экскурсии и рассказывали историю о том, как Технократия пошла навстречу чувствам граждан.
Юн, ставший инженером, иногда приходил смотреть на него. Он видел не арт-объект, а мертвого друга. Он понимал горькую правду: система не сломалась. Она адаптировалась. Она научилась не уничтожать символы, а обезвреживать их, делать частью декораций. Победа защитников Дерева оказалась пирровой. Они спасли его от топора, но проиграли войну за его душу.
Но в кармане своего комбинезона Юн хранил сухой, пожелтевший лист. И иногда, в особенно унылые дни, он доставал его, растирал между пальцами и вдыхал едва уловимый, умирающий запах свободы. И этот запах напоминал ему, что даже в самом стерильном мире остается место для памяти. И что следующее дерево, если оно когда-нибудь взойдет, будет защищать уже не только дети и старики.
Учитель, который задавал неправильные вопросы
В Столице Единогласия, городе, где даже дождь падал по утвержденному графику, главным институтом была Школа. Не храм знаний, а фабрика по производству правильных граждан. Школа №1 имени Первого Наставника была эталоном такой фабрики. Ее стены были выкрашены в цвет успокаивающей серости, коридоры звенели от звенящей тишины, а расписание было выверено до секунды.
Обществом правила Партия Единого Курса. Ее идеология, «Курсология», была простой: история – это прямая дорога к светлому настоящему, где все прошлые ошибки были исправлены, а все противоречия – сняты. Ценностью была не истина, а Верность Курсу. Инструментом угнетения – «Единый Учебник», толстенный том, где на каждый вопрос был один, единственно верный ответ.
Социальные лифты работали исключительно для тех, кто демонстрировал «идейную выдержанность». Дети Партийной Элиты, «Наследники Курса», учились в отдельных классах, их готовили к управлению. Дети чиновников и рабочих, «Исполнители», зубрили учебник, мечтая о месте в нижних этажах бюрократической пирамиды. Любое отклонение каралось не двойкой, а статьей «Инакомыслие в учебном процессе» с последующим направлением в «Коррекционный Интернат».
Уроки истории были сердцем системы. Учительница Марфа Игнатьевна, женщина с лицом, как застегнутый на все пуговицы китель, тридцать лет вела их по одному сценарию. Она диктовала. Дети записывали. Потом она спрашивала. Они отвечали выученными фразами.
«Вопрос: каковы были причины Победоносного Объединения Земель под скипетром Первого Наставника?»
«Ответ: воля народа, историческая необходимость и мудрость Наставника», – хором отвечал класс.
«Вопрос: какова роль народных масс в период Великого Преображения?»
«Ответ: народные массы, ведомые Партией, проявили несгибаемую волю и энтузиазм».
Это был не диалог, а ритуал. Звук голосов, сливающихся в один, был музыкой системы.
Все изменилось, когда Марфа Игнатьевна ушла на пенсию, и ее место занял новый учитель – Артем Касьянов. Он был молод, худ, и в его глазах светилась странная, неподобающая учителю искорка живого интереса. Он не носил строгого костюма, а ходил в потертом пиджаке, из кармана которого торчала потрепанная книга, не входящая в утвержденный список.
Первый же его урок поверг класс в ступор. Тема была стандартной: «Эпоха Великих Строек».
Артем вошел в класс, молча посмотрел на детей и написал на доске одно слово: «КИРПИЧ».
«Сегодня, – сказал он тихо, – мы будем изучать историю не по датам, а по кирпичам».
Он достал из портфеля старый, потрескавшийся кирпич и положил его на стол.
«Вот он. Один из миллионов. Его обожгли в печи. Его положил в раствор чей-то отец, чей-то дед. Представьте его руки. Усталые? В мозолях? Дрожащие от голода? Он верил, что строит светлое будущее? Или просто мечтал поскорее получить свою пайку хлеба и уснуть? Что он чувствовал, глядя на чертежи дворцов, которые никогда не увидит изнутри?»
В классе стояла гробовая тишина. Такого вопроса не было в Учебнике. Это был неправильный вопрос.
Главной слушательницей этого крамольного урока была девочка по имени Лика. Дочь «Исполнителей», она была идеальной ученицей Марфы Игнатьевны. Ее тетради были исписаны казенными фразами, ее ум был заточен под воспроизведение, а не под мышление. Вопрос Артема вызвал у нее когнитивный диссонанс. Она всегда представляла Великие Стройки как торжественный марш прогресса. А он говорил об усталых руках и пайке хлеба. Это было… кощунственно. Но почему-то бесконечно интересно.
Антагонистом системы была директор школы, Валентина Семеновна, она же «Надзирательница Курса». Женщина с телом гарпии и душой бухгалтера. Для нее образование было сводом правил, а дети – статистикой. Ее слабостью был страх. Страх перед любой проверкой, любым отчетом, где могла обнаружиться «невыдержанность». Ее логика была железной: «Система дает всем все необходимое. Вопросы – это плесень на стенах здания государства. Их нужно выжигать».
Следующий урок был по теме «Реформа Единого Языка».
Артем вошел и снова написал на доске: «МОЛЧАНИЕ».
«Реформа уничтожила сотни местных наречий, – сказал он. – Представьте последнего человека, который помнил старое слово для "радости". Слово, которого больше нет. Он умер, и это слово умерло с ним. Что он чувствовал? Облегчение от единства? Или горечь утраты? Могло ли быть иначе? Могли ли мы сохранить и единство, и многообразие?»
Лика впервые задумалась. Она представила этого старика. Его немую печаль. Учебник говорил, что реформа была «триумфом прогресса». Учитель спрашивал о цене этого триумфа. Ее аккуратный, выстроенный мир дал трещину.
В классе начался раскол. Часть учеников, «Конформисты», во главе с сыном партийного чиновника, Витей, испуганно молчали или доносили родителям. Другие, «Искатели», как Лика, начали шептаться на переменах, спорить, искать в запрещенных книгах (которые им тайком показывал Артем) другие точки зрения.
Администрация забила тревогу. Валентина Семеновна вызвала Артема.
«Ваши методы не соответствуют педагогическому стандарту! – набросилась она на него. – Вы сеете сомнения!»
«Я учу их думать, Валентина Семеновна, – спокойно ответил Артем. – Разве не в этом цель образования?»
«Цель образования – дать верные ответы! А не плодить вопросы! Вопросы разрушают!»
Конфликт нарастал. Родители-конформисты писали жалобы. Партийный куратор образования провел «открытый урок», на котором Артем, рискуя всем, задал свой самый опасный вопрос по теме «Внешняя политика Наставника»: «Если наши предки несли соседям только свет и знание, почему те встречали их с мечами? Может, они боялись потерять что-то свое? Имели ли они на это право?»
После этого урока за Артемом пришли. Не в тюрьму. Пока нет. Его вызвали на «Беседу» в Отдел Кадрового Обеспечения Идейной Чистоты. Человек в сером костюме, товарищ Клим, вел беседу по протоколу.
«Гражданин Касьянов. Ваши действия трактуются как "мягкая диверсия". Вы подрываете устои. Вам предлагается добровольно написать заявление по собственному желанию и пройти курс "Идеологической переплавки"».
Артем понимал, что это конец. Система предлагала ему сдаться. Он мог уйти тихо, сохранив себя для другой борьбы в другом месте. Или он мог нанести последний, отчаянный удар.
Он выбрал второе.
На свой последний урок он пришел бледный, но спокойный. Тема была: «Современность и ее вызовы». Он вошел, посмотрел на своих учеников – на испуганные глаза конформистов, на горящие глаза искателей – и написал на доске самый главный, самый неправильный вопрос:
«А ВЫ – ЧТО ДУМАЕТЕ?»
Он не давал тем. Он не диктовал. Он просто сел за стол и ждал.
Сначала была тишина. Потом заговорила Лика. Сначала тихо, путано, а потом все громче. Она говорила не из Учебника. Она говорила от себя. О том, что боится будущего. О том, что хочет не просто служить, а понимать, зачем. Другие подхватили. Класс превратился в место дискуссии, в шумный, живой, непредсказуемый организм.
В этот момент дверь распахнулась. На пороге стояла Валентина Семеновна, товарищ Клим и два человека в штатском.
«Урок окончен, – холодно сказала директор. – Гражданин Касьянов, пройдете с нами».
Артема увели. Его обвинили в «систематическом подрыве образовательных основ» и отправили в «Коррекционный Интернат» для перевоспитания.
Но финал этой истории был не о его поражении.
Лика, вернувшись домой, не стала учить Учебник. Она села и написала. Письмо. Не жалобу, а историю. Историю об учителе, который задавал неправильные вопросы. Она не призывала к бунту. Она просто излагала факты. И те самые вопросы.
Она не знала, кому его отправить. Она положила его в бутылку и закопала в парке. Она знала, что это безумие. Но она также знала, что один вопрос, брошенный в мир, как семя, может прорасти когда-нибудь в самом неожиданном месте.
Система победила. Она вырвала сорняк сомнения со своей идеальной клумбы. Но она не могла вырвать его из умов. Вопросы Артема продолжали жить. Они передавались шепотом на переменах, обсуждались тайком в соцсетях. Они были вирусом, против которого у системы не было антивируса.
Лика, ставшая теперь «неблагонадежной», больше не могла мечтать о карьере. Но она обрела нечто большее – собственный ум. И она поняла горькую истину: самый опасный враг системы – не бунтарь с оружием, а тихий учитель с правильным вопросом. И пока есть хотя бы один такой вопрос, система, при всей ее мощи, не может чувствовать себя в полной безопасности. Ее победа всегда будет пахнуть страхом.
Станция «Молчание»
На самом краю Объединенных Галактических Территорий, в зоне, известной как Тихий Рубеж, висела в вакууме научно-исследовательская станция «Гармония». Снаружи она напоминала гигантского, уснувшего металлического ежа: сотни антенн, телескопов и сенсоров были обращены в глубь космоса, в направлении туманности «Колесница», где, по расчетам, мог существовать разум, превосходящий человеческий.
Внутри «Гармонии» царил образцовый порядок, продиктованный строгим Уставом Земного Содружества. Станцией руководил Командор – человек по имени Кронов, бывший военный, чье лицо, казалось, было выточено из того же металла, что и стены станции. Его логика была безупречна: «Мы – посланцы человечества. Наша задача – наблюдать, не вторгаясь. Наша осторожность – залог будущего контакта».
Экипаж состоял из двенадцати человек – лучших умов своего поколения. Среди них был и главный герой – лингвист и специалист по ксенокоммуникациям Лев Сомов. Мягкий, вдумчивый, он верил в миссию «Гармонии» с почти религиозным пылом. Он мечтал услышать тот первый, исторический «сигнал».
И вот, через полгода после начала миссии, он пришел.
Сначала это был едва уловимый фон, легкая рябь на экранах. Потом – сложные, повторяющиеся паттерны, не поддающиеся земной логике. Командор Кронов, сохраняя ледяное спокойствие, объявил чрезвычайное положение. Был задействован «Протокол Тишины».
«Протокол Тишины» был высшим законом станции. Он предписывал полное прекращение любой исходящей связи с Землей. Никаких сообщений, никаких сигналов. Ни-единого-звука. Объяснение было железным: «Любая наша передача может быть воспринята как враждебный акт или грубое вторжение. Мы должны молчать, чтобы услышать. Мы должны стать невидимыми, чтобы увидеть».
Первые недели экипаж жил на нервном подъеме. Они были на пороге величайшего открытия! Они анализировали сигналы, строили гипотезы. Сомов не спал ночами, пытаясь найти ключ к инопланетному языку.
Но недели превратились в месяцы. Сигналы не складывались в осмысленное послание. Они были красивы, сложны, но… бессодержательны. Как узоры на морозном стекле.
А «Протокол Тишины» делал свое дело. Изоляция, всегда бывшая фоном, стала главным действующим лицом. Земля, родная, шумная, полная жизни Земля, превратилась в миф. Молчание извне начало просачиваться внутрь.
Первой сломалась биолог Марина. Она начала слышать шепот в вентиляции. Ей казалось, что за стеклами иллюминаторов мелькают тени. Ее посадили на успокоительное и изолировали в медблоке.
Потом инженер-энергетик Гордеев, самый сильный и невозмутимый член экипажа, впал в глухую депрессию. Он целыми днями сидел в обсерватории и смотрел на тусклую точку Земли, не произнося ни слова.
Станция погружалась в молчание. Разговоры становились все короче, все формальнее. Люди начинали бояться собственного голоса, его способности нарушить хрупкую, давящую тишину. Воздух, искусственный и без запаха, стал густым, как сироп. Каждый звук – щелчок замка, шипение гидравлики – отзывался в душе болезненным эхом.
Сомов, как и все, чувствовал, как его рассудок начинает плыть. Его сны стали черно-белыми и беззвучными. Он ловил себя на том, что подолгу смотрит на движущиеся точки на радаре, надеясь, что это корабль с Земли, хотя знал, что это невозможно.
Но его научный ум не сдавался. Он продолжал анализировать «сигналы». И однажды его осенило. Он не нашел в них языка. Он нашел… алгоритм. Идеально выверенную, бесконечно повторяющуюся последовательность, которая не несла никакой информации, кроме собственного совершенства. Это была не речь. Это была… клетка.
Он пошел к Кронову.
«Командор, эти сигналы… они искусственны. Это не послание. Это… стена. Или маяк, но не для нас, а для кого-то другого. Нам нужно нарушить протокол! Нужно послать запрос!»
Кронов посмотрел на него пустыми глазами.
«Протокол – это закон, Сомов. Нарушение – предательство миссии. И человечества».
Сомов не унимался. Он начал копать глубже. В архивах станции, в служебных записях, он нашел странные нестыковки. Записи о «сигналах» появлялись еще до официального «обнаружения». Некоторые технические логи были заблокированы на уровне, недоступном для экипажа.
Его сообщником стал молодой техник-программист Олег. Парень с горящими от скуки и изоляции глазами. Вместе, рискуя всем, они проникли в заброшенный серверный отсек, не используемый с момента запуска станции.
И там, в пыли и тишине, они нашли Истину.
Не было никакого инопланетного разума. Не было сигналов из туманности «Колесница».
Был «Эксперимент „Абсолют“».
Станция «Гармония» была не научным аванпостом, а гигантской лабораторией. Экипаж – подопытными кроликами. Цель – изучить поведение высококвалифицированных специалистов в условиях полной, абсолютной и бессмысленной изоляции. Сигналы генерировались самой станцией. Сложные, красивые, бессмысленные узоры, призванные создать иллюзию высшей цели, чтобы наблюдать, как долго человек может держаться за соломинку, прежде чем его разум рассыплется в прах.
Сомов и Олег стояли перед мерцающим экраном, на котором холодным, официальным шрифтом был выведен план эксперимента. Фазы. Критерии. Пределы психологической устойчивости. Они были не пионерами, а данными. Их страдания, их безумие, их тихие срывы – все это аккуратно записывалось и, вероятно, передавалось на Землю по секретному каналу, о котором они не знали.
«Зачем?» – прошептал Олег, его лицо побелело от ужаса.
«Чтобы понять, как управлять теми, кого отправят в долгие миссии. Как сломать их, не применяя физического насилия. Как создать идеально послушный экипаж для будущих колоний», – с горькой ясностью ответил Сомов.
Они вернулись в жилой модуль, неся в себе это знание, которое было тяжелее любой раковины. Они рассказали остальным. Реакция была разной. Кто-то не поверил. Кто-то впал в истерику. Кто-то, как инженер Гордеев, просто пожал плечами – ему было уже все равно.
Командор Кронов, когда к нему пришли с разоблачением, не стал отрицать. Он сидел в своем кресле, прямой и неподвижный.
«Вы – солдаты науки, – сказал он. – Ваша жертва послужит прогрессу. Протокол остается в силе».
«Какой прогресс? Прогресс в искусстве ломать людей?» – крикнул Сомов.
«В искусстве управлять. Изоляция – это просто инструмент. Как и ложь».
Сомов понял, что бунт бесполезен. Станция была тюрьмой, а Кронов – не надзирателем, а таким же заключенным, просто его камера была просторнее, а цепи – невидимы.
Но Сомов нашел иной способ сопротивления. Он не стал ломать оборудование или пытаться взять командование. Он собрал тех, кто еще мог мыслить, и предложил им не молчать.