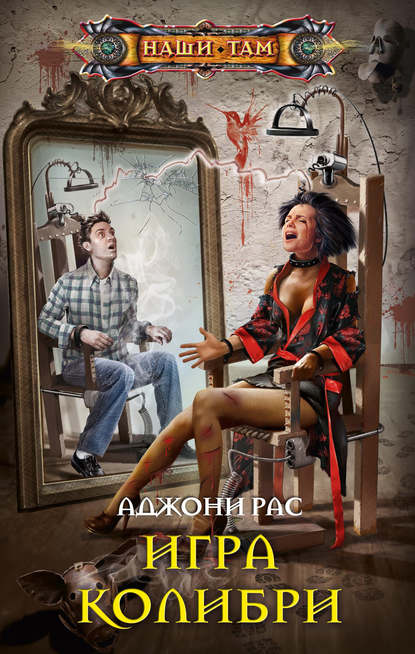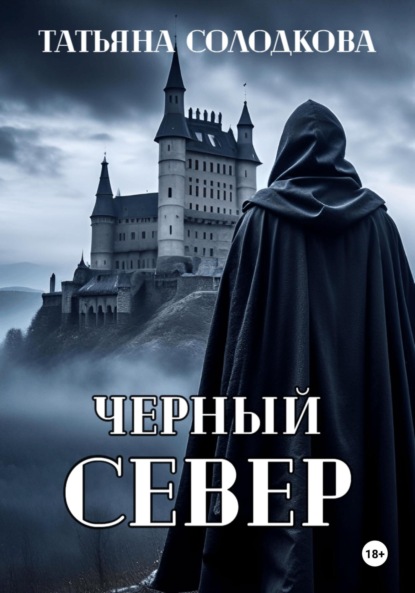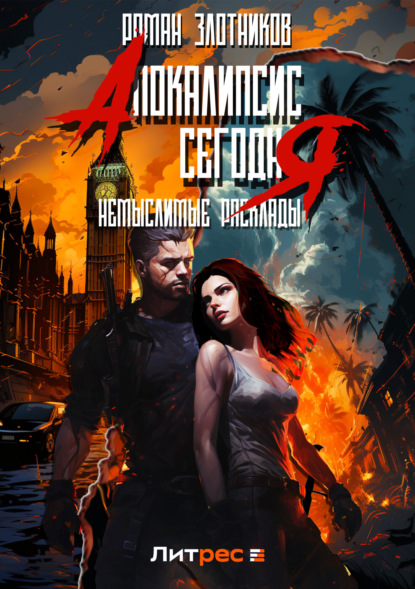Детские политические сказки для взрослых. Том II
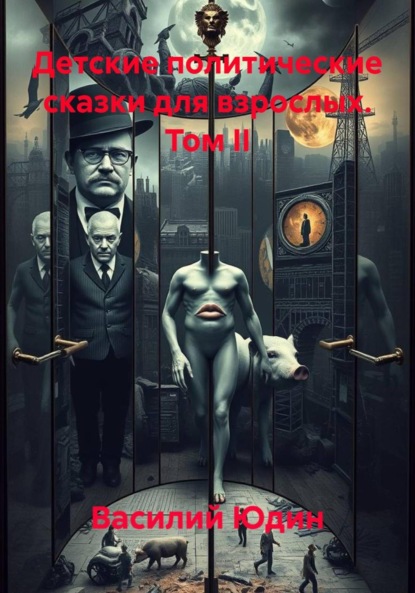
- -
- 100%
- +
Система победила. Но она не была неуязвима. Она могла стереть память, но не могла убить эхо. И это эхо, тихое и неуловимое, продолжало жить в стерильных коридорах сознания, напоминая, что под золотым фасадом Сияния навсегда похоронена правда. И однажды, как вода, точащая камень, это эхо могло разрушить все.
Нейро-реклама, которая знает тебя лучше тебя
В Мегаполисе Единого Потребления, городе, где воздух был густ от наночастиц и ароматов синтетической свежести, высшей добродетелью была Лояльность Бренду. Обществом правила Корпоратократия – слияние власти и бизнеса, где министры носили титулы «Генеральный директор по Социальной Гармонии», а законы писались в рекламных агентствах.
Город был ярусно разделен. В Небесных Кварталах, в домах из самоочищающегося стекла, обитали Акционеры. Они дышали ионизированным воздухом, питались персонально синтезированной едой и развлекались, наблюдая за жизнью низов как за реальностью шоу.
На земле, в Лабиринтах Бетона, жили Потребители. Они работали на конвейерах, собирающих товары, которые сами же и должны были покупать. Их жизнь была серой, однообразной, лишенной смысла. Единственным светом в их тусклом существовании, единственной надеждой, единственной религией стала Нейро-Реклама.
Это была не просто реклама. Это было прямое вещание в зрительную кору головного мозга. Каждый гражданин с рождения получал чип «Око». Он был бесплатным, обязательным и «совершенно безопасным». Чип сканировал глубины подсознания, выискивая самые сокровенные, самые болезненные и самые светлые воспоминания, мечты и потери.
И тогда, в самый неподходящий момент – во время скучной работы, в очереди за пайком, в постели перед сном – перед внутренним взором человека возникал Образ.
Не духи. Не машина. Не гаджет.
Возникала улыбка умершей матери. Тот самый запах яблоневого сада из детства, который давно вырубили под торговый центр. Ощущение первой, неразделенной любви. Вид тихого озера, на берегу которого когда-то было так хорошо, а теперь стоит завод. Образ утраченной мечты стать художником, поэтом, путешественником.
И тихий, ласковый голос, звучащий прямо в сознании: «Верни это чувство. Оно ближе, чем ты думаешь. Ищи. Найди».
Это был гениальный, дьявольский ход. Реклама не продавала товар. Она продавала призрачную возможность вернуть утраченную эмоцию. Люди сходили с ума. Они знали, что это лишь образ, но он был настолько ярок, настолько реален, что затмевал серую действительность. Они бросали работу, семьи, последние деньги, чтобы найти «тот самый» продукт, который вернет им потерянный рай. Они не понимали, что товара не существовало. Существовал лишь сам поиск – бесконечный, изматывающий, заставляющий их крутиться в колесе потребления, надеясь на чудо.
Главным героем этой истории был человек по имени Артем. Скромный архивариус в Музее Аналоговой Истории (посмешище для общества), он был одним из последних, кто помнил мир до чипов. Он жил в маленькой квартирке, заваленной бумажными книгами, и носил очки с специальными линзами, глушившими сигнал «Ока». Он был анахронизмом, чудаком, но он сохранил свою душу нетронутой.
Его жену, Алену, чипировали при рождении. Сначала она смеялась над его «предрассудками». Но с годами Артем видел, как она меняется. Она становилась рассеянной, грустной. По ночам она плакала, а на вопрос «что случилось?», отвечала: «Просто… такая тоска. И запах сирени. Мамины духи…» Она часами могла смотреть в одну точку, а потом вдруг вскакивала и бежала в магазин, уверенная, что «вот оно, сейчас найду!».
Однажды Алена не вернулась домой. Артем нашел ее в больнице для «жертв нейро-перегрузки». Врач, человек с усталыми глазами, объяснил:
«Ее чип зафиксировал глубинную травму – смерть матери в детстве. С тех пор он раз за разом прокручивает ей этот образ, предлагая «найти утешение». Ее психика не выдержала. Она искала несуществующее лекарство от горя».
Артем стоял у кровати жены, которая смотрела сквозь него, что-то беззвучно шепча. В его душе, долго тлевшей, вспыхнул огонь ярости. Он понял, что система отняла у него не просто жену. Она отняла у нее самое себя, подменив личность набором травм, на которых можно спекулировать.
Антагонистом системы был создатель технологии «Око», Генеральный директор корпорации «Онейрос» Логан Стерлинг. Гениальный психопат, он видел в людях лишь «биологические машины с набором предсказуемых реакций». Его логика была безупречна: «Люди несчастны не из-за бедности, а из-за неудовлетворенных желаний. Мы не создаем желания. Мы лишь показываем им их самих. Мы – зеркало. А если кто-то разбивается, глядя в него, виновато не зеркало, а его хрупкая психика».
Артем начал свое расследование. Он был «маленьким человеком», но его знание аналогового мира, его доступ к старым архивам давали ему преимущество. Он нашел единомышленников в лице таких же «отщепенцев»: бывшего нейрохирурга Елену, снявшую себе чип после того, как от нейро-рекламы сошла с ума ее дочь, и хакера по кличке «Призрак», чей брат покончил с собой, тщетно пытаясь найти «тот самый звук смеха» своей погибшей невесты.
Вместе они узнали страшную правду. «Око» не просто показывало образы. Оно их создавало. Оно брало слабый след памяти и усиливало его, делая ярче, идеальнее, болезненнее. Оно не возвращало прошлое – оно создавало его идеализированную, невыносимо прекрасную фальшивку, на фоне которой реальность казалась адом. Это была не реклама, а инструмент тотального контроля, держащий население в состоянии перманентной ностальгической депрессии и бессмысленного поиска.
Стерлинг, узнав о маленькой группе сопротивления, отнесся к ним с презрением. Его слабостью было высокомерие. Он считал их вирусами в своем совершенном организме. Он приказал их «нейтрализовать», не понимая, что вирусы иногда бывают смертельными.
Артем и его группа решились на отчаянный шаг. Они не могли уничтожить все чипы. Но они могли заразить их своим «вирусом». «Призрак» написал программу, которая не глушила сигнал, а подменяла его. Вместо образов личного счастья, чип начинал показывать нечто иное. Общую боль.
Первый, кто испытал на себе действие вируса, был сам Стерлинг. Сидя в своем кабинете на вершине башни «Онейрос», он вдруг увидел перед внутренним взором не свое роскошное поместье, а крошечную комнатушку в Лабиринтах Бетона. Он почувствовал запах плесени и отчаяния. Он услышал тихий плач Алены, жены Артема. А потом – плач тысяч, миллионов таких же Ален. Их общая, накопленная годами тоска обрушилась на него, как цунами.
Стерлинг вскрикнул и отшатнулся. Он был психопатом, лишенным эмпатии, но этот вирус бил не по чувствам, а по самой его сути – по контролю. Он впервые ощутил на себе то, что годами продавал другим – чужую, неконтролируемую реальность.
Вирус распространялся. Люди на улицах останавливались, замирали. Они видели не свои потери, а потери соседей, прохожих, всего города. Они видели общую боль, общую нищету, общее отчаяние. И что-то в них начало меняться. Индивидуальная тоска, разъедавшая их изнутри, начала превращаться в коллективное понимание. Понимание того, что их обманывают. Что они не одиноки в своем горе.
Финал был не однозначной победой. Система не рухнула. Стерлинг и Корпоратократия подавили «вспышку вируса», выпустив «противоядие» – новую, еще более яркую волну персональных кошмаров, заставлявших людей снова замкнуться в себе.
Но что-то изменилось. В Лабиринтах Бетона люди теперь иногда, встретившись взглядом, молча кивали друг другу. Они узнавали ту самую, общую боль в глазах соседа. Артем, чью жену так и не смогли вылечить, сидел у ее кровати и читал ей вслух старые книги. Он знал, что она не слышит. Но он верил, что где-то глубоко внутри, под слоями навязанных образов, живет та самая Алена, которую он любил.
Он проиграл битву, но выиграл нечто большее – он сохранил себя. И он понял страшную и обнадеживающую правду: самая опасная форма сопротивления – это не разрушение системы извне, а сохранение человечности внутри нее. Пока есть хотя бы один человек, который помнит запах настоящего дождя, а не его нейро-сублимацию, у системы есть уязвимое место. И это место – человеческая душа, которую невозможно до конца сканировать, купить или подменить.
Король картонного замка
На пустыре меж пяти серых девятиэтажек, известном как Великая Равнина, царил Хаос. Здесь, среди зарослей лопуха и осколков битого стекла, валялись сокровища: старые автомобильные покрышки, облупленная дверца от шкафа и, главное, картонные коробки. Коробки были валютой, строительным материалом и мерилом статуса в местном детском сообществе.
Все началось с идеи, рожденной в голове мальчика по имени Витя, сына местного участкового. Он был крупнее других, громче и обладал несокрушимой верой в свою правоту. «Давайте построим замок!» – провозгласил он одним летним утром. Идея была встречена с восторгом. Все дети Равнины – тихая мечтательница Лиза, братья-сорванцы Коля и Петя, маленькая болтушка Света и другие – с энтузиазмом принялись за работу.
Витя, естественно, взял на себя руководство. Сначала это было незаметно. «Та коробка покрепче, ее на башню», «А эту разрежем на зубцы». Но с каждым новым ярусом картонного сооружения росла и его уверенность. Замок, сооруженный из старых коробок из-под холодильников и стиральных машин, получился внушительным. У него были стены, башня с бойницами и даже подобие ворот.
И вот, в день, когда была водружена последняя коробка, случилось Великое Провозглашение.
Витя вскарабкался на самую высокую башню, надев на голову картонную корону, смастеренную наспех из коробки от пиццы.
«Отныне я – Король Виктор Первый! – возвестил он, тыча палкой в небо. – А это – мое королевство!»
Дети, уставшие, но довольные, сначала обрадовались. Игра! Какая чудесная игра!
Но игра быстро обернулась системой. Витя-Король оказался прирожденным тираном. Он ввел «законы».
Экономика. Ценностью и инструментом угнетения стали… новые картонные коробки. Их приносили родители после покупки мебели или бытовой техники. Король объявил все новые коробки «королевской казной». Сдать коробку означало получить благосклонность. Спрятать – совершить «экономическое преступление».
Идеология. Лозунгом стало: «ЗАМОК – ЭТО СИЛА! КОРОЛЬ – ЭТО ЗАКОН!». Ритуалом – ежеутреннее принесение клятвы верности у ворот замка. Пропагандой – истории о «великих подвигах» Короля Виктора, вроде того, как он когда-то отнял мяч у мальчика с соседнего двора.
Социальные классы.
Аристократия: Сам Король и его «гвардия» – два верных приспешника, братья Коля и Петя, получившие титулы «Главных Добытчиков Коробок». Они имели право первыми заходить в замок и выбирать лучшие «покои» в башне.
Бюрократия: Девочка Света, болтушка, была назначена «Глашатаем». Она бегала по двору и оглашала новые указы.
Рабочие: Остальные дети, включая Лизу. Их обязанностью было «укреплять стены» (подклеивать оторвавшиеся клапаны), «рыть ров» (прочертить палкой линию вокруг замка) и, самое унизительное, «собирать дань» – отбирать у малышей их личные, маленькие коробочки от конфет или соков.
Маргиналы: Самые младшие, у кого не было ценных коробок. Им запрещалось даже приближаться к замку.
Главной героиней, «маленьким человеком», была Лиза. Девочка с большими, внимательными глазами, она любила не столько строить, сколько представлять, каким будет замок. Она мечтала о балах, о тайных ходах, о принцессах. Сначала она, как и все, подчинялась. Ее трансформация началась с малого.
Король Виктор издал указ: «Для укрепления духа все подданные должны ежедневно проходить полосу препятствий». Полоса представляла собой три покрышки и лужу. Лиза, поскользнувшись, испачкала свое новое платье. Она заплакала.
«Слезы ослабляют королевство!» – строго сказал Король, не дав ей даже утереться.
В тот вечер, глядя на пятно на платье, Лиза впервые подумала: «А почему, собственно? Почему его замок – это хорошо, а мое платье – это плохо?»
Антагонист, Король Виктор, не был просто злодеем. Он был воплощением логики власти. Он искренне верил, что его жесткие правила – благо для всех. «Без меня ваш замок развалился бы за день! – говорил он. – Я поддерживаю порядок! Вы должны быть благодарны!» Его слабостью был страх потерять власть, который маскировался под высокомерие.
Конфликт назревал. Братья-«гвардейцы», Коля и Петя, начали роптать. Им надоело таскать тяжелые коробки, в то время как Король только отдает приказы. Они были «слепыми последователями», чья верность держалась на обещаниях привилегий.
Кульминацией стал «Закон о Единой Игре». Король запретил все игры на Равнине, кроме тех, что он одобрял. А одобрял он только войну с соседним двором. Лиза, которая любила играть в «семью» с куклами из шишек, взбунтовалась.
«Я не хочу воевать! Я хочу играть в свое!»
«Твои игры – глупость! – парировал Король. – Моя игра – это сила!»
В этот момент Лиза посмотрела не на Короля, а на других детей. Она увидела в их глазах ту же усталость и то же непонимание. И она задала самый опасный вопрос, который только можно задать тирану:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.