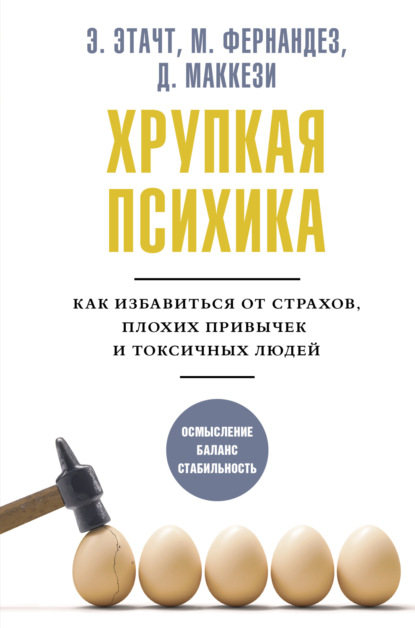Чаруса (роман)

- -
- 100%
- +
– Бил как скотину? – пристально оглядев хозяйку, спросил начальник.
– Не-е, бить не бил, так, постращал маненько. Хлебушко сегодня у нас весь забрали до зернышка, вот он и осерчал на меня, зачем, дескать, я давала.
– Да, постращал маненько. Все тело плетью исполосовано, вон она валяется, плеть-то под порогом, и глаз весь заплыл.
– Дак ведь это испокон веку так заведено, да убоится жена мужа своего. Вот Епифанушка и постращал самую малость…
– Ну, ну…
Вернулся Семушкин и положил на стол перед начальником обрез и подсумок с патронами. Епифан побледнел и губы у него задрожали.
– Из этого убил Селезнева?
– Никого я не убивал.
– Врешь, Зозулин. Ведь мы все знаем. Знаем о тебе больше, чем ты сам о себе знаешь. Так что дурачком не прикидывайся.
"Спирька, – обожгла Епифана страшная мысль. – Все Спирька. И где был хлебушко спрятан, он выдал, и где обрез хранится, и кто убил Селезнева. Все Спирька христопродавец. Теперь конец. вспоил, вскормил погибель на свою голову. Чуяло мое сердце, что не доведут до добра эти книжечки, избы-читальни, репетиции, это якшанье с молодой учителкой, заводилой в комсомоле. Чуяло да не подсказало. Приструнить надо было парня, в узде держать, не уберег, не упредил, вот теперь и расплачивайся. дорого расплачивайся…"
Эти мысли Епифана оборвал строгий голос.
– Собирайся, Зозулин.
– А чо мне собираться? Пачпорт на извозчика, чемодан в карман,– Епифан едко ухмыльнулся. – Собрался. Айдате везите, куда надо.
На Марию, застывшую в кути, он даже не взглянул. Кипело, клокотало в его груди от бессильной ярости и злобы. понял, что опять дал промашку. Когда начальник приказал принести и положить перед ним на стол оружие, надо было пойти, взять обрез, зарядить всю обойму и пострелять гадов. Не думал он, сном духом не знал, что им все уже известно. Спирька, гад. Все Спирька. Проклят будь от меня навеки.
Над селом нависла тяжелая, глухая предрассветная одурь. Не мигнет ни в одном оконце огонек, не брехнет с просонья собака. Только два оконца кособокой избенки бобылки цедили на снежные наметы желтоватый свет.
"Не спят, – мрачно подумал Епифан, – змееныша отхаживают. Слабо я его тюкнул, вскользь. И тут дал промашку, пить не надо было столь. А теперь все. Теперь конец…"
Сердце его тисками стиснула боль. Он запахнул полушубок, сел, окруженный вооруженными людьми в просторную кошовку и покорно и обреченно смежил глаза. Сытые лошади, выехав на дорогу, перешли на рысь, закружились, поплыли закуржевелые деревья, заскрипели кованые полозья, и родное село растаяло в темряве. А в голове словно надоедливая осенняя муха бились, пронзая болью пророческие слова бытия: "Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека…"
Глава VI
Весть об аресте Епифана Зозулина облетела село с быстротой хиуза. Первым пустил ее по ветерку сторож Савоська, слышавший от слова до слова рассказ Спирьки начальнику НКВД. Панкрат Скоробогатов и Федор Зозулин затаились, опасливо ждали нового грома среди ясного неба: они натравляли Епифана на Селезнева, они в тайных беседах учили, как половчее да побезопаснее учинить расправу над партийцем. А вдруг Епифан на допросах ляпнет лишнее, тогда может всплыть и полузабытое: восстание двадцать второго года и пролитая ими кровь. И часто стали слышаться им по ночам в вое пурги колокольчики энкаведевский кошовки.
Елена Николаевна, весь день не выходившая из дому, узнала о случившемся последней. Ввечеру, как и обещал утром, к ним зашел Иннокентий Дымов. Он тщательно обмел в сенцах голичком новые пимы, смущенно переступил порог, снял шапку и благоговейно раскланялся.
– Добрый вам вечер.
– Здравствуйте, Кеша,– ласково встретила его Елена Николаевна. – Раздевайтесь. Проходите. Я и самоварчик поставила, чувствовала, что вы зайдете.
– Как там мой учитель?
– Лежит вон за перегородкой, читает.
– Я пройду?
– Конечно, конечно.
Иннокентий откинул ситцевую шторку, прошел за перегородку. Саша полулежал в постели, на подушках, читал. Голова была толсто забинтована бинтом.
– Будь здоров, учитель, – широко улыбаясь, сказал Дымов и протянул ему руку.
Саша радостно встрепенулся.
– Дымов! Здравствуй, Дымов! А я тебя ждал.
– Вот я и пришел. И не один, а с новостью.
– Какой?
Вошла Елена Николаевна, села в ногах у Саши.
Важнецкая новость. Мизгиря ночью арестовали и увезли в Черемухов. Видел я сейчас Савоську, он все и рассказал. В сельсовете Спирька при нем, при Савоське раскрыл всю страшную тайну начальнику НКВД, обо всем подробно рассказал.
– Что же он рассказал? Он же и сам ничего не знает, не видел, – удивилась Елена Николаевна, – ведь о нападении на Сашу знаем только мы.
– Да о нападении Мизгиря на моего учителя, Елена Николаевна, пока и речи не шло. Спирька рассказал о том, как об эту же пору четыре года назад Мизгирь убил из обреза Степана, мужа вашего.
– Да! – бледнея вскрикнула Елена Николаевна, – Степу он, Мизгирь?
– Он, Елена Николаевна. И на том же самом месте, у амбарушки над обрывом, где и моего учителя убить хотел, если бы я не помешал.
– Вот оно что. А ведь тело-то Степы нашли под забором у Маньки.
– Мизгирь уволок его туда и бросил, мол, мужики из ревности к Маньке убили. А следы-следочки кровавые хиуз зализал. Помните, какой была та ночь, светопреставленье, хиуз мел, не приведи господи.
Бледное от потери крови лицо ваши бледнело все сильнее, нижняя губа была закушена, в глазах сверкал гнев, не детский, не мальчишеский, а совсем взрослый.
– Вот и нашелся папин убийца. Я же говорил…
– Сашенька, тебе много говорить и волноваться нельзя. Ты спи, сынок, а мы еще поговорим немного и попьем чаю, не часто к нам с тобой заглядывают гости. Хорошо?
– Да, мама, я рад, что у нас Дымов и что проклятого Мизгиря уже нет в селе. Жалко только, что сегодня занятия в школе срываются.
– Наверстаем, учитель, не горой. Поправляйся поскорее.
Елена Николаевна вышла из-за перегородки, поставила на стол кипящий самовар, сахарницу, чашки с блюдцами, домашнее, только утром выпеченное печенье. Приходу Дымова она была искренне рада и старалась угодить как могла. Что-то теплое, нежное пробудилось у нее в душе к этому большому и неловкому, сильному и в то же время робкому и стеснительному человеку, которого раньше она вообще не замечала и знала только по рассказам сына. Была ли то благодарность за спасение сына и память о проведенной вместе бессонной и тревожной ночи у постели больного, или что-то большее, она не могла объяснить себе, только чувствовала, что от присутствия этого человека в их горенке было как-то по-особенному покойно и светло на душе и тихая, давно не испытанная радость волнами подкатывала под сердце, и оно то замирало, то начинало стучать учащеннее. Когда-то давно, давно она испытывала подобное состояние при первых встречах со Степаном.
"Неужели то, что было со Степаном в дни ее юности может повториться, – думала она и старалась отгонять от себя эту мысль, – ведь если это повторилось бы, то это было бы изменой степе, предательством. Нет, нет, это немыслимо, это невозможно, ведь мертвых чаще всего любят сильнее и вернее, чем живых…" А на душе было светло, и тихая радость не проходила.
Саша, обрадованный встречей со своим любимым учеником и важной новостью, которую он принес, вскоре незаметно уснул и Дымов бесшумно вышел из-за перегородки.
– Не надоел я еще вам?
– Нет. Что вы. Спасибо, что пришли. Садитесь, будем пить чай с печеньем. Сама пекла. Попробуйте.
– Да вроде бы неловко как-то.
– Отчего же неловко? Садитесь, садитесь. И будьте как дома. Я женщина простая, зря вы меня боитесь или стесняетесь, не знаю, как лучше сказать.
– Строгая вы очень, Елена Николаевна. Так все мужики в селе говорят.
– Строгая? Пожалуй, совсем не строгая. Может быть точнее сказать, для любителей женского пола неприступная, порядочная, блюду себя строго, я ведь не Манька. Но не будем об этом.
Маленькое ознобленное солнце нырнуло за тусклый горизонт. Быстро стемнялось. Елена Николаевна зажгла лампу. В комнате стало еще теплей и уютней. Пофыркивал кипящий самовар. Дымов любил эта бесконечные зимние вечера, когда постреливает фитиль в лампе и от голландки льется тепло, проводить вдвоем с матерью в тихих беседах, а то и молча. пить чашку за чашкой чай и слушать как бьется о стены бесприютный ветер и завывает в трубе. А тут рядом была женщина, на которую он и дохнуть-то боялся и боялся посмотреть в ясные глаза.
Елена Николаевна налила в чашки чай, подвинула поближе к Дымову печенье, сахарницу и баночку с вареньем из лесной земляники, сама села рядом с самоваром.
– Угощайтесь, Иннокентий, как вас по отчеству, не знаю.
– Мокеевичем величают, а вы просто зовите Кешей, как все зовут.
– Пейте, Иннокентий Мокеевич. варенье вот попробуйте, сама и землянику в бору рвала, сама и варенье варила. Вкусное ли?
– Благодарствую.
Долго и неловко молчали. В простенке гулко отстукивали время ходики: тиктак, тик-так. Дымов вспотел. Вытер рукавом пот на лбу. Молча выпил еще чашку.
– Ух, хорошо! Отродясь не пивал такого вкусного чая.
Опять помолчали. Это неловкое молчание, тяжело вздохнув, нарушил Дымов.
– Елена Николаевна, – отхлебывая из блюдца чай, заговорил он тихо и смущенно, – что я хочу сказать вам… И боюсь.
И замолчал.
– Говорите, Кеша, говорите, не стесняйтесь. Я вам за спасение Саши до конца своей жизни обязана. Да и не рассчитаюсь, наверное, до конца жизни.
– Расчета мне, Елена Николаевна, никакого не надо. О другом я. О самом дорогом и заветном, ночами бессонными, мучительными до конца обдуманном…
Он грустно и как-то виновато посмотрел ей в глаза.
– Я, конечно, темный мужик, неграмотный, всяким там обхождениям не обучен, вроде собаки дворовой, все понимаю, а сказать не могу.
– Да о чем же вы? – Говорите, улыбалась Елена Николаевна и эта добрая, лучистая улыбка окончательно сбивала Дымова с толку.
– Не знаю, с которого конца и начинать.
– А вы с любого начинайте.
– Степана, всеми нами любимого не вернуть. Четыре годочка уже минуло. А вы женщина молодая, красивая, зазря вы себя губите…
– Что ж, Кеша, такова моя доля горькая.
– А ить ее, долю-то горькую и подсластить можно.
– Не пойму что-то, Кеша, о чем вы?
Иннокентий поперхнулся чаем и покраснел как буряк.
– Не мастак я такие слова говорить, Елена Николаевна, уж не обессудьте. Может вдругорядь скажу, как осмелею…
Елена Николаевна посмотрела на него с нежностью и грустной радостью. Она все поняла и без слов своим безошибочным женским чутьем.
– Пейте, Кеша, лучше чай. Давайте чашку, я вам еще налью. А вкусный у меня чай потому, что я в него душистых трав добавляю.
– Пожалуй, и еще выпью, больно вкусен у вас чай-то, – смущенно пробормотал Дымов, все больше краснея. Люблю я, Елена Николаевна, своего учителя как родного сына. Смышленый малец. Умница. И характером честен и прям.
– Весь в Степана покойного.
– И вас, Елена Николаевна, люблю. Все сердце изболелось по вас. Выходите за меня замуж, хватит уж вдовушкой-то жить. Я хоть, и мужик неотесанный, а вас на руках носить стану, молиться стану на вас.
– Кеша, дорогой, да какая же я вам жена? Я – вдова. У меня сын растет. Мне уже скоро будет тридцать. Морщинки вон паутинками прилипают к щекам и шее как по осени тенетник. А в селе столько девушек, свеженьких как весенние цветочки, красивых, семнадцатилетних. Взять хотя бы Ксющу Козулину. Красавица писаная. Коса ниже пояса, губки аленькие, вишневые, стройна как тростиночка. Вы об этом подумали?
– Все передумал, Елена Николаевна. К вам душа лежит. Больше ни к кому. А то, что вы чуток постарше меня, и то, что у вас есть ребенок так это сущий пустяк, ежели человек любит, то он и с пятью детьми возьмет. Любовь – она штука замысловатая, ее не обойдешь и не объедешь стороной, как судьбу. Так-то, моя ваталиночка.
Он опять тяжело вздохнул и опустил глаза.
– Спасибо вам, Кеша, за искренность, за ваше расположение к нам с Сашей. Вы добрый, вы славный. И если все, что вы сказали серьезно, то разрешите, Кеша, мне подумать над вашими словами.
– Подумайте, Елена Николаевна, я вас не тороплю, я буду ждать, всю жизнь буду ждать.
– Милый вы мой, да стою ли я этого? Я понимаю, может быть вы и в самом деле любите меня, кровь в вас молодая, хмельная играет. А потом, через год-два, через несколько лет опомнитесь, охладеете ко мне и будете горько сожалеть о своей ошибке. И тогда всем нам будет трудно. Очень трудно. Ошибиться в своей любви, в своем единственном выборе – значит ошибиться в своей жизни, понимаете ли вы это?
– Все понимаю. И все для себя решил. Один раз на всю жизнь. И учиться буду и робить буду. И все ради вас. По гроб не разлюблю, никогда жалковать не стану, никогда не обижу ни одним словом упрека. Даже втайне об этом не подумаю.
– Я обещаю вам серьезно подумать об этом. Только не торопите.
– Спасибо. То я и того, пойду. Учитель-то мой спит, да и вы, наверное…
– Сидите, Кеша, сидите. Мне с вами так славно, так покойно на душе.
Мы ведь с Сашей всегда одни. А одиночество – трудная вещь. Оно убивает душу. Человек животное стадное и ему необходимо постоянное общение с себе подобными. Хотите, я вам почитаю что-нибудь интересное.
– Почитайте.
Дымов засиделся в кособокой избенке в тот вечер допоздна. Саша спал. а они сидели друг против друга за столом. Елена Николаевна читала вслух, а Дымов, слушая, то блаженно улыбался, то хмурил брови, и молодое, румянощекое лицо его было счастливым. Иногда он, не понимая что-то из услышанного, спрашивал ее, она просто и доходчиво объясняла, и чтение продолжалось.
По селу уже во всех концах голосили петухи, когда Дымов, неловко простившись, ушел.
"Да, жизнь идет, – всматриваясь в белесый студенистый сумрак и прислушиваясь к удаляющемуся хрусту снега под шагами Дымова, думала Елена Николаевна, – и у жизни свои законы. Я еще молода и надо жить".
И Елена Николаевна впервые за четыре года, прошедшие после гибели мужа улыбнулась в темноту счастливой улыбкой.
В низком и ясном небе холодно пылали Стожары, а рядом трепетным светом светились три ярких звезды.
– Девичьи Зори, – улыбнулась им Елена Николаевна, – и одна звездочка моя.
Глава
VII
Возвращаясь от Елены Николаевны, Дымов наткнулся на ватагу девушек и парней, вываливших от салдатки Маньки с посиделок. В Манькиной избе еще наяривала "Подгорную" гармонь и тренькала балалайка. Из занавешанных ряднами окон чуть процеживался жидкий свет и доносились невнятные голоса и смех. Молодые парни и подростки степенно поздоровались с Дымовым как со старшим и кучками потопали по своим краям, кто на Крутоярку, кто в Заречье, кто на Могилёвку. Девки окружили Дымова, самые же бойкие и пересмешливые Норка Обуткина и Ксюшка Козулина подхватили его под руки и весело смеясь, затормошили. Знал Дымов, что не одна подгорновская девчонка сохнет по нему, не одной в тревожных и измятых девичьих снах снятся его льняные кудри, румяные щеки и голубые как весеннее небо глаза, и удивлялись, чего это парень до сих пор не женится. Сам себе хозяин, живет справно, зажиточно, а молодую жену в дом не ведет, сватов ни к кому не засылает. Удивлялись и вздыхали украдкой, и провожали тоскливыми взглядами его высокую статную фигуру в бежевых чесанках и новом полушубке с мерлушковым воротником. Красив и широк в плечах был Кеша Дымов, и хозяин, работяга, да, видно, не про них, не им сужен, ряжен. Разлетелся нынче по селу как пух от вспоротой перины разносится ветром, слушок, что ранним утречком вышел Кеша дымов от бобылки, учителки и совсем загорюнились невесты: "Вот как она разгадывается загадочка-то, к учителке вдовой проторил Кеша стежку-дорожку, на ее белой рученьке спит, нежится, а учителка-то баская да статная, не им чета…"
И самая востроглазая и бойкая среди подружек, заневестившаяся девка переросток, ровестница Дымова Нюрка Обуткина, бесстыдно прижимаясь к нему всем телом, затараторила в самое ухо.
– Кешенька, ай не угодил чем, учителке-то, что домой топаешь, не остался ночевать, нежиться на ее мягкой перине и пышной белой рученьке?
А? Ах, ты кот шкодли-вай, тихоня, тихоня, а учуял, где блин-то помасленней. Бают люди, что прошлую ноченьку у нее спамши. Видели, как рано утречком шел от своей ягодиночки веселехонькой, облизывамшись, сладкий, знать, медок испимши. Чо молчишь?
–А чо мне с вами, девоньки, разговоры разговаривать? Был. От нее утром шел, от Елены Николаевны. Верно, люди зря не сбрещут.
– Бессовестный. Девок тебе в Подгорном мало? Аль вдовушки-то скуснее, они уже а-бу-чен-наи, аб-тер-там, с имя легше. Ха-ха-ха, хо-хо-хо…
– Сладко, знать, было целовать губки алые и титьки сосаные мять? А?
– Нюрка, бесстыдница. Каки слова говоришь?
– А чо, вдовушки-то, бают мужики, слаще нашего брата, девок. Скажи, Кеша.
Иннокентий не сердился, улыбался во весь рот тоже смешком. и охотно поддакивал смешком.
– А и слаще. А што мне с вами-то лясы точить на посиделках, хохотки ваши слушать да на ужимочки ваши смотреть?
– Жениться думаешь на учителке-то, аль так будешь похаживать?
– А это, девоньки, уж мое дело.
– Знамо, не наше. А ты оженись, оженись, и сынок уже есть готовенький, трудиться не надо.
И опять весело хохотали, хоть и щипало на сердце у Ксюшки Козулиной и слезы застревали в горле. Любила она Кещу первой девичьей любовью. Любила и страдала.
– Ладно, девоньки, приятных вам снов. Я уже дома.
– До свиданьица, Кеша.
Этот разговор с девушками и смутил немного Дымова и развеселил.
"Все село уже знает, – подумал он, обметая голиком заснеженные чесанки, ну и пусть знают, село не город, ничего не утаишь, в одном конце села чихнул, а на другом "будь здоров" скажут. Завидки берут девок, что ими пренебрег, а к вдовушке повадился…"
Мать не спала. Ждала.
– И где ты, гулёна, до петухов шастаешь? Все учишься, аль на посиделках гулял у Маньки? Учителя-то вашего, сказывали, чуть не убил Мизгирь прошлой ночью.
– Убил бы, маманя, если бы я не погодился.
– Да ну…
– Право, убил бы. Я спас парнишку. А Мизгиря арестовали и увезли. Амба Мизгирю. Отвоевался. Степана-то Селезнева он убил четыре года назад. Все теперь и обнаружилось. Сын его, Спирька, рассказал обо всем.
– Восподи, родной сынок отца на казнь лютую… Сказано было в святом писании, что придут времена, когда сын пойдет с мечом на отца и брат на брата.
– Это, маманя, уже было в гражданскую, когда брат шел на брата.
Чо творится, чо творится на белом свете. Теперь-то откуда?
Иннокентий промолчал. Он думал о своем. Решение его жениться на Елене Николаевне было твердым и если только она даст согласие, то не откладывая дела, решил Кеша в начале марта справить небольшую свадебку, без шума, без особой гульни, невеста все же не девка, а вдова, да к тому же пришлая, сродственников никого нет. А на мирское мнение, на суды-пересуды Дымов чихал: ему жить, а не кумушкам-межедворкам, разносящим по селу молву. И решил сегодня же все сказать матери. Теперь не старые времена, не надо ждать ни Красной горки, ни цветного мясоеда, в сельском Совете в любой день зарегистрируют.
Иннокентий Дымов жил вдвоем с матерью Парасковьей Леонтьевной. Отца он совсем не помнит. Он умер от ран в девятьсот седьмом году, вернувшись домой после русско-японской войны, мало рабочих рук было в дому, но хозяйство было справное. Крестовый дом давней, еще дедовской постройки, окруженный амбарами, конюшней и завозней с новыми тесовыми воротами и заплотом, гляделся со стороны не хуже других домов мужиков более зажиточных, крепко сидящих на земле и имеющих в дому полный достаток. Сильные и работящие руки Иннокентия успевали повсюду: и хлебушко по весне посеять и собрать до единого колоска, и сено вовремя заготовить, и со скотинкой упораться. Была у Дымова, как и любого справного мужика только одна, но еще молодая и сильная лошадь, на которой он успевал делать все, был новый двухлемешный плуг, борона, ходок, сани, кошовка и телега на железном ходу, две коровы, овцы, домашняя птица. Каждый год он выкармливал двух свиней, одну резал для себя, другую на продажу в Черемухов. Жили они с матерью в достатке, водились в дому и деньжонки небольшие, но на черный день надежные. Дымов не выпивал как многие другие, не курил табаку и вообще вел строгий и размерянный образ жизни: вся его радость была в труде, он помнил наставления стариков: ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает. И Дымов, сколько помнит себя, не знал, что такое лень, как это можно жить и ничего не делать, лениться работать. И людей ленивых вроде Савоськи за людей не считал, так, зря землю топчут.
– Укинать-то станешь ли? – спросила мать, испытующе глядя на сына и примечая в нем какую-то непонятную новизну.
– Простокваши разве глотну. И есть у меня, маманя, серьезный разговор с тобой. Не поздно ли?
– Ничо, Кеша, ничо. Я днем выспалась. Головушку ко сну еще не клонит, раз разговор есть, то и поговорим, для чо назавтра откладывать. Иннокентий помолчал, не зная с чего начать. И рубанул сплеча.
– Хочу я, маманя, ожениться.
– Слава тебе, Восподи, парень за ум взялся. Услышал господь мои молитвы. К кому же думаешь сватов засылать? Уж не к Козулиным ли? Ксюша-то Козулина в самой поре, да и поискать другой такой.
Липо матери озарилось теплым светом, глаза засверкали радостью.
– А мы, маманя, без сватов, по полюбовному согласию.
– Ладно ли так-то, Кеша?
– Теперь же, маманя, все по-новому.
– Оно так, оно так, все пошло шиворот навыворот, а все ж без сватов несподручно как-то. Чо люди скажут? И кто ж она, твоя зазнобушка? Из хорошей ли семьи? Ведь, сынок, нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Так в Святом Писании сказано. Коли от хороших родителей, то вот тебе и мое материнское благословление, сейчас и икону с божницы достану и благословлю. Кто же она, сказывай.
– Зовут ее, маманя, Еленой, а величают Николаевной.
– Чья же будет девица Елена?
– Да наша учителка, маманя, ай не знаешь?
Мать оторопела. Губы у нее задрожали, глаза часто заморгали ресницами, руки растерянно затеребили оборку кофты.
– Осподь с тобой, Кеша, аль ты не в своем уме? – всплеснула руками мать, опомнившись от оцепенения,– да кака же она тебе невеста? Вдовушка горемычная, да и не одна, а с парнем.
Вот и славно, скалил зубы сын, – трудиться не надо, готовый помощник подрастает. А парнишка – поискать таких! Смышленый, нас дураков уму-разуму учит. Чем не сын?
– Свят, свят, свят!
– Не горюй, маманя, заживем мирно да дружно. Елена Николаевна – умница и добрейшая.
–Да тебе чо, девок нет?
– На кой мне ляд девки. Они, на котору ни глянь, все толстопятые какие-то, а Елена-то Николаевна царица.
– Сдурел парень. Бобылку в жены. Окстись! Аль беленой кто опоил тебя? Бо-был-ку в жены…
Мать от испуга перешла на плач, жалостливый, рвущий душу.
– Я жду не дождусь помощницу в дом, себе замену, от чугунов да ушатов рученьки мои уже болят, а сыночек любезный приведет в семью белоручку, советскую барыню, антиллигентную, книжечки будет читать да нежиться и не шикни на нее, не крикни. Да она и квашни-то не умеет поставить и хлебы-то неспособна по-людски испечь. О-ё-ёшеньки. Она и коровку-то подоить не умеет. Да в уме ли ты, Кеша? И што с тобой подеялось? Чем приворожила она тебя? Каким зельем?
И жалобное хныканье матери переходило в вой, словно дорогого покойника оплакивала.
– А я-то думала, гадала, что вот женится мой Кеша, облегчение в семью придет, отдохну на старости лет, измаялась, поди, за всю свою жизнь несладкую, одинокую, даст бог внука или внученьку дождусь, няньчить буду, душу свою тешить, радовать, А тут, прости ты меня, восподи, вместо внука лоботряс появится, лишний рот за столом. 0-ё-ё- ешеньки…
– Да люблю я ее, маманя, вся моя душа по ней иссохлась. Нету мне без нее жизни. Нету и не будет. Аль ты сыну родному, в сиротстве выросшему, ласки отцовской не знавшему, счастья не желаешь, аль нету в твоей душе сострадания к другому сироте? Ты же сама с измальства учила меня не делать людям зла, а научиться делать добро, искать правду, защищать сироту и вступаться за вдову. Разве я обижаю тебя? Разве я поступаю дурно?
Мать притихла, съежилась вся в комочек, стала вроде бы меньше и беззащитнее.
– И не барыня она, а женщина трудолюбивая, работящая, и квашню тебе поставит и хлебы испечет и коров подоит не хуже тебя. А какое я у нее нынче печенье ел, прости меня, матушка, но такого ты ни разу не пекла. А уж какая она добрая. И не неженка она, не белоручка, а наших крестьянских кровей, только ученая. И ты полюбишь ее, как и я, и Санька ее полюбишь, малец золотой.