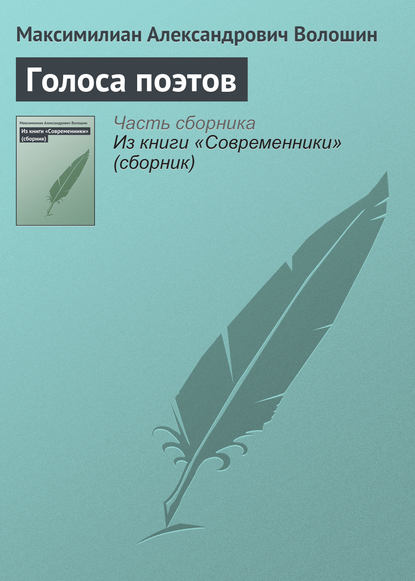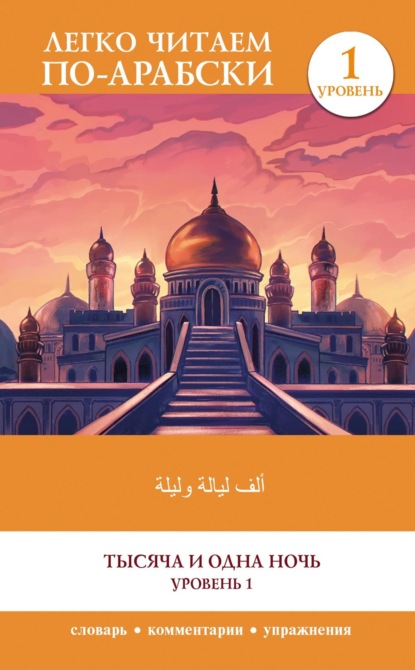Чаруса (роман)

- -
- 100%
- +
– Приехали, паря, прямо серому волку в пасть.
– Здрасте. Вот и мы явимшись.
– А где оркестр? Духовой.
– Оркестр дунет, когда в яму станут закапывать.
Выгрузились большой взъерошенной толпой, грязные, завшивевшие, изголодавшиеся, с лихорадочным блеском в глазах, осунувшиеся и постаревшие, сбились в кучу как стадо овец, учуявших волка. стали ждать. Старший по конвою распоряжался посадкой в телеги, Бородатые возницы начали запрягать лошадей, каких-то нерусских, низкорослых и мохнатых.
– Старухи и бабы с малыми детьми – на телеги. Мужики и бабы, стройся! Пересчитали всех в строю и на телегах. Заглянули в бумажку. Еще раз
пересчитали.
– А где еще один?
– А бабку дорогой похоронили.
– Верно, одну похоронили.
– Далеконько ль ехать-то еще, соколик? – спросила бабка Козулиха у
служивого.
– Не дюже далеко, бабуля. Верстов двести с небольшим гаком.
– Родимые мои! Верстов двести… легкое дело сказать.
– Доползем, – рассмеялся солдатик, – комарья, правда, в лесу много.
– Вот вам и гнус. А вы не верили знающему человеку.
– А ково же мы там делать-то станем, в лесу непроходимом? – не унималась Козулиха.
– На ведьмедей станем охотиться.
– Батюшки светы…
Не прошло и часа, как все старухи и бабы с малыми ребятишками были рассажены на телеги, мужиков, молодых баб и девок выстроили по пять в ряд. Заскрипели по песку колеса. Старший зычно скомандовал:
– Ша-ом-м арш-ш-ш!
И колонна, вытянувшись на километр, побрела, пыля, и скоро ее хвост скрылся в густом, стоявшей по бокам колчеватой, еле приметной дороги, глухо шумевшем вековом сосновом бору.
На колонну тучами налетело голодное лесное комарье, тело обжигало огнем и непонятно было, то ли это грызут вагонные вши или комары пьют мужицкую кровь.
Над молчаливым и мрачным лесом по краю еле видимого вдалеке небосклона темно-синей горой теснилась черная наволочь. Надвигалась гроза. Фиолетовые молнии вдоль и поперек стали одна за другой вспарывать небо. Глухо пророкотал гром. Через минуту небо оглушительно раскололось и хлынул холодный мутный ливень, перешедший в град, крупный, больно секущий по головам, спине, рукам. Люди понакидывали на себя тряпицы, зипуны, рваные лохмотья, побрели по щиколотку в воде, текущей по колее бурными потоками, пузырясь и пенясь.
Дымов, Елена Николаевна и Саша шагали в хвосте колонны.
– Вот и началось, тихо сказала Алена Николаевна.
Ни Дымов, ни Саша ей не ответили. только охранник, шагавший сзади колонны с винтовкой наперевес, прикрикнул.
– Подтянись! Не отставать!
Да филин захохотал громко в лесной чаще.
– Ух-ха-ха.
– Ух-х-ха-ха…
Путь на Голгофу продолжался.
А когда гроза утихла и ливень прекратился все в наступившей тишине услыхали протяжный и жуткий вой волков.
По спине побежали холодные мурашки.
Глава
X
Поселок торфяника "Гнилая падь" был невелик. В самом центре его на веселом взлобочке в окружении высоких белоствольных берез стояли два длинных свежерубленных барака похожих на станционные пакгаузы. На недавно ошкуренных толстых бревнах еще литарем поблескивала растопленная солнцем смола и хмельно пахло живицей. Чуть в стороне от бараков на горке стояла тоже недавно построенная контора, где размещалась директор торфяника, прораб и бухгалтерия. Поближе к березовой роще стоял просторный дом директора торфяника с двумя верандами, окруженный палисадником, где густо разрослись рябина и черемуха. В самом центре же, рядом с новыми бараками стояла пожарная с высокой каланчей и мрачной казармой, где размещалась военизированная пожарная команда. Она же несла и охрану спецпереселенцев. Сбоку к пожарне приткнулась небольшая рубленая избенка – магазин или лавка, как тут ее знали. Перед самой стеной векового бора прятались среди берез и осин десятка четыре пятистенных домик и землянок. А на восток от этих построек до далекой, тающей в голубоватом тумане гривы соснового бора лежала ровная как столешница низина, по которой летом гуляла вольные ветры, а зимой завихривала, свистела пурга. Это и было торфяное болото, где добывали торф. С правой стороны перед лесом чернели огромные бурты уже высушенных и готовых к отправке торфяных кирпичей.
Вольных, то есть не ссыльных на торфянике жило всего пять семей: директора, бухгалтера, лавочника, десятника или прораба и заведующего рабочей столовой. Все остальные были ссыльными, раскулаченными. Первыми на торфяник вместе с начальством прибыли украинцы, сосланные из Полтавцины и кубанские казаки. Жили они отдельными общинами: украинцы – отдельно, кубанские казаки – отдельно. Бараков тогда еще не было, и поселенцы начали "нове життя" с того, что ежедневно после резки торфа, живя в шалашах и балаганах, стали рыть себе глубокие норы – землянки.
Так на торфянике «Гнилая падь» до прибытия сибиряков образовались два края или угла – кубанский и хохлацкий. Оба края жили обособленно один от другого, казакаи звали свой угол станицей, а полтавщане – хутором. Кубанцы сохраняли свои казачьи обычаи, а полтавщане – хуторские.
В станице жил как на подбор рослый, красивый, породистый и степенный народ, хозяйственный и на редкость трудолюбивый. На хуторе люди были поменьше калибром и посерее. Даже норы, вырытые в станице отличались от нор хохлацкого края крепостью и добротностью, а три многосемейных казака успели построить себе даже пятистенные избы. Особенной юной, степной красотой отличались кубанские казачки, все как одна высокие, породистые, чернобровые, тонкостаные и красивые с лица. И когда они по утрам перекликались сочными грудными голосами, то было слышно по всему торфянику. Казаки же и тут сохранили свою казацкую удаль и стать, носили пышные усы, а по выходным дням и праздникам надевали на бочок казацкие фуражки и ни весть каким чудом сохранившиеся дедовские папахи, шаровары с лампасами и офицерские кителя царского покроя, с крестами и медалями.
Когда начальство спрашивало кубанцев и полтавчан, отчего они не пожелали, как старожилы вселиться в новые бараки, они отплевываясь, говорили в один голос:
"Хай яка ни погана, а своя хата, свий угол, бо и у писни спиваеться: "Построй хату з лободы, а в чужую не веди". Ото ж.
– Хай им, тим баракам лихо буде. Нэ пидемо. Погана хата, без свитла та своя.
– Хай комунари живуть у тих казармах уси гуртом, а мы поодинке будемо, як диды наши як прадиды.
Директором торфяника "Гнилая падь" был сорокалетний высокий и упитанный детина, с блюдцем плеши на темени, с толстыми всегда масляными губами, быстрой танцующей походкой и тоненьким детским голоском. Ходил он в начищенных до блеска сапогах, синих шевиотовых галифе и "сталинке". Лицо у директора смахивало на бабье, с толстыми румяными щеками и с подбородочком, напоминающем гусиную гузку. Кодили среди ссыльных слухи, что директор из бывших, перелицевавшийся.
Бухгалтером был невзрачный человек, сухой и тонкий как тарань, с заржавленным хриплым голосом, ходивший в дешевеньких простых штанах с бутылками на коленях и простеньком кургузом пиджачке в серую полоску с протертыми до дыр локтями. Лицо его когда-то по-видимому было очень красивым с живыми цвета спелого каштана глазами, густыми, но тонкими бровями, сросшимися к переносью, высоким благородным лбом, а теперь все ссохшееся как прошлогодний соленый огурец с такой же прозеленью и нездоровыми мешками под глазами. Если директор Петр Ильич Стародубцев был обременен больной семьей в восемь неработающих ртов, было у него шесть девиц от года и до пятнадцати, то бухгалтер Илья Петрович Огибалов свои тридцать семь лет был холост, жил в клетушке при бухгалтерии, где должен был размещаться архив и имел обыкновение по утрам так натирать нос, что весь день он имел вид чего-то среднего между свеклой и морковью. Еще от Ильи Петровича всегда попахивало спиртным, чесноком и черемшой. Третьим по чину начальником был десятник или прораб. Примечательного в нем было мало. Был он криклив и со всеми груб. Плоское лицо его никогда ничего не выражало. Он обычно весь день ездил верхом на низкорослой и мохнатой монголке или привязав лошадь к ближайшей березе, ходил от делянки к делянке, с нагайкой в руке и время от времени постегивая ею по голенищу стоптанного на правый бок сапога, останавливался, смотрел на работу торфорезов, дымя папиросой, сплевывал окурок, тушил его пяткой, так как курить на торфянике строго запрещалось, говорил громко, чтобы слышали все.
– Линию строго держи. Чтобы мне без крошева.
И шел дальше.
Все знали, что Иван Наумович был большой мастак объемелить рабочего- торфореза при составлении нарядов, хотя лично ему это было совсем невыгодно, премию меньшую получит, а так, по-привычке обсчитывать людей, держать в повиновении и страхе: тогда люди оказывают ему больше почтительности. Поговаривают, что Иван Наумович был приказчиком у богатого купца и прежние замашки купеческого управляющего вошли в его плоть и кровь. Примечательной личностью на торфянике был заведующий магазином или лавочник Дмитрий Степанович Ожогин. Это был очень красивый мужчина с темно-русыми вьющимися колечками волосами, большими карими глазами и тонкими чертами лица бледно-оливкового цвета, правильным римским носом он чем-то напоминал итальянца. Всегда аккуратно выбритый, пахнущий одеколоном, безупречно и чисто одетый он отличался от других обитателей торфяника, серьезной рассудительностью, добротой и большой любовью к детям. По тому, как он любил часто употреблять в разговоре слова "не имеем-с", "очень даже добротное-с", "благодарим-с" в нем угадывался даже не приказчик, а купец средней руки, а может быть и тысячник или миллионщик прежних дореволюционных лет. Чувствовались в нем добропорядочность и сострадание к людям. Все на торфянике относились к нему уважительно, а он, отвечая им тем же, со всеми здоровался за руку, приговаривая: "мое почтение". Слова – уже вышедшие из людского обихода.
Лавка была невзрачной, тесноватой и подслеповатой, одно единственное зарешеченное толстой решеткой окно скупо цедило внутрь блеклый как бы разжиженный свет. Но в лавке было все, что необходимо работному человеку для его немудреной жизни: мыло и керосин, хлеб кирпичами, всегда черствый, так как привозили его издалека, ветчина, сало, круги колбас, сахар головами и песком, гвозди и лопаты, ситец и ворвань, чоботы и баретки, постное пасло и даже пряники, мармелад и крендели. Но больше всего и регулярнее всего завозилась в лавку водка. Бутылки всех размеров занимали всю нижнюю полку у окна, начиная от шкаликов они росли диаграммой до трехлитровых четвертей с красными сургучными головками. В этом по-видимому был свой расчетливый смысл: пей больше и ни о чем не думай, веселись, широкая русская душа, ты живешь счастливой жизнью.
Торговал Дмитрий Степанович Ожогин, человек жалостливый и сострадательный ко всем, тоже по старинке, по-купечески, больше не за наличные деньги, а в кредит. Его толстая и засаленная долговая книга была до половины исписана фамилиями должников, перед некоторыми не зачеркнутые цифры рублей и копеек долга стояли по шестнадцать, двадцать и больше раз. Понимал лавочник Степанович, что скудную нищенскую зарплату ссыльным за тяжелую каторжную работу дают только дважды в месяц, а есть человек хочет каждый день.
О последнем государственном человеке на торфянике заведующем рабочей столовой сказать совсем нечего. Низкорослый как болотный ерник и такой же сучковатый, узкий в плечах, и широкий как баба в тазу с начинающим округляться как надутый шар животиком, был он юрок, быстр в движениях, словно всегда спешил на пожар, прилипчив ко всем женщинам, работающим в столовой и нечист на руку. Маленькие маслянистые и похотливые глазки метались из стороны в сторону, ни на чем кроме женских ног не останавливаясь, никогда, ничего не выражали, не были ни веселыми, ни печальными, ни просто задумчивыми. Маленькие ручки с толстыми и короткими пальчиками заметно подрагивали, были всегда в таком состоянии о котором в народе говорят: "Ты что чужих кур воровал?" Но фамилия несмотря на его физическое и душевное уродство была благозвучной и приятной – Скворцов Ефим Ефимович. Директор торфяника и Скворцов были партийцами. Ефим Ефимович в пятистенном домике из трех комнат, имел жену Глафиру, худенькую бледную и тихую женщину и двух худосочных девочек. Домик Ефима Ефимовича стоял особняком от других домишек и имел веселый и нарядный вид.
Всех новоприбывших разместили в двух бараках. Встречать пополнение вышли все от мала до велика: такое скопище людей в этом медвежьем углу встречается не часто. Когда колонна подошла к конторе и остановилась со всех сторон посыпались в толпу вопросы.
– Казаков кубанских немае?
– Нет.
– А 3 Полтавы е?
– Э, куда хватил. С Полтавы. Да из Сибири мы.
– Шо и сибирякив у ссылку? Хиба там, у Сибиру, не ссылка?
– Для кого как, – неохотно ответил хохлу старик Козулин, – а для нас была родная земля. Мы из села Подгорного, есть из Подсосного, Кедровки, Гремячего Ключа, Лиственки, из разных сел.
– Значит и до Сибири добрались.
– А добрались. У советской власти руки длинные, всех мужичков, что покрепче – под гребеночку.
– И чик, чик?
– Чик, чик. Ограбили до нитки и вот к вам, православные.
– Гляка-сь…
– Завоевали себе советскую власть, хочешь – помирай, а можно и живых в гроб класть. Только и гроба-то нашему брату не полагается. Мы вон старуху Ксенофонтиху без гроба в яму зарыли как кобылу чумную або собаку бешеную, завернули в тряпицу и зарыли в землюшку, даже креста осинового не позволили над могилой усопшей поставить. Эдаки вот дела.
– Як так без хреста? Було б требоваты.
– У паровоза? Засвистел и айда дальше, поехали.
– Пагано, пагано…
И словно в давние времена крепостного права шло на барском дворе определение в кучера, егеря, псарники, дворню, стряпухи и в барские покои, началось у конторы людское торжище. Распоряжался всем прораб Иван Наумович Красников. Он молча оглядел прибывших.
– Крошево…
Все переглянулись. Что означало презрительно брошенное слово – никто не понял.
Первым прораб вытянул из строя благообразного с белой бородой Саваофа и еще ядреного в теле старика Козулина.
– Будешь, батя, караульщиком у складов и лавки. Иди в барак. Спи. Ночью на пост. Да смотри, чтобы без всякого крошева.
– Чаво? Чаво? – не понял дед.
– После объясню. Свободен. Тэк
– Рэс, два, три, – начал он вытягивать из толпы здоровых парней, мужиков, девок поядреней и пошире в бедрах и баб помоложе. Набрал две сотни.
– Эт-та будет первая бригада.
Бригадиром Красников избрал Иннокентия Дымова, как самого видного, рослого и красивого, с лапищами с лопату шириной.
– Будешь бригадиром. Что делать станешь – после объясню. Фамилия?
– Дымов.
– Фамилия неудачная. Это к торфяник, огнеопасно, а ты – Дымов. Ну да ладно.
Набрали вторую бригаду. Бригадиром назначили подсосновского мужика Спиридона Савельева. Женщин постарше определили на сушку и складирование торфа. Красивых девок Скворцов самолично отобрал для работы в столовой стряпухами, посудомойками, поварами, кухонными рабочими. Елену Николаевну, как грамотную и бывшую учительницу, Скворцов, оглядев с головы до ног масляными глазками, назначил буфетчицей. На старух и стариков кышкнули.
– А вы, лапти разношенные, не нужны. Идите, дрыхните.
В опустевшей колонне остались одни подростки.
Ефим Ефимович оглядел всех, подошел к Саше, спросил.
– Сколько лет?
– Тринадцатый.
– Тэк. А тебе?
– Четырнадцать.
– Тэк. Вы все зачисляетесь в бригаду дровосеков. Будете дрова пилить. Тебя как звать?
– Колька Шишкин.
– Вот ты, Колька Шишкин и будешь, значит, у дровосеков бригадиром. Инструкцию получишь позже.
– Все, Петр Ильич, – доложил он директору.
Директор объявил.
– Все, кто назначен на работы, могут сейчас пойти в бухгалтерию и получить по три рубля аванса на обзаведение. Иван Наумович расселит сейчас всех по баракам. Завтра в восемь утра быть всем на работе. Участки и делянки каждому укажут бригадиры. Они же выдадут положенный инструмент. Все. Работать с душой, не отлынивая, за это у нас наказывают. План трещит по всем швам. Будем зашивать.
Все хлынули сначала к баракам, занять поудобнее места, потом в контору за трешницами, а получив по трояку, потянулись в лавку к Степановичу за харчами, а кто и за водкой: уж больно не весела была вся эта картина и сильно попахивала рабством, а лениво прогуливающийся на каланче человек с винтовой с примкнутым трехгранным штыком напоминал об остроге.
А вечером, уже в сутемках, на полянке у бараков заплевались оранжево-палевыми фонтанами искр небольшие костры. Изголодавшиеся за долгую дорогу люди варили кто похлебку, кто кашу, кто кипятил чай.
– Пельмешков-то тут, паря, не поешь.
– И шанежек тоже.
– Забывать надо про шанежки, тут не до жиру, быть бы живу.
Мужики, рассевшись вокруг костров, курили цыгарки, лениво и устало перебрасываясь тяжелыми словами, с любопытством рассматривая полученный для резки торфа инструмент и ногтями пробуя остроту резаков.
– Туповата резалка-то. Поточить надо.
И усердно точили напильниками торфорезы большие квадратные лопаты без одной стенки, чтобы легче было сбросить отрезанный кирпич торфа. Возле костров важно прогуливался прораб Иван Наумович Красников, ко всему присматривался, бурчал.
– Вообще-то категорично запрещено костерики-то жечь, торф вокруг, да ладно уж, жгите, истосковались по вареву. Опосля водой хорошенько залейте, не дай бог искра, наробим тогда крошева.
Мужики, слышавшие это слово уже несколько раз, недоумевали, что оно такое за "крошево" и с чем его едят. Невдомек им было, что крошево это отколовшийся от кирпича кусок торфа, торфяная пыль, в план не идущая, следовательно вещь бесполезная, никому не нужная и даже вредная, так как имеет обыкновение быстро воспламеняться, жарко гореть и даже взрываться.
Бригадирам Дымову и Савельеву были отведены в бараках лучшие передние углы. Нары еще не успели оборудовать и ссыльные семьями валялись на полу вповалку. Иннокентий в тот же вечер сходил в березняк, вырубил и обтесал тонкие жердины, сделал ширму и отгородился от остальных пологом, все же не на глазах у людей. На пол настелили свежего сенца, накрыли дерюгами и новое жилье было готово.
– Это – временно, – пояснил Дымов Елене и Саше,– завтра же после работы начну рыть землянку, будет свой угол. Не боись, Леночка, не пропадем. А. Санек? Рабы не мы?
Саша хмурился и молчал.
У землянок кубанцев жалобно всхлипывала гармонь и доносились слова нежной и печальной украинской песни.
Ой, жаль, жаль,
Нэ помалу любив дивчину,
Змалу любив дивчину,
Змалу любив, тай нэ взяв.
Ии люды визьмут,
Ии люды визьмуть,
Ии лоды, моя нэ будэ…
Эта незнакомая песня рвала душу Спирьки Зозулина, вытянувшегося на соломе и вперившего остеклянившиеся глаза в потолок. Он стискивал до боли зубы, вспоминая свою незабудочку, свою первую любовь, учителку Зою с большими серыми глазами и золотистой челочкой на лбу. Ради этой Зои отца родного предал, хотел в комсомол вступить, хотел новую светлую жизнь вместе с Зоей строить, поверил книжечкам, поверил громким фразам, бойким лозунгам, поверил во все, доверился всей душой. Построил: Шагаю под красным знаменем в социализм. В бараке им досталось самое худое место, у зевластых входных дверей, которые из-за скученности почти не закрывались, зевали как переспавшая лишнее ленивая баба, люди шастали туда-сюда как челнок в кроснах. Спирька, играя желваками, рубил слова как сечку скотине.
– Недолго я тут. Сбегу.
– И меня несчастную бросишь? Только и надежи было у меня на тебя, сынок.
– Сбегу. Помогать стану. Тайно. А сам пристроюсь, то к себе заберу. Шиш им от меня, а не торф. Лучше в тюрьме сгнию.
И ругался матерно.
Елена Николаевна, укрывая принесенное Иннокентием сено простынями и готовя постель, думала: «Удивительно устроена человеческая жизнь. Мы живем день за днем, не замечая вокруг себя ничего примечательного, особенного, совершаем какие-то поступки, добрые или дурные, общаемся с какими-то людьми хорошими или плохими, никогда не задумываясь над тем, как ты прожил день, прожил и слава богу. Но вдруг приходит такая полоса жизни, когда прошлое, уже прожитое тобою, вдруг становится таким бесконечно дорогим, самым прекрасным в твоей жизни, что ты с нежностью начинаешь вспоминать какой-то покосившийся забор, какое-то дерево, которое было видно из твоего окна, какую-то собачку с пестрым ухом, которая на тебя незлобиво лаяла, какой-то камень на тропинке, по которой ты ходила в школу, какой-то лопух у сарая, колючка которого прильнула к твоему платью, который тогда, живя в том, уже далеком дне, ты никогда не замечала, и все былое становится родным и бесценнным и твоя душа скорбит по нему. Какой дорогой показалась теперь их кособокая избенка в Подгорном, кривое крылечно, скрипучие ступени, их светлая горенка, вьюжные ночи, Саша с книжкой у стола, живой Степан, пришедший с собрания и пахнущий снегом и табаком…»
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.