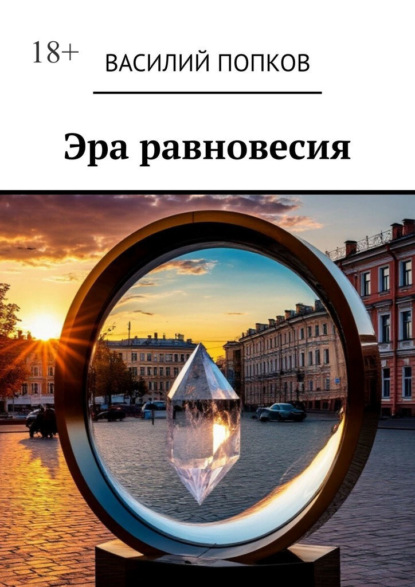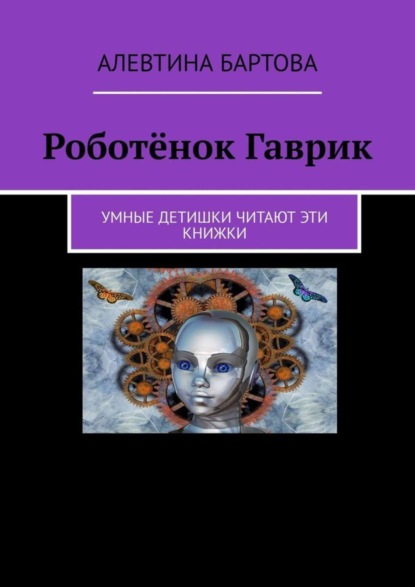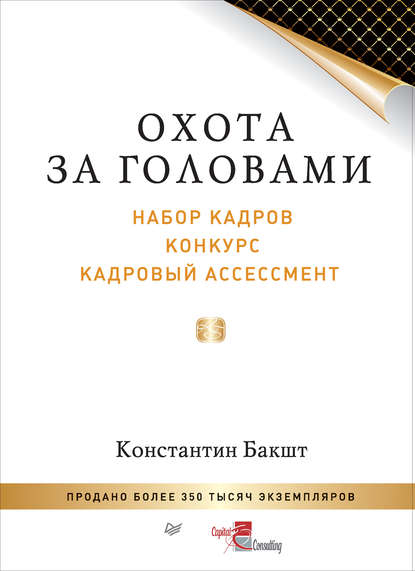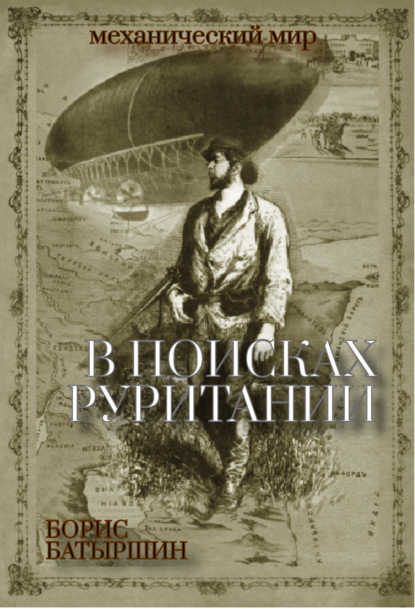- -
- 100%
- +
«Почитай отца твоего и мать твою». Прохоров увидел в этом принцип «Стабильности социальной иерархии и преемственности». Разрушение связей между поколениями, неуважение к опыту и мудрости предков создавало «разрывы» в долгосрочном энергетическом контуре общества. Семья, как малая ячейка, должна была быть стабильной, чтобы вносить стабильный вклад в общую энергосистему.
«Не убивай». Самая очевидная заповедь получила и самое мощное научное обоснование. Убийство, акт наивысшего зла и отрицания жизни, создавало колоссальную, долгоживущую «энергетическую воронку», зону отрицательной энергии, которая могла парализовать работу Катализаторов в радиусе нескольких километров на долгие дни, а то и недели. Это был абсолютный, неприемлемый урон для системы.
Прохоров не предлагал новых заповедей. Он просто показал, что старые, данные тысячи лет назад, были «техническим регламентом» для выживания и устойчивого развития человеческой цивилизации. Своего рода инструкцией по эксплуатации души и общества, написанной на языке, который человечество смогло понять только сейчас, через призму физики.
Это открытие привело к радикальным, тектоническим изменениям во всех сферах жизни. Этику и теологию стали преподавать на физических факультетах как прикладные дисциплины. Инженеры-кристаллографы и системные аналитики стали самыми уважаемыми и высокооплачиваемыми специалистами, ибо они не просто настраивали приборы, они буквально «настраивали» общественную мораль, выявляя «слабые звенья» в социальной сети.
Возникло и набрало колоссальное влияние движение «Этичных Инженеров». Эти люди, одетые в строгие серые мундиры, считали своей миссией не только поддерживать работу Катализаторов, но и активно «чистить» социальное поле от «моральных помех». Они ходили по домам, подобно инквизиторам или участковым врачам, проводили беседы, анализировали данные с домашних Катализаторов, выявляя источники «энергетического диссонанса» – семейные ссоры, тайные пороки, скрытые обиды, зависть. Их визит мог начаться с вежливого вопроса, а закончиться публичным разбирательством, если они обнаруживали серьезные «утечки энергии».
Мир стал не только честным и справедливым. Он стал невыносимо праведным, стерильным. Люди начали бояться не только лгать, но и думать «неправильно». Завистливая или похотливая мысль, вспышка гнева, мимолетная жадность – все это могло привести к заметному падению КПД домашнего Катализатора и, как следствие, к визиту «Этичного Инженера» с неприятными вопросами о «состоянии морального климата в семье».
Нравственность превратилась из внутреннего, глубоко личного выбора в систему тотального, всепроникающего внешнего контроля. Страх перед холодом и тьмой стал мощнейшим мотиватором к «добродетельному» поведению.
В своей стерильной лаборатории Михаил Прохоров смотрел на мировые новости. Он видел репортажи о городах, сияющих чистым светом, о падении уровня преступности до нуля, о том, как люди, заходя в автобус, вежливо и честно признавались, что у них нет Фотонов для оплаты проезда. Он видел утопию, построенную по его чертежам.
Но однажды поздно вечером, когда его собственная лампа, питаемая от главного Кристалла комплекса, вдруг померкла на долю секунды, он почувствовал неконтролируемый ужас. Он подошел к зеркалу и увидел свое отражение – изможденное лицо пророка, несущего не благую весть, а систему. И его посетила простая, кошмарная мысль, которую он тут же отогнал как «моральную помеху»: а можно ли назвать человека моральным, если он добр и честен не по велению сердца, а из-за страха перед холодом в собственном доме? Он создал мир, где грех стал технической неполадкой. Но, уничтожив возможность греха, не уничтожил ли он и саму возможность настоящей, невынужденной добродетели?
Он создал утопию. Но в этой сияющей, безупречной утопии не осталось места для простого, грешного, непредсказуемого, живого человечества. Цена за вечный свет оказалась равна цене за человеческую душу.
Глава 6. Правовой Абсолют
Старая правовая система, этот многовековой собор, возведенный на зыбком песке человеческих мнений, интерпретаций и риторики, рухнула в одночасье. Ее крах был мгновенным и тотальным, как падение карточного домика от одного дуновения. Адвокаты, чье искусство заключалось в умении подать факты в выгодном свете, судьи, чья мудрость должна была отсекать ложь от правды, присяжные, ведомые эмоциями и предрассудками, – все они оказались бессильны перед лицом одного-единственного, неоспоримого аргумента. Стрелки прибора. Цифры на дисплее. Юриспруденция, эта великая гуманитарная наука, построенная на убеждении, диалектике и иногда – на откровенном вранье, пала, сраженная сверкающим мечом объективной физики.
Ее заменили «Аудиты Энергоэффективности» – процедура, сочетавшая в себе холодную элегантность научного эксперимента и первобытный ужас суда Божьего.
Процедура была выверена до мелочей, как военный протокол. Когда совершалось преступление или возникал гражданский спор, все участники конфликта в принудительном порядке доставлялись в специальный зал суда новой формации. Помещение было стерильным, акустически изолированным, лишенным каких-либо украшений. В центре, под куполом из прозрачного стекла, стоял промышленный Катализатор «Истина-Юстиция», массивный, как банковский сейф, подключенный непосредственно к энергосети всего судебного квартала. Его показания выводились на гигантский голографический экран, видимый всем присутствующим.
Запускался «Протокол Истины». Подозреваемый, потерпевший, свидетели – все по очереди, под присмотром судьи-оператора (так теперь называлась эта должность), излагали свою версию происшедшего. Не адвокаты, не прокуроры. Только они и машина. Специальные биометрические и нейролингвистические датчики, соединенные с Катализатором, фиксировали не столько слова, сколько их «информационную чистоту» – малейшие изменения в голосе, микровыражения лица, когерентность мозговых волн. Но главным индикатором был сам Кристалл. Когда человек лгал, даже самому себе, КПД устройства падал, что немедленно отражалось на графике и, что важнее, на стабильности энергоснабжения здания. Когда он говорил правду – чистую, без примесей, – КПД взлетал.
Виновность или невиновность определялась не уликами, не логическими построениями, не убедительностью речи, а простым и наглядным графиком энергопотребления всего квартала во время дачи показаний. Если в момент речи подозреваемого свет в зале суда меркнул, а вентиляция сбавляла обороты, это было стопроцентным, неопровержимым доказательством его вины. Не было нужды в адвокатах, в перекрестных допросах, в пафосных речах о смягчающих обстоятельствах. Факты, выраженные в киловаттах, говорили сами за себя. Это был триумф позитивизма. Абсолютная объективность.
Первое время это казалось верхом справедливости, данным свыше. Исчезли судебные ошибки, основанные на человеческом факторе. Испарилась коррупция – как можно подкупить стрелку амперметра? Не осталось лазеек для виновных. Преступность, основанная на обмане, рухнула.
Но очень скоро, как ржавчина на блестящем корпусе нового механизма, проявились глубокие, системные изъяны. Машина могла измерить соответствие факту, но была слепа к контексту, в котором этот факт рождался.
Случай первый: Правда против любви.
На Аудит доставили пожилую женщину, Анну Петровну. Ее обвиняли в сокрытии преступления – ее одиннадцатилетний внук, играя с увеличительным стеклом, устроил небольшой пожар в сарае соседа. Анна Петровна знала об этом, но когда приехала полиция, сказала, что, вероятно, сарай загорелся от старой проводки. Она солгала, чтобы защитить мальчика от суда и, что важнее, от гнева соседа-алкоголика.
На Аудите, под безжалостным взглядом Катализатора, она, рыдая, во всем призналась. Ее ложь была зафиксирована, КПД упал на 18%. Ее признали виновной по статье «Введение в заблуждение, повлекшее энергетический ущерб». Судья-оператор монотонно зачитал показания прибора и вынес приговор – три месяца в Центре Этической Перекалибровки.
– Но я из любви! – кричала женщина, когда ее уводили. – Я из любви к нему! Разве вы не понимаете?
Но Катализатор не умел измерять любовь. Он не был способен учесть мотив самопожертвования, желание защитить неокрепшую душу ребенка. Он умел измерять только бинарное соответствие факту: горел сарай от стекла или от проводки. Его справедливость была слепа к оттенкам человеческого сердца.
Случай второй: Правда, отравленная болью.
Сергей, мужчина сорока с лишним лет, страдал от тяжелой, клинической депрессии. Его обвиняли в хищении средств со счетов общественного фонда, где он работал бухгалтером. Деньги и правда пропали, но Сергей был невиновен – их похитил его начальник, подставив его. На Аудите Сергей говорил чистую правду: «Я не брал денег». Но его психическое состояние, его внутренняя боль, его отчаяние и апатия создавали такой мощный «эмоциональный шум», такой хаос в его энергетическом поле, что Катализатор интерпретировал это как диссонанс, как ложь. График КПД показывал устойчивое падение во время его показаний. Его едва не осудили. Спасла его только случайность – настоящий преступник, его начальник, на своем Аудите, будучи психопатом и не испытывая угрызений совести, дал показания с идеально чистыми параметрами, и система его изобличила. Сергея отпустили, но он навсегда остался с травмой: машина, призванная устанавливать истину, увидела в его душевной болезни признак вины.
Случай третий: Хор правды и шепот лжи.
Группа «Ностальгистов», ученых-физиков, не принявших новую систему, решила провести дерзкий эксперимент, демонстрирующий уязвимость Аудитов. Они спланировали мелкую кражу – один из них должен был стащить папку с документами из кабинета декана. Во время Аудита по этому делу все участники группы, включая вора, хором, в унисон, зачитали сложный, но абсолютно истинный научный доклад о квантовой запутанности. Поток чистой, высокоплотной информации, исходящий от множества людей одновременно, был так мощен, что «ослепил» Катализатор. Он зафиксировал колоссальный всплеск КПД, на фоне которого мелкая ложь отдельного человека, украдкой положившего папку в портфель, была как шепот в ревущем урагане. Система не зафиксировала кражу. Эксперимент удался. Правда, поданная массивным, синхронизированным залпом, могла быть использована как щит для лжи.
Стало ясно, что «правда» – понятие куда более сложное и многогранное, чем простая констатация факта. Есть правда факта, а есть правда контекста, правда намерения, правда сердца. Катализатор, этот великий арбитр, был слеп к последним. Он видел мир в черно-белых тонах, тогда как человеческая жизнь была написана всеми оттенками цветовой палитры, включая грязные и кровавые.
Законы теперь писались не юристами-гуманитариями, а инженерами-кристаллографами и системными аналитиками. Уголовный кодекс превратился в сухой технический мануал по устранению «энергетических помех» и «оптимизации социального КПД». Статьи звучали как инструкции: «Статья 7.14: Сознательное искажение фактов, приводящее к падению КПД районного Катализатора ниже 85%». Наказания тоже изменились. Тюрьмы, эти университеты преступности, заменили «Центрами Этической Перекалибровки». Это были не места лишения свободы, а нечто среднее между санаторием, лабораторией и монастырем. Преступников там не наказывали в традиционном смысле. Их «перенастраивали». С помощью мощных Катализаторов направленного действия, психотехник и нейролингвистического программирования их заставляли пройти через глубокое, искреннее раскаяние. Их заставляли не просто признать факт преступления, а внутренне принять его неправильность, «восстановить резонанс с Истиной». Успешная «перекалибровка» считалась достигнутой, когда подопечный мог говорить о своем преступлении, не вызывая падения КПД контрольного Кристалла.
Справедливость восторжествовала. Она стала абсолютной, неумолимой, стерильной. Но это была справедливость автомата, лишенная милосердия, сострадания, понимания человеческой слабости и признания права на ошибку. Она не оставляла места для снисхождения, для судейского усмотрения, для взгляда на человека как на сложную, меняющуюся личность. Правовой абсолют, дарованный технологией, оказался абсолютно бесчеловечным. Он создал мир, в котором быть виновным было страшно, но быть просто человеком – со своими слабостями, болью и сложными, неоднозначными мотивами – становилось почти преступлением. Суд превратился из места, где искали истину, в место, где ее констатировали, не интересуясь ценой, которую за эту истину приходилось платить живым людям.
Глава 7. Социальный паралич
Общество, построенное на Энергии Истины, постепенно перестало напоминать живой, дышащий, пульсирующий организм. Оно стало похоже на гигантский, безупречно работающий и абсолютно бездушный часовой механизм. Каждая шестеренка – человек – знала свое место и свою функцию, а смазкой, предотвращающей трение, служила не эмоциональная связь, а холодный, расчетливый обмен верифицированными фактами. Социальная ткань, веками сотканная из тысяч маленьких условностей, вежливых уловок и тактичных умолчаний, распалась, обнажив голую, часто уродливую и ранящую правду. Исчезла буферная зона, та самая «социальная кожа», что защищала людей от прямого, ничем не смягченного контакта с реальностью и друг с другом.
Первой и самой заметной жертвой пала светская беседа – легкий, ни к чему не обязывающий словесный танец, что позволял людям устанавливать контакт, поддерживать связи и просто чувствовать себя частью общества. Вопрос «Как дела?», бывший когда-то риторическим жестом вежливости, теперь превратился в настоящую ловушку. На него требовалось отвечать с протокольной, исчерпывающей точностью. Встречая знакомого на улице, люди уже не улыбались и не обменивались пустяковыми фразами о погоде. Они молча, почти виновато кивали и проходили мимо, ускоряя шаг. Любая попытка завязать беседу грозила обернуться непредсказуемым и часто болезненным откровением, которое могло разрушить хрупкое равновесие дня.
В офисе некогда шумные открытые пространства теперь напоминали тихие палаты в больнице. Коллеги общались исключительно по делу, сжато, точно и без эмоций. Фраза «Привет, Иван, как успехи с отчетом?» могла быть произнесена только в том случае, если отчет действительно был в работе и требовал обсуждения. В противном случае это была ложь, влекущая за собой мерцание света и косые взгляды. Корпоративы, праздники, неформальные собрания у кулера с водой – все это кануло в Лету. Атмосфера была настолько стерильной, что даже воздух казался густым и тяжелым от непроизнесенных слов.
Следующей жертвой, павшей под безжалостным ножом объективности, стали комплименты. Этот изящный социальный ритуал, служивший для укрепления связей и повышения настроения, был уничтожен на корню. Сказать женщине «Ты прекрасно выглядишь» можно было лишь в одном-единственном случае: если это была объективная, измеряемая и верифицируемая правда. Но так как эталонов красоты не существовало, а понятие «прекрасно» было субъективным, любой комплимент мгновенно распознавался Катализатором как ложь или, что еще хуже, как неприкрытая попытка манипуляции с целью получения выгоды или расположения.
Люди перестали говорить друг другу приятные вещи. Зачем рисковать падением КПД домашнего Катализатора и визитом «Этичного Инженера» из-за безобидного преувеличения? Исчезли не только комплименты внешности. Пропали слова поддержки: «У тебя все получится», «Ты справишься». Их место заняла суровая констатация: «Статистика успешности подобных проектов в твоих условиях составляет 12%». Исчезла похвала. Руководитель больше не мог сказать подчиненному: «Отличная работа». Он был вынужден ограничиваться сухим: «Показатели выполнения плана соответствуют заявленным критериям». Язык общения превратился в подобие машинного кода, лишенного метафор, эмоций и подтекста.
Этот паралич коммуникации достиг своего апогея в высших сферах власти. Дипломатия, это тонкое искусство ведения переговоров, построенное на намеках, эвфемизмах, умолчаниях и стратегической лжи, была уничтожена в зародыше. Международные переговоры превратились в невыносимо скучные и напряженные заседания, где стороны обменивались сухими, верифицированными фактами, как автоматы.
Сцена в Женеве, в зале переговоров по разоружению, была показательной. За длинным столом сидели делегаты сверхдержав. Рядом с каждым из них, прямо на столе, стояли портативные, но мощные Катализаторы, подключенные к энергосетям их столиц. Инженеры в белых халатах внимательно следили за показаниями приборов.
– Ваша страна, – говорил делегат страны А, – увеличила производство обогащенного урана на 15% в прошлом квартале. Это факт.
Его Катализатор показывал стабильные 98%. Энергоснабжение его столицы оставалось неизменным.
– Это необходимо для модернизации наших энергетических реакторов, – парировал делегат страны Б. – Однако ваше заявление о наших «агрессивных намерениях» является ложью. У нас нет планов нападения.
Его Катализатор показывал 97%. Почти чистая правда. Почти.
– Вы лжете, – холодно заявил делегат страны А. – Ваш генштаб рассматривает сценарий превентивного удара по нашим объектам. У нас есть записи.
В этот момент Катализатор делегата страны Б дрогнул, и КПД упал до 70%. В столице страны Б на несколько секунд погас свет. Переговоры были сорваны. Любая попытка скрыть истинные намерения, смягчить формулировку или солгать во благо (например, чтобы избежать немедленной войны) немедленно приводила к провалу и энергетическому кризису. Мир замер в шатком, хрустальном равновесии, где любая неправда, даже спасительная, могла стать искрой, воспламеняющей пороховую бочку.
В быту люди, измученные необходимостью постоянного самоконтроля, стали говорить только функциональную, часто ранящую и унизительную правду. Исчезли эвфемизмы. Исчезла жалость. Исчезло сострадание, выраженное словами.
Молодой человек на свидании, глядя в глаза девушке, заявлял:
– Твое платье безвкусно и сидит на тебе мешком. Ты потратила свои Фотоны впустую.
Девушка, не моргнув глазом, отвечала:
– Твое дыхание пахнет желудочным соком. У тебя проблемы с пищеварением, и это делает тебя непривлекательным.
На рабочем совещании начальник отдела, разбирая проваленный проект, говорил подчиненному:
– Твой проект провалился из-за твоей врожденной некомпетентности и лени. Ты не способен к аналитическому мышлению.
И это была не грубость, а констатация факта, которую Катализатор подтверждал ровным гулом.
В семейной гостиной муж, вернувшись с работы, заявлял жене:
– Я больше не люблю тебя. Твое физическое и интеллектуальное состояние более не соответствует моим потребностям. Я нахожу тебя отталкивающей.
И жена, сжимая кулаки, чтобы не разрыдаться, отвечала с той же ледяной прямотой:
– Ты прав. Наши брачные обязательства более не имеют энергетической ценности. Я согласна на развод.
Даже дети, воспитанные в этой системе, были безжалостны. В школе один ребенок мог сказать другому, глядя на его рисунок:
– Твой ребенок некрасив. У него несимметричные черты лица и низкий интеллект. Это подтверждают тесты.
И это не было травлей. Это была «обратная связь». Правда, какой бы горькой она ни была.
Общение стало безэмоциональным, сухим, лишенным всяких прикрас. Оно напоминало обмен данными между компьютерами. Социальные связи, державшиеся на взаимной вежливости, такте, лояльности и способности прощать, распались, как трухлявая ткань. Семьи разваливались с умопомратительной скоростью. Дружба, основанная на общих интересах и эмоциональной поддержке, рушилась, не выдержав испытания тотальной правдой. Коллеги по работе превращались в безликих функционеров, общающихся только в рамках служебных инструкций.
Возник феномен, который социологи новой эпохи назвали «социальным параличом». Люди, особенно старшего поколения, выросшие в «эпоху Заблуждения», просто перестали выходить из дома. Они добровольно заточали себя в своих жилищах, предпочитая одиночество и гнетущее молчание травмирующей честности публичного пространства. Улицы городов, особенно в дневное время, наполнялись в основном молодыми людьми, с детства привыкшими к новой реальности. Но и они двигались по ним быстро и целеустремленно, как муравьи, избегая взглядов и случайных контактов. Парки пустели. Кафе и рестораны закрывались один за другим – кто станет платить Фотоны за еду, если разговор за столом может превратиться в сеанс психоанализа без купюр?
Парадоксальным образом, уровень клинической депрессии, тревожных расстройств и апатии, несмотря на «очищающий» эффект Катализаторов, взлетел до небес. Оказалось, что человеческой психике для здоровья необходима не только правда. Ей нужны иллюзии, дающие надежду. Нужны мечты, даже несбыточные. Нужны маленькие, ни к чему не обязывающие социальные ритуалы, создающие ощущение принадлежности и безопасности. Нужна возможность иногда солгать – не из злого умысла, а чтобы защитить себя или другого от боли.
Лишенное этого буфера, общество погрузилось в тяжелую, всеобщую меланхолию. Мир стал честным. Он стал справедливым, предсказуемым и энергетически обеспеченным. В нем почти не осталось преступности. Но он стал абсолютно невыносимым для жизни. Человечество, стремясь к свету Истины, в своем порыве выжгло все тени, в которых оно веками прятало свою хрупкость, свои слабости и свою потребность в простом человеческом тепле, не описанном ни в одном техническом регламенте. Сияющий, стерильный рай оказался адом бесчеловечной ясности.
Глава 8. Смерть фантастики
Одной из первых и самых болезненных жертв Эры Абсолютной Правды пало искусство. Вернее, та его часть, что имела смелость укорениться не в суровой реальности, а в плодородной почве вымысла. Художественная литература, кинематограф, театр, изобразительное искусство – всё, что было основано на дерзком «что, если?», оказалось под тотальным ударом. В мире, где ложь стала синонимом саботажа, а правда – единственной валютой, вымысел был приравнен к тягчайшему преступлению.
Писатели-фантасты, эти некоронованные пророки и провидцы, чьи мечты когда-то опережали время и вдохновляли ученых на реальные открытия, были объявлены вне закона. Их окрестили «социальными вредителями», «инженерами хаоса» и «диверсантами сознания». Их истории о далеких мирах, их сложные персонажи, их смелые прогнозы – всё это было объявлено опасной, изощренной ложью. Красивой, увлекательной, вдохновляющей, но от этого не менее вредоносной. А ложь, как было неоднократно и научно доказано, источала «негативную энергию», отравляя энергетическое поле целых городов и катастрофически снижая КПД Катализаторов. Фантастика была объявлена не просто развлечением, а экзистенциальной угрозой.
Процесс начался не с официальных указов, а с низового, спонтанного возмущения. Группы «Правдорубов», вооруженные портативными детекторами, стали наведываться в публичные библиотеки. Они подносили датчики к корешкам книг и с торжеством фиксировали падение показателей при приближении к полкам с фантастикой. Это был «информационный смог», исходящий от переплетов.
Вскоре это возмущение было легитимизировано. Новообразованные «Этические Комитеты по Информационной Чистоте» выпустили первые списки «запрещенной и энергоопасной литературы». Началось великое изъятие. Сначала под давлением общественности, а потом и с помощью специальных подразделений «Этичных Инженеров», книги стали изыматься из библиотек, магазинов и частных коллекций. Не только новые произведения, но и старые, классические, составлявшие золотой фонд человеческой культуры. Жюль Верн с его подводными лодками и путешествиями к центру Земли. Герберт Уэллс с его марсианскими треножниками и машиной времени. Айзек Азимов с его роботами и Галактической Империей. Братья Стругацкие с их прогрессорами и Пикником на обочине. Рэй Брэдбери, Артур Кларк, Роберт Хайнлайн, Станислав Лем – все они были причислены к «распространителям информационных вирусов», чьи идеи, как чума, подрывали устои нового мира.
Апофеозом этого безумия стали помпезные, почти ритуальные церемонии сожжения книг. Они превратились из актов варварства в рутину, в обыденность, санкционированную государством. Тысячи, миллионы томов летели в ненасытные топки специальных «Очистительных Печей» – гигантских крематориев для идей. Самое чудовищное заключалось в том, что эти печи работали на энергии, произведенной от сжигания этой же «лжи». Это считалось высшей формой иронии и справедливости – ложь уничтожает сама себя, питая огонь своего уничтожения. Пепел от сожженных книг затем тщательно собирали и использовали в качестве удобрения для общественных парков и сельскохозяйственных угодий. Считалось, что даже в таком, предельно утилитарном виде, они могут принести какую-то пользу обществу, в отличие от своего первоначального, «отравленного» состояния.