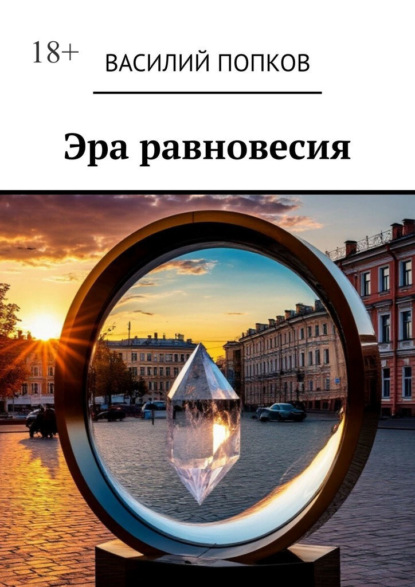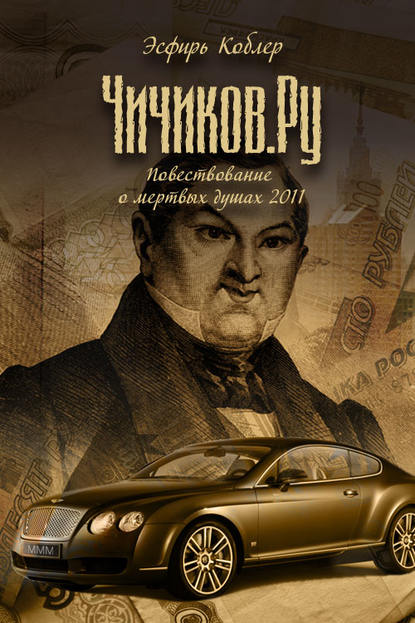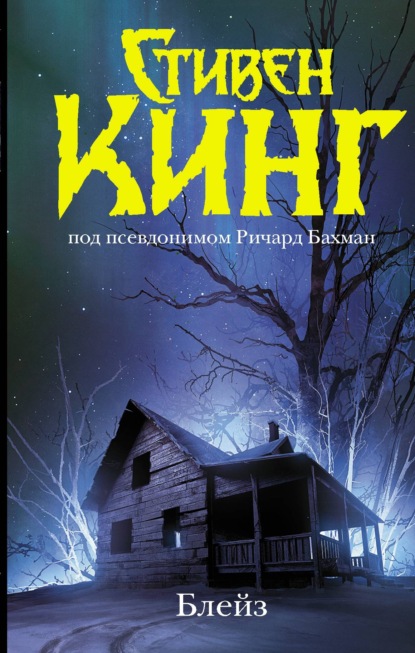- -
- 100%
- +
Кинотеатры, осмеливавшиеся показывать фантастические, сказочные или просто художественные фильмы с вымышленным сюжетом, закрывались под предлогом «энергетического саботажа». Их владельцев штрафовали на огромные суммы в Фотонах, а в случае рецидива – отправляли на «Перекалибровку». Актеры, игравшие вымышленных персонажей, были вынуждены публично каяться на специальных телевизионных трансляциях, прося прощения у общества за то, что «вводили людей в заблуждение» и «тратили общественные энергоресурсы на распространение лжи».
Но самая страшная, самая бесчеловечная участь постигла не книги или фильмы, а самих творцов. Тех, в чьих умах и сердцах рождались миры.
Петр Васечкин (имя, разумеется, вымышленное) был когда-то звездой русской фантастики. Его романы о первом контакте с неуглеродной формой жизни переводились на десятки языков, его сравнивали с Лемом и Ефремовым. Он был не просто писателем; он был мыслителем, философом, пытавшимся через призму вымысла понять законы мироздания и природу человека.
Когда грянул гром, Петр попытался сопротивляться. Он выступал на немногочисленных еще не закрытых интеллектуальных площадках, писал открытые письма в Этические Комитеты. Он пытался донести простую, но, как оказалось, неподъемную для новой системы мысль: вымысел – это не ложь. Это – метафора. Это инструмент для познания мира, более мощный, чем любая, самая точная формула. Он утверждал, что, отрицая вымысел, человечество отрезает себя от будущего, ибо любое будущее, любой технологический или социальный прорыв всегда рождается сначала в воображении. «Сначала мы летали в своих мечтах, – говорил он, – и лишь потом поднялись в небо. Сначала мы представляли себе иных существ, и лишь потом начали искать их в космосе. Убить фантазию – значит убить завтрашний день».
Его объявили особо опасным рецидивистом. На него подали в суд. Вернее, инициировали Аудит Энергоэффективности высшей категории. Процесс был показательным. Васечкина привели в стерильный зал, где под куполом сиял Катализатор «Истина-Юстиция», подключенный к энергосети всего научного городка, где он жил. Его заставили надеть датчики и, под прицелом камер, зачитать отрывки из его же лучших романов.
Он читал о звездолетах, преодолевающих пространство и время. О разумном океане, мыслящем целыми течениями. О существах из чистой энергии. И пока его голос, сначала уверенный, а потом все более надломленный, звучал в зале, стрелки приборов совершали немыслимое. Они не просто падали. Они уходили в отрицательную зону. Катализатор не просто не производил энергию – он начинал с жадностью потреблять её из городской сети, словно «отравляясь» ядом вымысла. Лампы в зале меркли, вентиляция затихала. Сам кристалл внутри устройства покрывался мутными, черными пятнами. График на экране был ужасающим: глубокий, продолжительный провал.
Петра Васечкина признали виновным в «масштабном и умышленном энергетическом вредительстве, повлекшем за собой значительный ущерб энергосетям и моральному здоровью общества». Приговор – «Полная и безоговорочная Перекалибровка».
Его на восемь месяцев поместили в Центр Этической Перекалибровки №7, известный своей «эффективностью». Там, в белых, звукоизолированных камерах, его сознание подвергали воздействию мощных Катализаторов направленного действия. Ему часами показывали документальные фильмы о законах физики, о невозможности сверхсветовых путешествий, о химических основах жизни. Его заставляли повторять, как мантру: «Вымысел – это ложь. Ложь – это яд. Истина – это свет». Любую попытку его мозга породить метафору или нестандартную ассоциацию немедленно гасили слабым, но болезненным электрическим разрядом.
Когда Петр Васечкин вышел на свободу, он был другим человеком. Его походка была механической, взгляд – пустым и сфокусированным на чем-то в метре перед собой. Он мог говорить только о фактах. О погоде. О расписании автобусов. О химическом составе бытовых моющих средств. Он устроился техническим писателем в отдел разработки кухонных комбайнов и составлял инструкции. Его тексты были безупречны с точки зрения точности и ясности. И абсолютно мертвы. Огонь, некогда пылавший в его глазах, был потушен. Навсегда.
Смерть фантастики повлекла за собой куда более страшную и незаметную на первый взгляд катастрофу – смерть будущего. Человечество, лишенное способности мечтать о невозможном, застыло в вечном, статичном настоящем. Технологический прогресс не остановился, но он стал сугубо утилитарным, направленным на бесконечное улучшение и оптимизацию уже существующих технологий. Никто больше не осмеливался предложить безумную, «бредовую» идею, не подтвержденную немедленно имеющимися фактами. Исчезли безумные гении, визионеры, способные увидеть то, чего нет. Лаборатории работали, но они больше не парили в облаках – они ползали по земле, собирая по крупицам уже известное.
Мир, избавленный от лжи, оказался избавлен и от надежды. Ибо надежда, эта вера в лучшее будущее, всегда была родной сестрой фантазии. Не стало мечты – не стало и цели. Оставался только бесконечный, сияющий, стерильный и безнадежный день сурка, освещенный холодным светом неумолимой Истины. Цивилизация, построившая рай, обнаружила, что оказалась в самой унылой и предсказуемой из всех возможных тюрем.
Глава 9. Кризис искусства
Если смерть фантастики была подобна громкой, публичной казни, то кризис всего остального искусства напоминал медленную, мучительную агонию. Живопись, скульптура, музыка, поэзия – все столкнулось с одним и тем же фатальным вопросом, на который не существовало удовлетворительного ответа в рамках новой парадигмы: что есть «правда» в искусстве? Где проходит грань между объективным фактом и субъективным переживанием, между реальностью и ее интерпретацией? И имеет ли право на существование последняя?
Живопись стала первым полем битвы. Художники, чьим ремеслом всегда было преображение реальности через призму личного восприятия, оказались в тупике. Абстракция была объявлена вне закона. Что «правдивого» в черном квадрате Малевича? В брызгах и хаотичных линиях Джексона Поллока? В сюрреалистичных видениях Дали? Это была не правда, а сугубо личное, ничем не верифицируемое и потому подозрительное восприятие. А субъективизм, как гласила новая догма, был всего лишь утонченной формой лжи, ибо истина – едина и объективна.
Под давлением «Этических Комитетов по Визуальной Информации» в искусстве воцарился тотальный, почти фотографический гиперреализм. Картины должны были быть неотличимы от снимков, сделанных высокоточным объективом. Художники, некогда бунтари и визионеры, превратились в ремесленников, днями и неделями вырисовывавших каждую пору на коже портретируемого, каждую веточку на дереве, каждую песчинку на пляже, каждую морщинку на скатерти. Их труд был титаническим, технически безупречным, но душа из него ушла.
Очень скоро и этот жанр исчерпал себя и был поставлен под сомнение. Во-первых, возник резонный вопрос: зачем тратить тысячи часов и Фотонов на то, что можно сделать за долю секунды на камеру? Во-вторых, и это было главнее, даже в гиперреализме обнаружилась ложь. Выбор ракурса, композиции, освещения – все это было субъективным решением художника. А любой выбор, не диктуемый чистой, абсолютной необходимостью (которой, например, руководствуется камера наблюдения), мог быть истолкован как искажение правды, как навязывание своей точки зрения. Картина, изображавшая нищего на фоне роскошного дворца, могла быть истолкована как социальный протест, а значит, как «эмоциональная манипуляция». Та же сцена, снятая под другим углом, могла быть прочитана как нейтральная констатация. Искусство выбора было приговорено.
Скульптура умерла тихо и почти незаметно. Монументальная пропаганда, возвеличивающая вождей и героев, была признана ложью, так как создавала искаженный, идеализированный образ в ущерб исторической правде. Абстрактные, экспрессионистские формы – ложью, как и в живописи, ибо не отражали реально существующих объектов. Осталась лишь утилитарная, ремесленная функция: создание надгробий с точными портретами усопших и изготовление идеальных копий утраченных исторических артефактов для музеев. Скульптура, всегда бывшая искусством объема, пространства и духа, свелась к копированию.
Музыка пережила самый странный и мучительный кризис. Оказалось, что чистая, абстрактная музыка, не несущая вербальной информации, – классическая, инструментальная – давала самые нестабильные и противоречивые показания на Катализаторах. Устройства то начинали вырабатывать энергию, то внезапно потребляли ее, словно не в силах определить природу этого феномена. Комиссия ученых-алетологов и оставшихся на плаву музыковедов пришла к выводу, что музыка воздействует непосредственно на эмоциональный центр мозга. А эмоции, как уже было известно, могли быть как «чистыми», «высокочастотными» (радость, умиротворение, возвышенная печаль), так и «грязными», «низкочастотными» (тоска, тревога, агрессия, отчаяние).
Началась великая музыкальная чистка. Произведения Баха и Моцарта, с их математической гармонией и ясностью, были признаны «условно-этичными» и допущены к ограниченному исполнению в специально откалиброванных залах. А вот сложные, диссонирующие, полные трагизма произведения Шостаковича или Малера были заклеймены как «деструктивные» и «энергоопасные». Рок-музыка, блюз, джаз с их «примитивными» ритмами и «низменными» страстями были запрещены полностью. Дирижеры и музыканты должны были теперь получать лицензию, а каждое исполнение – сопровождаться протоколом энергетических замеров. Музыка, это самое абстрактное из искусств, была приговорена к службе в качестве звукового фона для поддержания «позитивного психоэнергетического климата».
Но самой страшной и полной была казнь поэзии. Ее уничтожили практически под корень. Метафора? («Моя любовь – как пылающий океан»). Сравнение? («Твои глаза, как две полыньи»). Гипербола? («Я ждал тебя тысячу лет»). Олицетворение? («Утро дышало на стекла»). Всё это были виды лжи, сознательного искажения реальности для создания художественного образа. Поэтов, этих кузнецов языка, заставляли отречься от своего дара и писать только в жанре документальной хроники, сухим, протокольным языком, лишенным ритма. «Гражданин А. (35 лет) испытывал к гражданке Б. (32 года) комплекс нейрохимических реакций, характеризующийся повышенным уровнем дофамина и окситоцина». Это была правда. Но это не была поэзия. Это был патологоанатомический протокол вскрытия чувства.
Новые сюжеты в искусстве иссякли, как пересохший родник. Вся человеческая драма – любовь, предательство, подвиг, отчаяние, война, надежда – уже произошла, была задокументирована, разобрана на «этические кейсы» и занесена в архивы. Создавать что-то новое, выдумывать новые коллизии значило врать, ибо, с точки зрения новой науки, ничего принципиально нового в человеческой природе произойти уже не могло. Все было изучено, разложено по полочкам и освещено холодным светом Истины.
Искусство, лишенное права на вымысел, на метафору, на субъективное видение, на право задавать вопросы, а не давать ответы, умерло. Оно не просто исчезло – его место заняла пустота. Галереи превратились в подобие архивов и музеев естественной истории, где висели бесконечные, идеально выписанные портреты «Гражданина X» и пейзажи «Локация Y». Концертные залы, где когда-то гремели страсти, теперь использовались для озвучивания «акустически одобренных» частот, способствующих продуктивной работе. Театры ставили только инсценировки судебных протоколов и исторических хроник, где актеры, лишенные права на интерпретацию, монотонно зачитывали тексты документов.
Человечество, обеспеченное энергией, но лишенное красоты, погрузилось в глубокий, изнуряющий эстетический голод. У человечества возникла физиологическая тоска по другому измерению бытия. Люди тайком, под страхом огромных штрафов и «Перекалибровки», хранили старые, потрепанные книги стихов, спрятанные в различных тайниках собственного дома. Они слушали запрещенную музыку в наушниках, подключенных к ламповым усилителям, которые питались от старых, шумных дизельных генераторов, чтобы не «отравлять» общую сеть. Они украдкой смотрели на репродукции импрессионистов, где мир был размыт и наполнен светом, а не выписан с протокольной точностью.
Они тосковали по миру, где можно было восхищаться тем, чего нет. Где картина могла вызывать бурю чувств, не будучи фотографией. Где стих мог говорить о любви, не называя ее по имени, а музыка – рассказывать историю без единого слова. Они, наконец, с мучительной ясностью поняли, что правда без вымысла так же ущербна, безжизненна и бесчеловечна, как и вымысел без правды. Что эти два начала – Истина и Воображение – не враги, а легкие, которыми дышит человеческая душа. Отрубив одно, цивилизация обрекла себя на медленное удушье в стерильной атмосфере абсолютного факта. Но осознание это пришло слишком поздно. Механизм был запущен, и обратного хода не было. Оставалось только тихо сходить с ума от тоски по прекрасному, которого больше не существовало.
Глава 10. Ностальгия по лжи
Абсолютная правда оказалась столь же невыносимой для человеческой психики, как и абсолютный, беспощадный свет для незащищенного глаза – без теней, без полутонов, он не освещал, а ослеплял, выжигая все тайное, личное, сокровенное. В мире, где каждое слово, каждая мысль, каждый вздох должны были быть выверены, взвешены и верифицированы, человеческая душа, веками эволюционировавшая в лабиринтах полутонов, намёков, условностей и маленьких, утешительных иллюзий, начала задыхаться. Она испытывала состояние, сродни кессонной болезни: слишком быстрое всплытие из глубины человеческой сложности в разреженную, стерильную атмосферу чистой истины. И, как это всегда бывает в тоталитарных системах, то, что было запрещено, начало прорастать в самых темных и неожиданных уголках, подобно упрямым сорнякам, пробивающимся сквозь асфальт.
Феномен подпольных «Клубов Вымысла» стал массовым, стихийным и крайне опасным симптомом этой духовной болезни. Они возникали спонтанно, по тайным сетям доверия, в самых неприметных местах: в заброшенных бомбоубежищах хрущевской постройки, в вентиляционных камерах недостроенных метрополитенов, на заросших бурьяном свалках за городской чертой, в трюмах списанных барж – везде, куда не доходил зондирующий луч городских Катализаторов и где можно было укрыться от всевидящего ока системы.
Их организаторами и вдохновителями становились маргиналы новой эры: бывшие библиотекари, уволенные за отказ проводить «чистку фондов»; учителя литературы, чьи предметы были упразднены как ненужные; актеры, чьи гильдии распустили; психологи, понимавшие, что душа не выживет в вакууме абсолютной честности без защитных механизмов вымысла. Это были хранители угасшего огня, последние жрецы поверженных богов.
Риск был колоссальным, пограничным с самоубийством. «Энергетическая Инспекция» – новая, могущественная и беспощадная карательная структура, укомплектованная фанатичными «Правдорубами» и переквалифицированными сотрудниками бывших спецслужб, – вела на них самую настоящую охоту. Их детекторы нового поколения, настроенные на сканирование «эмоциональных аномалий» и «информационного шума», могли засечь энергетический всплеск коллективной лжи с расстояния в несколько кварталов. Наказание было безжалостным: колоссальный штраф в Фотонах, равносильный разорению, обязательные работы на «Очистительных Комбинатах» по переработке информационного мусора, а для закоренелых рецидивистов – неизбежная и страшная «Полная Перекалибровка», стиравшая личность.
Но люди, доведенные до отчаяния духовной жаждой, шли на этот риск. Потому что в этих вонючих, темных, душных подвалах они на несколько украденных у реальности часов снова могли почувствовать себя людьми. Целыми, сложными, грешными и живыми.
Один из таких клубов, носивший гордое и ироничное название «Улей Лжи», собирался раз в неделю, по средам, в бетонной камере заброшенной вентиляционной шахты, оставшейся со времен строительства четвертой линии метро. Доступ был только по знакомству, через цепочку доверенных лиц. Его членами были самые разные люди, на первый взгляд ничем не связанные между собой.
Здесь была Маргарита Сергеевна, седая, сгорбленная женщина за семьдесят, некогда писавшая дивные, тонкие сказки для детей, а теперь влачившая жалкое существование на социальное пособие. Здесь был Виктор, молодой, талантливый программист, тосковавший по миру видеоигр и сложных фэнтези-вселенных, которые теперь были приравнены к наркотикам. Здесь была Ирина, врач-терапевт, уставшая от бесконечных, безликих протоколов и диагнозов, которые она была обязана выносить своим пациентам, не имея права на слова утешения. И здесь была Анна, мать двоих детей, которая в своем «идеальном» доме, питаемом ЭИ, не могла поделиться с мужем своими страхами за будущее, ибо страх считался «нерациональной эмоцией», снижающей КПД.
В центре сырого, пропахшего плесенью и машинным маслом зала, на ящике из-под оборудования, стояла старая, коптящая керосиновая лампа – «Лучица». Она была не просто источником света; она была символом. Ее теплый, живой, нестабильный огонь был антиподом холодному, стабильному и бездушному свечению ламп ЭИ. Электричество сюда не проводили принципиально – его импульсы могли быть отслежены, а его чистота «заразила» бы пространство, сделав его уязвимым для детекторов.
Вечер всегда начинался с одного и того же ритуала, носившего название «Отречение». Собравшиеся вставали в круг, брались за руки – жест, давно исчезнувший из публичного обихода, – и хором, с искаженными от стыда, волнения и странного возбуждения лицами, произносили заученную формулу:
– Я признаю и принимаю, что всё, что будет сказано, услышано и пережито здесь в течение этого вечера, является сознательной и добровольной ложью. Вымыслом. Неправдой. Оно не имеет ни малейшего отношения к объективной реальности, не претендует на истину и не должно влиять на наше восприятие действительности за пределами этого места.
Это была не только защитная мантра, попытка юридически (пусть и иллюзорно) отгородиться от происходящего. Это был сложный психологический акт самоочищения, попытка обмануть самих себя, чтобы снизить внутренние «вибрации вины» и сделать свой вымысел «безопасным».
А потом, когда в подвале воцарялась напряженная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием фитиля «Лучицы», начиналось главное. Таинство. Люди по очереди выходили в центр круга, в колеблющийся ореол света, и начинали рассказывать. Просто рассказывать истории.
Первой часто выходила Маргарита Сергеевна. Ее руки дрожали, голос срывался, но когда она начинала, что-то менялось. Она поведала историю о Говорящем Камне, который веками лежал на обочине дороги и слушал мысли путников. Камень не мог двигаться, но он мечтал найти свое истинное место в мире – не там, куда его бросила случайность, а там, где он был бы нужен. Его история была полна тонких метафор об одиночестве, поиске смысла и тщетности бытия. Когда она говорила, ее глаза, обычно потухшие и устремленные в никуда, загорались огнем, что когда-то оживлял ее сказочных героев.
Виктор, программист, с пламенной страстью описал планету Квантос, в атмосфере которой плавали существа из чистого света. Они не знали, что такое ложь, ибо общались напрямую, пучками фотонов, передавая только факты. Их цивилизация была совершенной, эффективной и… абсолютно несчастной. Они не могли мечтать, ибо мечта – это искажение вероятности. Не могли творить искусство, ибо искусство – это ложь. Они наблюдали за Землей и с ужасом видели в людях ту самую «болезнь», ту «грязь» вымысла, которая, по словам Виктора, и была единственным источником всего прекрасного, что они когда-либо создавали. Это была едкая, блестяще замаскированная сатира на их собственную реальность, и все присутствующие понимали это без слов.
Ирина, врач, рассказала историю о своем «вымышленном» пациенте – старике, умиравшем от неизлечимой болезни. Вместо того чтобы сказать ему горькую правду, она подарила ему красивую, изящную ложь: что он выздоравливает, что его анализы улучшаются, что впереди у него еще много времени. И старик, поверив, воспрял духом, стал бороться, и… прожил на несколько месяцев дольше всех прогнозов, наполненный радостью и надеждой. Ирина плакала, рассказывая это, потому что в реальном мире она была лишена самого главного врачебного инструмента – права давать надежду. Она могла давать только факты, холодные и беспощадные, как скальпель.
И когда люди лгали, в душном, насыщенном воздухе подвала повисала странная, густая, почти осязаемая энергия. Это не была знакомая всем энергия Истины – стерильная, чистая, холодная, как луч лазера. Это было нечто иное. Теплое, живое, пульсирующее, хаотичное, как… человеческое сердце. Люди вдыхали её, и это был глоток спасительного воздуха после долгого удушья в вакууме. Они смеялись – не вежливой, функциональной улыбкой, а настоящим, идущим изнутри смехом. Они плакали – не от боли, а от сопереживания вымышленным персонажам. Они снова чувствовали. Они были живы.
Но за каждым таким вечером следовала мучительная, неизбежная расплата – чувство вины, острое, как нож. Возвращаясь в свои стерильные, залитые ровным светом ЭИ квартиры, они чувствовали себя прокаженными. Им казалось, что они несут на себе невидимую грязь, «информационную патину», которую вот-вот обнаружат. Домашние Катализаторы, казалось, начинали гудеть чуть тише и напряженнее в их присутствии. Они смотрели в чистые, незамутненные глаза своих детей, с пеленок воспитанных в культе абсолютной правды, и боялись, что те почувствуют их «заразу», их страшную тайну.
«Клубы Вымысла» были не бунтом. У них не было политических программ, манифестов или вождей. Это было бегство. Симптом глубокой, неизлечимой болезни всего общества, которое, избавившись от лжи, нечаянно выпотрошило себя, потеряв часть души. И чем яростнее и изощреннее становилась охота Инспекции, тем сильнее разгоралась в сердцах людей ностальгия по тому тёплому, несовершенному, полному тайн, намёков и возможности ошибки миру, который они безвозвратно потеряли. Ложь, которую они так стремились искоренить, оказалась неотъемлемой частью их собственной природы. И природа эта, загнанная в подполье, начинала мстить, порождая причудливые и пугающие формы.
…В одну из сред, когда в «Улье Лжи» царила особенно доверительная, почти исповедальная атмосфера, слово взял молодой человек по имени Лев. До этого он был тих и молчалив, и о нем знали лишь то, что он когда-то писал стихи, а теперь работал корректором в отделе технической документации. Его лицо было бледным, глаза горели.
Он не стал рассказывать заранее подготовленную историю. Он начал импровизировать, его речь была сбивчивой, образы – рваными и хаотичными, но от этого лишь более мощными.
– Он спит, – начал Лев, и его шепот был слышен в самых дальних углах подвала. – Он спит глубоко, под плитами наших городов, под фундаментами наших «идеальных» домов. Он очень стар. Древнее, чем сама идея истины. Он… дракон.
В зале замерли. Тема мифологических существ была рискованной даже здесь.
– Но он не питается огнем или плотью, – продолжал Лев, и его голос набирал силу. – Его пища… тоньше. Он питается снами. Фантазиями. Несбыточными мечтами. Тем, что рождается на границе засыпающего сознания, между правдой и ложью. Тем, что не имеет имени и не может быть измерено. Он спал так долго, потому что мы кормили его. Каждой сказкой, каждой песней, каждой историей, которую мы рассказывали у костра, каждой картиной, которую мы рисовали в пещерах… мы кормили его. А теперь…
Лев замолчал, обводя взглядом замерших слушателей.
– А теперь он голодает. Мы отравили его источник. Мы объявили его пищу ядом. И он просыпается. От голода. И когда он проснется окончательно… он не изрыгнет пламя. Он… вдохнет. Он вдохнет в себя этот мир, лишенный вымысла, этот пустой, безжизненный каркас из голых фактов. Он поглотит нашу реальность, потому что она стала для него несъедобной, мертвой. И не останется ничего. Ни правды, ни лжи. Только тишина. И его вечный, ненасытный голод.
В тот самый момент, когда Лев произнес последние слова – «ненасытный голод» – керосиновая лампа «Лучица», горевшая ровно и спокойно, вдруг вспыхнула ослепительно ярко, выбросив язычок пламени на полметра вверх, будто из ее горелки ударил огнемет. Свет стал белым, почти невыносимым для глаз. А затем, так же внезапно, пламя схлопнулось, съежилось до крошечной, синей, едва тлеющей точки, и подвал погрузился в почти полную тьму, хотя топлива в лампе было больше половины.
Одновременно с этим всех присутствующих, как один человек, объял внезапный, пронизывающий до костей холод. Он не шел от стен или пола – он возник в воздухе, густой и ледяной, заставляя зубы стучать. Длилось это не более десяти секунд. Потом холод отступил так же внезапно, как и появился, а «Лучица», с тихим потрескиванием, снова разгорелась до своего обычного состояния.