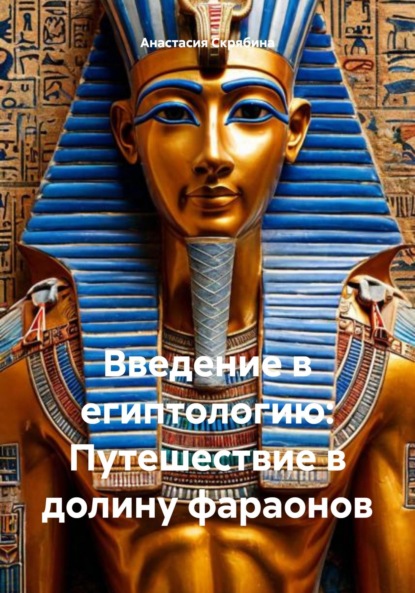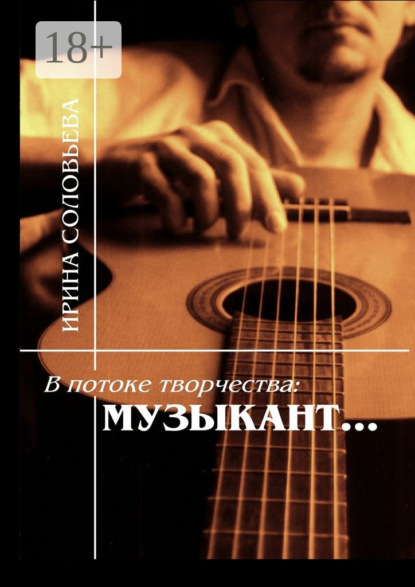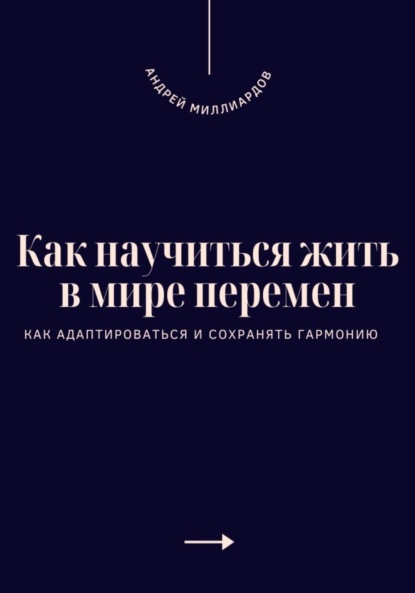Источник жизни. Серия «Интеллектуальный детектив»
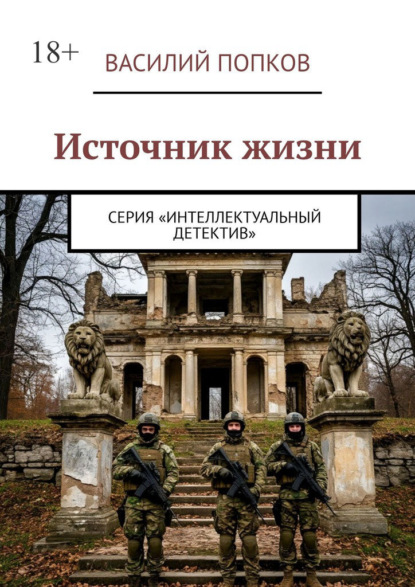
- -
- 100%
- +

© Василий Попков, 2025
ISBN 978-5-0068-4939-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Источник жизни
Пролог
Алексей Белых, человек системы и порядка, сидел в ночной тишине, а перед ним, на мерцающем экране, светилась нить, ведущая сквозь два с половиной столетия. Нить, которая могла привести к открытию, способному перевернуть представления о наследии Ломоносова.
Пазл сложился. Головокружительная, невероятная картина.
Александр Демидов, промышленник, владелец горных заводов, меценат. Иван Старов, его зять, гениальный архитектор. И Михайло Ломоносов, чьи архивы после смерти считались утерянными, разрозненными.
А что, если Демидов, по просьбе умирающего Ломоносова или по своей воле, взял на хранение самые ценные, самые опасные его черновики перед тем, как Григорий Орлов по приказу Екатерины II изъял архивы и опечатал кабинет, где работал Ломоносов? И что, если Старов, строя усадьбу, спроектировал не просто дворец, а гигантский тайник, сейф для величайшего интеллектуального сокровища?
Алексей Белых еще не знал, что это письмо Старова – не просто историческая находка. Это был ключ. Ключ, который отопрет дверь не только в прошлое, но и в водоворот смертельно опасных событий настоящего. Его тихая, упорядоченная жизнь архивариуса заканчивалась в эту самую минуту. Начиналось нечто иное.
Глава 1: «Черновик Старова»
Атмосфера в архиве после семи вечера была не пустотой, а насыщенной, почти осязаемой субстанцией. Она состояла из шепота переплетёной кожи старых фолиантов, едва слышного потрескивания вековой бумаги и мерного гула серверных стоек, стоявших в соседнем помещении. Воздух, прохладный и сухой, пах пылью, историей и сладковатым ароматом окисляющихся чернил. В этом царстве упокоенного времени Алексей Белых чувствовал себя как дома.
Его кабинет, вернее, отгороженный стеллажами угол в общем зале, напоминал логово педантичного ученого-отшельника. На столе, заваленном папками и книгами, царил идеальный рабочий хаос, понятный только ему одному. Каждая стопка, каждый разложенный лист имел свое место и значение. Слева – дела XVIII века, справа – XIX-го, ближе – ждущие оцифровки, дальше – уже обработанные. Посредине этого бумажного архипелага, как остров современности, стоял мощный компьютер с двумя большими мониторами. На одном был открыт интерфейс базы данных, на другом – высококачественный скан пожелтевшего рукописного листа.
Алексей потянулся, слыша, как хрустнули позвонки после нескольких часов неподвижности. Он снял очки, протер их мягкой тряпочкой, которую всегда носил в кармане старого, поношенного пиджака, и снова водрузил на переносицу. Взгляд его, привыкший выхватывать малейшие детали из тысяч страниц, был слегка усталым, но ясным. В сорок пять лет Алексей Белых был тем, кем хотел быть – архивариусом, хранителем. Его мир был построен на фактах, каталогизирован и расставлен по полкам. Он не любил неопределенности, суеты, громких слов. Прошлое, с которым он работал, говорило с ним четким, неоспоримым языком дат, подписей, указов и писем. И он понимал этот язык лучше, чем язык живых людей.
Он сделал глоток остывшего чая из кружки с надписью «Не трогай мои архивы!» и вернулся к работе. Шел процесс верификации. Система автоматического распознавания текста, этот грубый цифровой пахарь, пропахала сканы личной переписки архитектора Ивана Егоровича Старова и кое-как, с тысячами ошибок, перевела их в текст. Задача Алексея была в том, чтобы вычитать, исправить опечатки, дополнить метаданные, расставить теги. Работа монотонная, кропотливая, но именно в такой монотонности, как жемчужина в раковине, иногда рождались открытия.
Письмо было адресовано Александру Григорьевичу Демидову, владельцу горных заводов и, как выяснилось, мызы Тайцы. Алексей знал об этой усадьбе, конечно. Знал он и о том, что Старов был женат на сестре Демидова, Наталье Григорьевне, так что переписка между ними носила не только деловой, но и семейный характер. Он прокручивал строку за строкой, механически исправляя «i» на «и», «Ѣ» на «е». Большинство текста было посвящено ходу строительства, поставкам материалов, капризам рабочих – сухому языку деловой переписки XVIII века.
И вот его взгляд, скользя по экрану, зацепился. Сначала он даже не понял, почему. Рука сама потянулась к мышке, чтобы прокрутить страницу назад. Он прочитал абзац еще раз. Медленнее.
«…Каменные работы в цоколе восточного флигеля завершены, и я распорядился начать кладку стен, согласно чертежу. Леса поставлены исправно, и Крестовский обещает к Иванову дню доставить весь необходимый кирпич. Пудостский камень показывает себя отлично, не в пример мшимсковскому, коий оказался рыхл…»
Нет, не здесь. Он прокрутил еще немного. И снова. И вот он. Абзац, начинавшийся с обсуждения интерьеров парадного зала, содержал ту самую фразу. Алексей замер, его пальцы застыли над клавиатурой. Он прочитал ее вслух, шепотом, в котором звучало недоверие:
«…и для вашей „стеклянной“ коллекции, о коей мы с покойным Михайлой Васильевичем говорили, место отвел надежное, в сердце „Лабиринта“, дабы жар не повредил, о чем вашей милости дополнительно доложу по приезде…»
Сердце Алексея, обычно бившееся ровно и спокойно, как метроном, внезапно стукнуло с такой силой, что отдалось в висках. Он откинулся на спинку стула, сжав веки. Потом снова резко наклонился к экрану, почти уткнувшись в него носом, как будто боялся, что слова вот-вот исчезнут.
«Нет, это невозможно», – прошептал он.
Но слова никуда не делись. Они были там. Выцветшие чернила, старая орфография, неуклюжий почерк писаря, но смысл был ясен и кристально чист.
Он начал анализировать. Его мозг, вышколенный годами работы с историческими документами, мгновенно переключился из режима корректора в режим исследователя. Он разложил фразу на составляющие, как хирург – на операционном столе.
«Стеклянная коллекция». Это был не бытовой оборот. Нет. Алексей тут же вспомнил десятки источников. В переписке алхимиков, первых химиков, натуралистов того времени «стеклянная коллекция» (vitrea collectio) была устойчивым эвфемизмом. Так называли не выставку ваз или бокалов, а собрание манускриптов, содержащих рецепты, формулы, описания опытов. Знания, зафиксированные на хрупком, как стекло, пергаменте или бумаге. Знания, которые легко разбить, утратить, сжечь. Стекло – символ и хрупкости знания, и лабораторной посуды, в которой это знание рождалось. У Демидовых, владельцев горных заводов, наверняка была своя лаборатория, свои изыскания. И Ломоносов, с его титаническими интересами в химии и физике, был тут как нельзя более кстати.
«Покойный Михайла Васильевич». Тут не могло быть двух мнений. Михайло Васильевич Ломоносов. Великий ученый. Умер в 1765 году. Алексей мысленно вызвал в памяти хронологию. Письмо Старова не было датировано прямо в тексте, но оно явно относилось к периоду строительства усадьбы. А строительство, как он прекрасно знал, началось в 1774 году и продолжалось четыре года. Получалось, что Старов ссылался на разговор, который состоялся как минимум девять, а то и все десять лет назад! Это была не случайная упомянутая вскользь фраза, не риторический оборот. Это была прямая отсылка к конкретному, значимому договору, беседе, возможно, даже поручению, которое пережило самого Ломоносова и теперь воплощалось в камне и тайне.
«Сердце „Лабиринта“». Алексей тут же открыл в соседней вкладке браузера оцифрованные планы усадьбы Тайцы. Да, он помнил точно. Пейзажный парк при усадьбе, творение того же Старова, делился на несколько участков с романтичными названиями: Собственный сад, Большая поляна, Звезда, Зверинец и… да, вот он – Лабиринт. Это не было метафорой! Это было прямое указание на локацию. «Сердце Лабиринта» – скорее всего, его геометрический центр, место, куда сходятся все аллеи. Архитектор-масон, каковым и был Старов, любил такие символы. Центр. Ядро. Суть.
«Дабы жар не повредил». Логичное, почти бытовое указание. Бумаги, пергамент, чернила боятся огня, сырости, резких перепадов температур. Значит, место должно быть прохладным, сухим, защищенным. Возможно, подземным? Погреб, ледник, потайная комната в толще цокольного этажа… Рустованная кладка, о которой писал Старов, могла скрывать многое.
Алексей отодвинулся от стола и встал. Ему нужно было движение, чтобы переварить открывшееся. Он прошелся по узкому проходу между стеллажами, его пальцы машинально провели по корешкам томов, не видя их.
У него в голове сложилась головокружительная мозаика. Александр Демидов, промышленник, финансировавший науки. Иван Старов, его зять, гениальный архитектор. И Михайло Ломоносов, титан, чьи архивы после смерти считались утерянными, разрозненными, неполными. Существовали слухи, что часть его наследия, особенно связанная с «секретными», как бы сказали сейчас, коммерческими или опережающими время разработками в области химии и металлургии, бесследно исчезла.
А что, если она не исчезла? Что если Демидов, как патриот и меценат, по просьбе умирающего Ломоносова или по своей собственной инициативе, взял эти бумаги под охрану? И что, если Старов, строя для него усадьбу, спроектировал не просто дворец для приемов, а гигантский сейф, тайник для величайшего интеллектуального сокровища России?
Мысли неслись вихрем. Он представлял себе ящики, сундуки, туго набитые исписанными листами. Черновики, которые скрывали опередившие время формулы. И описания новых сплавов, неизвестных химических процессов, чертежи оптических приборов – то, чего никто не видел. То, что Ломоносов, возможно, скрывал от недоброжелателей из Академии или, наоборот, готовил для практического применения на демидовских заводах.
Алексей подошел к окну. За темными стеклами лежал ночной Петербург, подсвеченный оранжевым светом фонарей. Современный, суетный, живущий своей жизнью. А тут, в этой тихой комнате, он только что разговорил призраков. Призраков, которые прошептали ему на ухо величайшую тайну.
Он вернулся к компьютеру. Его научный азарт, та самая искра, что заставляет ученого годами верить в свою гипотезу, вспыхнул ярким пламенем, сжигая обычную осторожность, скепсис и страх показаться смешным. Рациональная часть мозга пыталась протестовать: «Слишком пафосно. Слишком похоже на приключенческий роман. Нужны доказательства».
Но он уже знал, что делать. Доказательства нужно было искать. Не здесь, не в цифровых копиях. Там, в сердце Лабиринта.
Он сохранил файл, пометив его красным флажком «ВЫСОКИЙ ПРИОРИТЕТ», и бережно, как драгоценность, скопировал скан на свою личную флешку. Завершая работу, он уже составлял в уме план. Завтра – запрос в РНБ на просмотр оригиналов фонда Старова для сверки. Послезавтра – изучение всех доступных карт и планов усадьбы Тайцы разных лет. А потом… потом поездка на место.
Алексей Белых, человек системы и порядка, только что нашел улику, которая грозила перевернуть его собственный, тщательно выстроенный мир. И он не мог дождаться, чтобы это случилось.
Конечно, вот вторая глава, написанная в соответствии с вашим планом, требуемым объемом и включающая неожиданный поворот.
Глава 2: «Смех скептиков»
Утренний свет, резкий и бесцеремонный, заливавший коридоры института, был совсем не похож на ласковый сумрак архивных залов. Алексей шел на планерку с чувством, похожим на легкое опьянение. Ночь он провел беспокойно, в голове крутились обрывки фраз, планы, образы Ломоносова, Демидова, Старова. Он чувствовал себя не архивариусом, придавленным грузом веков, а следопытом, держащим в руках нить Ариадны, которая могла вывести его к величайшему открытию.
Конференц-зал отдела был небольшим, с длинным столом из светлого дерева, за которым помещалось человек десять. Воздух пах кофе и усталостью. Алексей занял свое привычное место в середине стола, положив перед собой блокнот и планшет. Внутри все трепетало от предвкушения.
Заведующий отделом, Олег Борисович Крутов, мужчина лет пятидесяти с уставшим лицом и вечно озабоченным выражением глаз, открыл совещание. Он говорил о планах по оцифровке, о новых поступлениях, о срочных заявках от исследователей. Алексей почти не слушал, мысленно репетируя свое выступление. Он понимал, что должен быть убедительным, но не пафосным, точным, но не занудным.
«Ну, а теперь по текущим вопросам», – Крутов обвел взглядом присутствующих. – «Коллеги, есть что сказать?»
Алексей кашлянул в кулак и поднял руку.
«Олег Борисович, у меня есть одно сообщение. Возможно, крайне интересное».
Все взгляды устремились на него. Коллеги были удивлены. Алексей Белых редко выступал на планерках, предпочитая отмалчиваться.
«Я продолжаю работу с фондом Старова», – начал Алексей, стараясь говорить спокойно. – «И вчера, в процессе верификации текстов, я наткнулся на черновик его письма Александру Демидову».
Он включил проектор, подключил планшет и вывел на экран тот самый скан. Красным кружком была обведена злополучная фраза.
«Вот этот фрагмент. Обратите внимание на формулировку». Он прочитал ее вслух, медленно и четко: «…и для вашей „стеклянной“ коллекции, о коей мы с покойным Михайлой Васильевичем говорили, место отвел надежное, в сердце „Лабиринта“, дабы жар не повредил…»
В зале наступила тишина. Алексей, воодушевленный вниманием, продолжил, излагая свою, как ему казалось, безупречную цепочку рассуждений.
«Как нам известно, „стеклянная коллекция“ – это устойчивый эвфемизм в переписке алхимиков и химиков того времени, обозначающий манускрипты, формулы, научные труды. „Покойный Михайла Васильевич“ – это, без сомнения, Ломоносов. Умерший в 1765-м. Письмо написано в период строительства усадьбы Тайцы, то есть после 1774-го. Старов ссылается на разговор десятилетней давности, что указывает на его важность. „Сердце Лабиринта“ – это не метафора. Мы знаем, что в парке усадьбы Тайцы был одноименный участок. А указание „дабы жар не повредил“ четко определяет требования к месту хранения – прохладное, защищенное».
Он сделал паузу, ожидая всплеска интереса, одобрительных кивков, вопросов. Но тишина затягивалась, становясь звенящей и некомфортной. Он видел недоуменные, скучающие и даже насмешливые взгляды.
Первым нарушил молчание Олег Борисович. Он тяжело вздохнул, снял очки и принялся протирать их платочком.
«Алексей, дорогой», – начал он с оттенком отеческого снисхождения, которое всегда раздражало Белыха. – «Мы все ценим вашу преданность делу, вашу… эрудицию. Вы наш лучший специалист по XVIII веку, это без вопросов. Но давайте спустимся с небес на землю».
Он надел очки и уставился на Алексея своими усталыми глазами бюрократа.
«У нас, как вы сами только что слышали, план по оцифровке горит. Горят сроки по гранту. А вы нам предлагаете… что именно? Искать сокровища в заброшенной усадьбе по намекам из письма двухсотлетней давности? Это уровень не научного исследования, а бульварного романа. Уж извините за прямоту».
Алексей почувствовал, как кровь отливает от его лица. «Олег Борисович, это не намеки, это прямые указания! Речь идет о возможном местонахождении утерянного архива Ломоносова! Это величайшая…»
«Возможном», – перебил его Крутов. – «Ключевое слово – „возможном“. А у нас есть вполне реальные, осязаемые задачи. Инвентаризация, каталогизация, отчетность. Ваше „возможно“ не внести в отчет перед министерством. И потом, даже если там что-то и было, кто вам сказал, что это не нашли еще в XIX веке? Или при врачах, которые там санаторий устраивали? Или мародеры в девяностые? Вы хотите потратить время, силы, возможно, служебные ресурсы на авантюру?»
Из угла стола раздался едкий, знакомый голос. Это был Сергей Валерьевич Плотников, коллега лет сорока, с умными, но всегда язвительными глазами. Он специализировался на XX веке и считал работу Алексея бесполезным ковырянием в «допотопном хламе».
«Белых опять в архивах призраков ловит», – усмехнулся Плотников. – «Демидовы, Ломоносов, масонские заговоры… Алексей, может, ты еще и клад с алмазами ищешь? Или рецепт философского камня? Мне кажется, ты слишком увлекся Дэном Брауном. У нас тут наука, понимаешь? Факты. А не дешевые интриги».
В зале захихикали. Кто-то смущенно откашлялся. Алексей сидел, ощущая, как жар стыда заливает его шею и щеки. Его тщательно выстроенная логическая цепочка, его открытие, которое он лелеял всю ночь, в одно мгновение превратилось в посмешище. Его обвинили в ненаучности, в романтизме, в легковерии. Это было больнее любой прямой критики.
«Но есть же прямое указание…» – попытался он сказать еще раз, но голос его дрогнул.
«Указания, Алексей, требуют проверки», – жестко заключил Крутов. – «А проверка требует времени и средств, которых у нас нет. Предлагаю вернуться к обсуждению текущих задач. Ваше открытие, если это можно так назвать, оставим для личных изысканий. В нерабочее время, разумеется. У нас все?»
Планерка быстро закончилась. Коллеги, перешептываясь и бросая на Алексея странные взгляды, стали расходиться. Плотников, проходя мимо, хлопнул его по плечу с фальшивой симпатией: «Не переживай, старик, бывает. Всем хочется великих открытий».
Алексей остался сидеть один в опустевшем зале. Горечь разочарования стояла во рту медным привкусом. Он смотрел на мерцающий экран проектора, где все еще висела та самая строка. Теперь эти слова казались ему не ключом к тайне, а свидетельством его собственной глупости, его оторванности от реальности.
Он вышел в коридор и прислонился к прохладной стене. Из-за двери соседнего кабинета доносился сдержанный смех Плотникова и кого-то еще. Ему почудилось, что смеются над ним. Он понял простую и жестокую истину: в этом мире чистой, бюрократизированной академической науки его открытие не стоило ровным счетом ничего без железных, вещественных доказательств. Гипотеза, какой бы блестящей она ни была, была всего лишь гипотезой. Пылью.
Но именно эта несправедливость, это унижение подстегнули в нем нечто иное – упрямство и задетое самолюбие. Они считают его романтиком, чудаком, не от мира сего? Отлично. Он докажет им. Он найдет эти доказательства. Сам. Без их помощи, без их одобрения, без их дурацких отчетов.
Решение созрело мгновенно и стало твердым, как гранит. Он поедет в Тайцы. Сегодня же. Он найдет это «сердце Лабиринта» и посмотрит, что там. Если там пусто – значит, он и впрямь был неправ, и он смирится. Но если там есть хоть намек, хоть след… Тогда он вернется и бросит это открытие им на стол, как вызов.
Вернувшись в свой кабинет, он с мрачной решимостью принялся за подготовку. Он отправил Крутову письмо о том, что берет отгул за свой счет по семейным обстоятельствам. Затем погрузился в изучение всех доступных материалов по усадьбе Тайцы.
Он нашел оцифрованные планы парка разных лет – начала XIX века, советского времени, современные. Сравнивал их, отмечая изменения. «Лабиринт» со временем практически исчез, превратившись в заросший холмистый участок, но его общие очертания еще угадывались на старых картах. Он распечатал самую детальную схему, сделанную в 1920-х годах, и тщательно, с помощью циркуля и линейки, отметил предполагаемый центр Лабиринта.
Его рюкзак превратился в инструмент полевого исследователя. Туда легли:
* Распечатанные карты и планы в пластиковых файлах.
* Планшет с закачанными сканами и картами.
* Два мощных фонарика – ручной и налобный.
* Лазерная рулетка.
* Компактный штатив для фотосъемки.
* Блокнот в водонепроницаемой обложке и набор ручек.
* Мультитул.
* Небольшая аптечка и термос с кофе.
Он не знал, что его ждет, но был готов ко всему. Вернее, он думал, что готов.
Поздно вечером он стоял на перроне Витебского вокзала. Электричка до Гатчины была почти пуста. Он сел у окна, положив рюкзак на соседнее сиденье. За стеклом проплывали огни спальных районов, потом начались дачи, темные массивы леса. Он чувствовал странное смешение эмоций: горечь от несправедливости коллег, твердую решимость доказать свою правоту, и щемящее чувство одиночества человека, который идет против всех.
Но под всем этим была и другая эмоция – азарт. Он больше не был архивариусом Алексеем Белыхым, копошащимся в пыльных бумагах. Он был следопытом, детективом прошлого, идущим по горячему следу истории. Поезд уносил его не просто в пригород Петербурга, а вглубь веков, навстречу тайне, которая ждала его почти два с половиной столетия.
Он закрыл глаза, пытаясь представить себе усадьбу. Заброшенный дворец, заросший парк, молчаливые каменные львы… И где-то там, в сердце Лабиринта, ответ.
Электричка, наконец, тронулась, вывезла его из подземного затона вокзала на поверхность и, побрякивая на стрелках, понесла в сторону пригородов. Алексей уставился в окно, где в сумерках мелькали задние дворы, гаражи, затем редкие огни дач. Его мысли были далеко, он уже мысленно ходил по таинственному парку.
На одной из станций, где электричка постояла подольше, в вагон вошел человек. Алексей заметил его краем глаза – высокий, в темном, немарком пальто, с дорогой кожаной сумкой через плечо. Человек прошел по вагону и сел в нескольких рядах позади Алексея, у окна, погрузившись в чтение электронной книги.
Что-то в этом человеке было… не столько подозрительное, сколько несовместимое с обстановкой полупустой пригородной электрички. Слишком ухоженный, слишком спокойный. Слишком… целенаправленный. Но Алексей, поглощенный своими планами, отогнал это мимолетное впечатление. «Паранойя» – сказал он себе. – «После сегодняшнего дня все кажется враждебным».
Он снова углубился в изучение карты на планшете, отмечая возможные подходы к усадьбе со стороны станции. Дорога заняла еще с полчаса. Когда поезд начал замедлять ход перед его станцией, Алексей начал собираться. Он встал, надел рюкзак, поправил очки.
И в этот момент его взгляд случайно упал на окно, в отражении которого был виден тот самый человек в темном пальто. Алексей замер. Человек тоже собирался. Но делал он это с какой-то театральной неспешностью, его движения были точными и выверенными. И самое главное – его взгляд в отражении стекла был прямо направлен на Алексея. Не скользящий, не рассеянный, а пристальный, изучающий. В этом взгляде не было ни капли случайности.
Их глаза встретились в стекле на долю секунды. Человек не смутился, не отвел взгляд. На его губах промелькнула едва заметная, холодная улыбка. Затем он плавно поднялся и направился к выходу в противоположном конце вагона.
У Алексея похолодело внутри. Это не было паранойей. За ним следят. Кто? Почему? Неужели его открытие, над которым только что смеялись коллеги, уже кому-то стало известно? И эти люди восприняли его всерьез? Настолько всерьез, что отправили за ним хвост?
Двери с шипением открылись. Алексей, стараясь не оборачиваться, вышел на перрон небольшой, почти пустынной станции. Ночной воздух был холоден и свеж. Он быстро зашагал к выходу, к такси, дежурившей у выхода. Садясь в машину и называя адрес – деревня Большие Тайцы, – он бросил взгляд назад.
Человек в темном пальто вышел следом. Он не спешил. Он стоял под фонарем, достал телефон и что-то продиктовал в него, глядя на удаляющееся такси Алексея. Затем он жестом подозвал другую машину, темный внедорожник, который как будто ждал его здесь же.
Такси Алексея тронулось. Через несколько секунд он увидел в зеркале заднего вида, как фары внедорожника зажглись и тоже тронулись с места, сохраняя дистанцию.
Страх, холодный и липкий, сжал его горло. Его одиночное путешествие за знанием внезапно превратилось в нечто иное. В погоню. В игру, правила которой он не знал, а ставки, похоже, были куда выше, чем его научная репутация. Он ехал в ночь, к тайне прошлого, и теперь был абсолютно уверен, что он там не один.
Глава 3: «Встреча в Тайцах»
Станция «Та́йцы» встретила его гробовой тишиной и предрассветным мраком. Таксист, угрюмый мужчина в потертой куртке, молча кивнул на название деревни и, не проронив больше ни слова, повез его по темной, извилистой дороге. Алексей сидел на заднем сиденье, впившись пальцами в ремень рюкзака, и непрестанно смотрел в боковое зеркало. Темный внедорожник следовал за ними на почтительной дистанции, его фары, как два холодных, немигающих глаза, преследовали их.
«Кому-то очень нужно знать, куда ты едешь, парень», – внезапно хрипло проговорил таксист, поймав его взгляд в зеркале. – «Делай тут свои дела побыстрее, а то ночь на дворе, место глухое. Не ровен час».