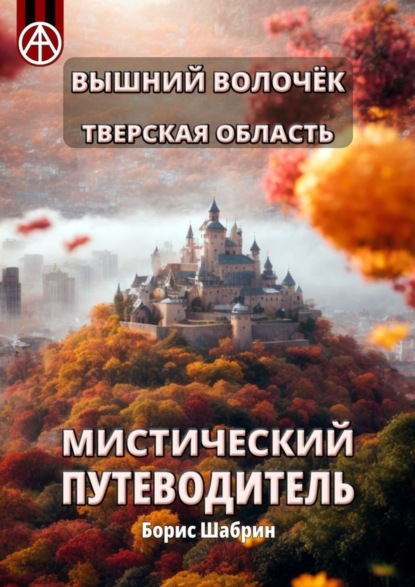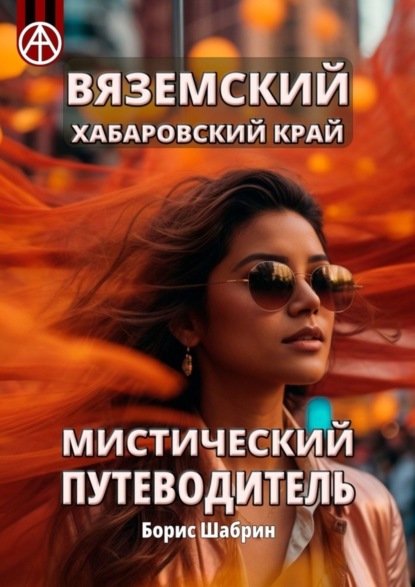Исповедь Империи

- -
- 100%
- +

Исповедь Империи
ПРОЛОГ
Санкт-Петербург, октябрь 1791 года
Бумага ждала.
Она лежала на полированном столе из карельской березы, белая и безмолвная, как снежное поле перед битвой. Её молчание было обманчивым. Бумага таила в себе гул будущих катаклизмов, шепот ярости и отзвуки падающих империй. Она была опаснее яда, острее кинжала и тяжелее всей короны Российской империи.
Екатерина Вторая, самодержица всероссийская, подошла к столу. От ее фигуры, еще могучей, но уже отягощенной годами и грузом не сбывшихся надежд, по кабинету побежали тени, стремительно меняющиеся в пляшущем пламени свечей. В кабинете не было ни золота, ни парчи, только запах воска, старого пергамента и вечного, невысказанного одиночества. За окном, в колючей мгле петербургской ночи, на секунду возник призрак Медного всадника – её великий предшественник, её проклятье и её вечный соперник в битве за место в истории.
Она взяла перо. Пальцы, подписывавшие указы, менявшие границы государств и ломавшие судьбы миллионов, на мгновение дрогнули. Она писала не для современников. Их она могла обмануть блеском двора и громом побед. Она писала для тех, кто придет потом, через двести, триста лет. Для тех, кто будет судить её, не зная цены её компромиссов.
«Знайте вы, грядущие…» – начало письма к потомкам было таким же пафосным и высоким, как и всё её правление. Но уже в следующем абзаце тон сменился. Исчезла Императрица. Осталась лишь женщина с циркулем в одной руке и окровавленным мечом – в другой.
«Сила России – в её терпении. Слабость – в этом же. Я расширила её границы так, что от ужаса сего деяния у меня самой сжимается сердце. Но что есть Империя? Это тело, пораженное неизлечимым недугом. Я прописывала ей слабительное реформ, прикладывала припарки просвещения. Но болезнь – рабство духа, страх как основа бытия – возвращается вновь. Она в нас. В нашей крови. Она переживет и меня, и те стены, что я возвела».
Она писала о будущем с точностью провидицы. Она видела трещины, которые однажды разорвут страну на куски. Видела, как её преемники будут замуровывать эти трещины не реформами, а страхом, пока однажды всё не рухнет в кровавом хаосе. Она давала им имена, эти призраки грядущего: «Великое Потрясение», «Эпоха Застоя», «Время Великой Лжи».
Это была не гордая исповедь. Это был диагноз, поставленный пациенту, которого она любила больше любовников, больше сына, больше самой себя. И этот диагноз был смертным приговором, вынесенным самой себе.
Закончив, она откинулась в кресле. Воск от горящей свечи упал на бумагу, как одинокая слеза. Она знала, что этот документ никогда не увидят. Он был слишком страшен. Он подрывал сами основы её власти, её легитимность, её Великий Миф. Он был правдой.
А правду, как известно, нужно прятать. Тщательнее, чем самое ценное сокровище. Глубже, чем государственную тайну.
Она аккуратно сложила листы, запечатала их сургучом с личным, тайным вензелем и перевязала черной шелковой лентой. Цвет траура по несбывшемуся будущему.
Бумага перестала ждать. Она начала свое долгое молчаливое путешествие в забвение, в архивную пыль, в лабиринт полок, где её должны были найти лишь тогда, когда пророчества станут реальностью, а боль прошлого – единственным ключом к пониманию настоящего.
Глава 1. Прах и алмазы
Бесконечный день подходил к концу, выцветая за высокими окнами с решетками, похожими на распластанные крылья летучей мыши. Алексей Горский провел ладонью по лицу, ощущая на коже невидимый налет вековой пыли, и отложил в сторону очередное дело. «О поставке провианта для лейб-гвардии Измайловского полка. 1853 год». Полторы сотни листов, испещренных убористым почерком канцеляриста, сливались в монотонный серый поток. Он не читал, он сканировал, его сознание работало как шлифовальный станок, отсекая частное, выискивая системное, цепляясь за аномалии. Это был его метод, его крест и его проклятие.
Архив в этот час был идеален. Мертвая тишина, нарушаемая лишь невесомым шорохом переворачиваемых страниц да отдаленным гулом вентиляции, напоминающим дыхание спящего исполина. Стеллажи уходили ввысь, теряясь в полумраке под потолком, ярус за ярусом, город мертвых букв, лабиринт, где вместо Минотавра обитала Истина, столь же неуловимая и требующая жертв. Алексей чувствовал себя не то археологом, раскапывающим погребенный город, не то могильщиком при нем. Белые хлопковые перчатки на его руках стали серыми, впитав в себя прах поколений. Он снял их привычным движением, вывернул наизнанку и положил в специальный бокс для стирки. Кожа пальцев, лишенная защиты, казалась неестественно голой и уязвимой.
Он откинулся на спинке стула, позволив усталости накрыть себя с головой. В глазах плавали багровые круги. Пять лет. Пять лет он провел в этом царстве вечного полумрака, среди фолиантов, пахнущих тлением и тайной. Когда-то, на первом курсе, он представлял себе работу историка как головокружительное приключение, череду озарений, решения великих исторических загадок. Он видел себя проводником, ведущим диалог сквозь века. Реальность оказалась куда прозаичнее. Бесконечные описи, каталогизация, отчеты. Историческая наука давно превратилась в служанку бюрократии, где ценились не блестящие гипотезы, а умение безропотно заполнять формы.
Его последняя статья о трансформации института фаворитизма при Екатерине II легла под сукно в редакции «Вестника исторических наук». Рецензент, седовласый академик, написал размашисто на полях: «Интересно, но неактуально. Автор излишне увлекается психологизмом в ущерб структурному анализу». Алексей с горечью вспомнил, как на той же конференции рукоплескали молодому харизматичному коллеге, выступившему с сенсационным докладом о «тайном браке Екатерины и Потемкина», основанном на сомнительных мемуарах. Блеф, построенный на воде и жажде публики к пикантным подробностям, победил кропотливую работу с документами. Мир жаждал мифов, а не правды. Правда была скучна, как этот отчет о провианте.
Его размышления прервал скрип двери. В проеме возникла сутулая фигура начальника отдела обеспечения сохранности архивных документов, Виктора Сергеевича Круглова. Мужчина лет пятидесяти, с лицом вечного должника и взглядом, привыкшим выискивать малейшее нарушение регламента.
– Горский, еще здесь? – его голос скрипел, как несмазанная дверца шкафа. – Уже восемь. Режимный объект, помнишь?
– Заканчиваю, Виктор Сергеевич, – Алексей постарался, чтобы в его голосе не прозвучало раздражения. – Фонд N-183 почти описан.
Круглов кивнул, его взгляд скользнул по столу, проверяя, все ли в порядке.
– Ну, как там? Никаких сенсаций? – он произнес это с легкой усмешкой, каждый раз задавая один и тот же вопрос. Для него архив был складом бумажного хлама, мертвой зоной, где служили такие же неудачники, как он сам.
– Пока нет, Виктор Сергеевич. Только провиантские ведомости, – ответил Алексей.
– А я к тебе, – Круглов достал из кармана пиджака ключ на массивной бляхе и маленькую картонную папку. – Завтра с утра приступаешь к новому фонду. «Секретные дела Кабинета Её Императорского Величества. 1762—1796». Только что рассекретили. Полный доступ. Для начала – предварительная опись и оценка сохранности.
Алексей замер. Сердце его сделало в груди один гулкий, тяжелый удар. Кабинет Её Величества. Святая святых. Личная канцелярия императрицы. То, о чем он мог только мечтать.
– Понял, – он взял папку и ключ, стараясь, чтобы пальцы не дрожали. – Спасибо.
– Не за что, – Круглов уже поворачивался к выходу. – Только смотри, Горский, никакой самодеятельности. Все по регламенту. Каждый чих – в журнал. Фонд особый, ответственность колоссальная. Малейшее нарушение – и ты у меня попляшешь.
Дверь закрылась. Алексей остался один, сжимая в руке холодный металл ключа. Он смотрел на папку. На ней было аккуратно выведено черной тушью: «Фонд 8. Разряд 2. Опись 1. Дела секретные». Его пальцы сами развязали шнурок. Внутри лежала стандартная форма передачи, но для него это был пропуск в иной мир.
Он не стал ждать до завтра.
Хранилище фондов ограниченного доступа находилось этажом ниже, за бронированной дверью с кодовым замком. Воздух здесь был иным – более густым, холодным, наполненным ароматом старой кожи, сургуча и чего-то неуловимого, сладковатого, похожего на запах увядших роз. Стеллажи здесь были ниже, сейфовые, каждый ящик опечатан. Он нашел номер, указанный в описи. Ящик был тяжелым, массивным. Металл с глухим стуком поддался ключу.
Внутри, в аккуратных рядах, лежали картонные коробки, оклеенные потертым, когда-то зеленым, теперь скорее землисто-серым коленкором. Он выдвинул первую. «Переписка с генерал-прокурором Вяземским. С приложениями». Вторая. «Донесения тайной экспедиции. 1774—1775 гг.». Третья. Четвертая. Каждая коробка – запечатанный временем сосуд.
Он работал методично, с привычной осторожностью. Открывал коробку, извлекал дела, проверял сохранность листов, фиксировал название, крайние даты, количество листов и вносил все это в электронную базу. Его сознание, еще минуту назад бывшее вязким от усталости, теперь работало с предельной ясностью. Он читал не слова, а подтекст. За сухими строчками рапортов проступали контуры великих событий и малых интриг. Вот доклад о ходе работ по возведению Медного всадника, с пометкой Екатерины на полях: «С Фальконе поступить как он того заслуживает – с настойчивостью, но без унижений». А вот – счет от ювелира за золотую табакерку, подаренную очередному фавориту. И тут же, рядом, – секретное предписание о слежке за ним же.
Он погружался в этот мир, ощущая его сложность и противоречивость. Это была не парадная версия истории из учебников, а ее изнанка, живая, пульсирующая нервными узлами закулисных сделок, страхов и амбиций. И в центре этого запутанного клубка была Екатерина Великая. Ее почерк – размашистый, уверенный, ее резкие, точные пометки, ее ирония, сквозившая в самых официальных документах. Он начинал слышать ее голос.
Но сенсации, чего-то, что перевернуло бы устоявшиеся представления, не было. Была рутинная, пусть и высочайшего уровня, работа огромного государственного механизма. Чувство легкого разочарования начало подкрадываться к нему, как холодный сквозняк из-под двери. Он уже почти смирился с мыслью, что и этот фонд окажется просто еще одним пластом информации, важным, но не революционным.
И тут его взгляд упал на коробку, стоявшую в самом углу ящика, отдельно от других. Она была меньше, из темного, почти черного дерева, с простой металлической защелкой. В общей бумажной внутренней описи она значилась просто: «Коробка №17. Разное». Никаких конкретных дел.
Любопытство, главный двигатель любого исследователя, заставило его потянуться к ней. Дерево было гладким, отполированным временем и прикосновениями. Защелка поддалась беззвучно. Внутри, без всяких папок и обложек, лежала стопка писем, перевязанная шелковой лентой цвета воронова крыла. Лента была завязана сложным, немеханическим узлом, который явно не развязывали десятилетия, если не столетия.
Алексей замер. Это было личное. Не дело, не документ для отчетности. Это была частная переписка. Он осторожно, боясь разрушить чары, взял стопку в руки. Лента была прочной, шелк сохранил свою упругость. Он несколько минут, с почти ювелирной тщательностью, разбирал узел. Наконец, лента ослабла и сползла на стол, как змея.
Первые письма были от французских просветителей. Вольтер, Дидро. Язык был цветистым, полным комплиментов и философских рассуждений, но в рамках принятого этикета. Алексей читал, погружаясь в изящный мир интеллектуального флирта между северной Семирамидой и властителями дум Европы. Это было прекрасно, но не ново. Основной корпус этой переписки был давно издан и изучен.
И вот он добрался до последнего листа в стопке. Бумага была иной – более тонкой, плотной, с водяными знаками, которые он сразу не распознал. Почерк был другим – не каллиграфическим почерком секретаря и не размеренным шагом официального документа. Это был стремительный, нервный, порывистый почерк. Почерк самой Екатерины. Тот самый, что он видел на пометках, но здесь он был не сдержан, а обнажен.
Текст был написан на французском, но это было не письмо. Это был хаос. Фразы, обрывающиеся на полуслове. Отдельные слова, подчеркнутые несколько раз. Цифры, выстроенные в столбцы без видимой логики. Геометрические фигуры – треугольники, окружности с точками в центре. И странные аббревиатуры, которых он никогда не встречал: «З.И.», «В.Л.», «С.П. к. д.в.».
Это был шифр. Не просто метафорический шифр души, а самый настоящий, преднамеренный криптографический текст. Созданный, чтобы скрыть смысл от посторонних глаз.
Сердце забилось с такой силой, что стало трудно дышать. Вот оно. То, о чем он мечтал. Алмаз в груде породы. Уникальный, никому не известный документ, способный перевернуть все. Его пальцы потянулись к телефону, чтобы сделать снимки. Он снял перчатки, чувствуя, что для такой работы нужна тактильная связь с бумагой. Кадр за кадром, с максимальным разрешением, он запечатлел каждый миллиметр хрупкого листа.
И тут его взгляд упал на верхний угол, туда, где бумага была чуть более потертой. Там, карандашом, очень аккуратно, был выведен вопросительный знак, а под ним – три слова: «См. „Зеркало“? Предельная осторожность».
Мир вокруг замер. Гул вентиляции стих. Алексей не дышал. Этот почерк он знал. Уставший, чуть дрожащий, но невероятно четкий. Почерк его научного руководителя, профессора Финкельштейна. Борис Леонидович. Тот самый, кто когда-то привел его в эту профессию, кто говорил ему: «История, Алеша, это не про даты. Это про мотивы. А мотивы всегда скрыты».
Финкельштейн видел этот документ. И не просто видел. Он его изучал. Он оставил эту пометку. «Зеркало». Что это? Название шифра? Ключ? И это предупреждение… «Предельная осторожность». От кого? От чего? От коллег? От начальства? Или от чего-то более серьезного?
Эйфория открытия сменилась стремительно нарастающей, холодной тревогой. Он нашел не просто исторический артефакт. Он нашел доказательство. Улику. Причем улику в деле, о котором ничего не знал. Он держал в руках не просто текст, а причину, по которой кто-то мог действовать. Причину, которая, судя по предупреждению профессора, могла быть опасной.
Он медленно, с невероятной бережностью, сложил листы обратно. Его движения были теперь лишены восторга, они были наполнены ритуальной точностью. Он снова перевязал стопку той самой черной лентой, стараясь повторить оригинальный узел. Голос истории, который он так жаждал услышать, обернулся зловещим, неразборчивым шепотом из-за двери, за которой могло скрываться что угодно. Он вернул коробку на место, закрыл ящик, повернул ключ.
Выйдя на улицу, Алексей вдохнул полной грудью влажный, промозглый воздух спящего города. Фонари отбрасывали на брусчатку длинные, расплывчатые тени. Он застегнул пальто, чувствуя, как мелкая дрожь пробегает по спине. Он оглянулся на монументальное здание архива, поднимавшееся в ночное небо темным неприступным утесом. И впервые за многие годы он почувствовал не благоговейный трепет, а животный, первобытный страх. Он унес с собой тайну. И был абсолютно уверен, что за этой тайной уже кто-то следит. Кто-то, для кого пыль архивов была не опилками времени, а прикрытием для очень современных и очень опасных игр.
Глава 2. Последний совет профессора
Утро, пришедшее на смену той беспокойной ночи, было серым и влажным, словно промокший пепел. Алексей провел несколько часов в лихорадочном полусне, где причудливо переплетались образы шифрованных букв, черной шелковой ленты и пронзительного, умного взгляда Екатерины с портрета кисти Левицкого. Он встал с ощущением тяжести во всем теле, будто не спал, а таскал всю ночь мешки с цементом. Первым делом он проверил телефон – зашифрованная папка с фотографиями документа была на месте. Это принесло слабое, призрачное утешение.
Он не мог думать ни о чем, кроме вчерашней находки и, главное, карандашной пометки профессора Финкельштейна. Борис Леонидович. Человек-легенда, ходячая энциклопедия, последний из могикан старой, доцифровой исторической школы, для которого работа в архиве была сродни мистическому ритуалу. Именно он когда-то, на первом курсе, разглядел в застенчивом и упрямом провинциале не просто способного студента, но родственную душу, живущую тем же восторгом перед шепотом минувших эпох. Финкельштейн открыл ему мир за стенами лекционных аудиторий, мир, где по клочку бумаги можно было восстановить крупицу чьей-то давно угасшей жизни, чьих-то страстей и надежд.
Именно Финкельштейн привел его в РГАДА, сказав как-то: «Архив, Алеша, это не склад. Это интенсивная терапия для истории. Мы здесь не сторожа, мы реаниматологи. Мы пытаемся запустить сердце прошлого, заставить его снова биться в настоящем». С тех пор прошло много лет. Профессор отошел от активной работы, ссылаясь на здоровье, и появлялся в архиве все реже. Их общение стало эпизодическим, ограничиваясь редкими звонками и случайными встречами на конференциях. Алексей чувствовал легкую, невысказанную вину за то, что забросил старого наставника, погрузившись в трясину собственных карьерных разочарований и бытовой рутины.
И вот теперь эта нить снова натянулась, и натянута она была чем-то тревожным, зловещим. Пометка «Предельная осторожность» не давала ему покоя. Что могло заставить уважаемого, давно находящегося вне каких-либо научных баталий академика оставить такое предупреждение? Это было не похоже на привычную профессорскую манеру – несколько отстраненную, ироничную, всегда устремленную вглубь веков, а не в сиюминутные проблемы.
Он долго колебался, прежде чем набрать номер. Палец замер над кнопкой вызова. Что он скажет? «Борис Леонидович, я нашел какую-то шифровку и вашу пометку»? Звучало как бред. Но деваться было некуда. Только Финкельштейн мог пролить свет на эту загадку.
Трубка была снята почти мгновенно, после первого же гудка.
– Алло? – голос профессора был таким, каким Алексей помнил его всегда: негромким, чуть хрипловатым, с бархатистыми интонациями человека, привыкшего взвешивать каждое слово.
– Борис Леонидович, здравствуйте, это Алексей Горский. – Он почувствовал, как глупо звучат эти церемонные слова.
На другом конце провода на секунду воцарилась тишина.
– Алеша… – произнес наконец Финкельштейн, и в его голосе послышалась какая-то сложная гамма чувств: удивление, настороженность, а может быть, и что-то вроде облегчения. – Какой неожиданный звонок. Как ты?
– Спасибо, все нормально, – поспешно ответил Алексей, пропуская мимо ушей стандартные вежливые формулы. – Борис Леонидович, я вчера работал с фондом Кабинета Её Величества. Рассекреченные дела.
– Да? – голос профессора стал чуть более собранным, заинтересованным. – И что, нашел что-нибудь любопытное?
– Я нашел… одну коробку. Деревянную. С письмами. Перевязанными черной лентой.
Тишина в трубке стала густой, плотной, почти осязаемой. Алексей даже подумал, что связь прервалась.
– Борис Леонидович? Вы меня слышите?
– Слышу, – ответил Финкельштейн, и его голос внезапно утратил всю свою бархатистость, став сухим и колким, как щепка. – Продолжай.
– Там было одно письмо… вернее, не письмо, а текст. Шифрованный. И на нем… ваша пометка. Карандашом. «См. „Зеркало“? Предельная осторожность».
На этот раз пауза затянулась настолько, что Алексей начал нервно похлопывать пальцами по столу.
– Алеша, – наконец произнес профессор, и его слова были медленными, тщательно выверенными, будто он переступал через невидимое препятствие. – Где ты сейчас?
– Дома. Собираюсь на работу.
– Нет. Не иди в архив. Встретимся. Сейчас. Ты знаешь кафе «Лист» на набережной? То, что в старом особняке, с витражами.
– Знаю, – удивился Алексей. Это было дорогое, пафосное место, не в его стиле и, как он думал, не в стиле аскетичного профессора.
– Через сорок минут. И, Алеша… – голос Финкельштейна понизился до шепота. – Никому ни слова. Ни единого слова. Понял меня?
– Понял, – кивнул Алексей в трубку, хотя профессор не мог этого видеть.
– И возьми… то, что ты нашел. Только снимки. Оригинал не трогай. Ни в коем случае.
Связь прервалась.
Дорога до кафе заняла у Алексея около получаса. Он шел быстрым шагом, не замечая ни прохожих, ни нависшего низкого неба. Внутри все клокотало. Спокойная, размеренная жизнь, которой он жил еще вчера утром, треснула по швам, и из трещины на него смотрело нечто неизвестное. Поведение Финкельштейна было не просто странным. Оно было пугающим. Этот шепот, эта поспешность, это требование немедленной встречи в уединенном месте – все это было списано с плохого шпионского триллера, а не с реальной жизни ученого-историка.
Кафе «Лист» и впрямь располагалось в отреставрированном особняке XIX века. Высокие потолки с лепниной, полумрак, пробивающийся сквозь цветные витражи, глухие стены, поглощающие звуки. Воздух пах дорогим кофе, свежей выпечкой и стариной. Алексей выбрал столик в самом дальнем углу, за массивной колонной, скрывавшей его от входа и от большинства других посетителей. Он заказал двойной эспрессо и стал ждать.
Ожидание растянулось на пятнадцать мучительных минут. Каждая новая входящая в зал фигура заставляла его вздрагивать. Он ловил себя на том, что неосознанно изучает лица людей, ища в них признаки угрозы. Он чувствовал себя параноиком, и это ощущение было ему глубоко противно.
Наконец дверь открылась, и в кафе вошел профессор Финкельштейн. Алексей едва узнал его. Невысокий, всегда подтянутый, с аккуратной седой бородкой и живыми, умными глазами за стеклами очков, Борис Леонидович обычно выглядел человеком, не подвластным времени. Сегодня же он показался Алексею постаревшим на десять лет. Плечи его были ссутулены, пальто висело мешком, а на лице лежала печать крайней усталости. Он оглядел зал быстрым, нервным взглядом, заметил Алексея и направился к его столику, двигаясь чуть быстрее, чем обычно, но при этом как-то несвободно, скованно.
– Борис Леонидович, – Алексей встал, чтобы поприветствовать его.
– Сиди, сиди, – отмахнулся профессор, снимая пальто и опускаясь в кресло напротив. Он дышал чуть тяжеловато, будто прошел не несколько шагов от двери, а взбежал по лестнице. – Заказал уже?
– Эспрессо. Вам?
– Мне… мне чай. Крепкий. Черный. С лимоном.
Алексей поймал взгляд официантки и сделал заказ. Когда они остались одни, воцарилась неловкая пауза. Профессор смотрел в стол, водя пальцем по узору на скатерти.
– Покажи, – наконец произнес он, не поднимая глаз.
Алексей достал телефон, нашел папку с фотографиями и протянул аппарат профессору. Тот взял его с какой-то странной осторожностью, будто это была не электронная безделушка, а старинный, хрупкий артефакт. Он надел очки, наклонился к экрану и начал листать снимки. Алексей наблюдал за его лицом. Вначале оно оставалось непроницаемым, затем на нем появилось сосредоточенное выражение глубокого аналитика, вживающегося в текст. Но чем дальше он листал, тем явственнее проступало на этом лице другое – тревога. Даже не тревога, а нечто более глубокое, похожее на страх. Рука, державшая телефон, слегка дрогнула.
Он долистал до конца, поднял взгляд на Алексея, и в его глазах отражалась та «предельная осторожность», о которой гласила карандашная пометка.
– Ну? – тихо спросил Алексей. – Что это, Борис Леонидович?
Профессор медленно положил телефон на стол и отодвинул его от себя, словно он был раскаленным.
– Так ты и не знаешь? – переспросил он, и в его голосе прозвучало что-то вроде разочарования. – Не догадываешься?
– Я понял, что это шифр. И что вы его уже видели. И что-то он вас сильно встревожил.
– Встревожил, – усмехнулся профессор беззвучно, безрадостно. – Это мягко сказано, Алеша. Ты нашел не просто исторический курьез. Ты нашел… – он оглянулся, проверяя, не подслушивает ли кто, и понизил голос до едва слышного шепота, – …«Исповедь Империи».
Слова повисли в воздухе между ними, тяжелые и зловещие. Алексей почувствовал, как по его спине пробежали мурашки.
– «Исповедь Империи»? – переспросил он. – Что это такое? Документ?
– Не документ. Мина. Мина замедленного действия, заложенная под основы нашего государства двести пятьдесят лет назад, – глаза профессора горели лихорадочным блеском. – Легенду о нем передают устно, от одного посвященного к другому, с тех самых пор, как умерла Екатерина. Все думали, что это просто миф. Бабушкина сказка для историков. Оказалось – нет.