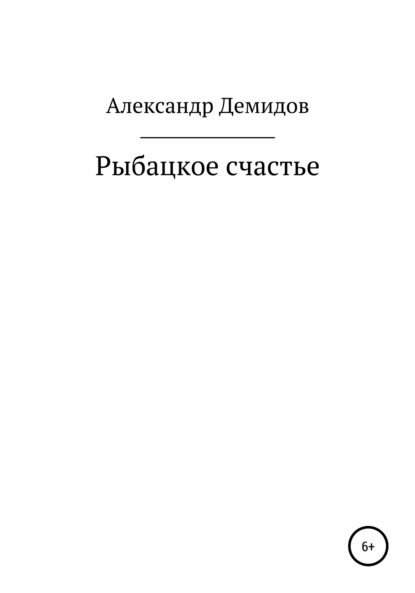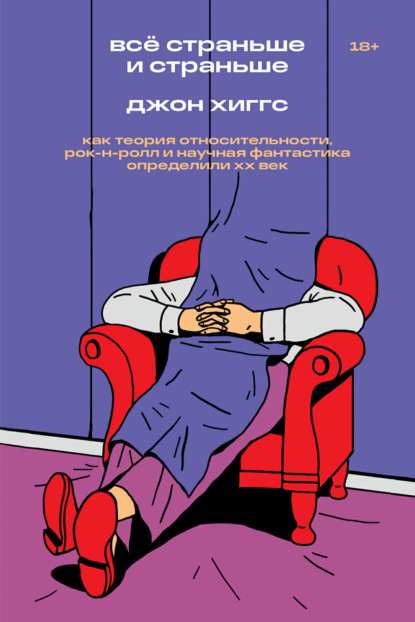Где заканчиваются границы

- -
- 100%
- +

Глава 1: Телефонный звонок.
Телефонный звонок застал Викторию в момент её триумфа. Она стояла у панорамного окна своего офиса на сорок втором этаже московского бизнес-центра, и город лежал у её ног – упорядоченный, залитый холодным осенним солнцем, покорённый. Только что завершились шестичасовые переговоры, изматывающие, как марафон по пересечённой местности. Оппоненты, трое самоуверенных мужчин в костюмах дороже её первой машины, покинули переговорную с лицами, на которых читалось плохо скрываемое поражение. Виктория же чувствовала лишь привычную, почти стерильную пустоту удовлетворения. Победа. Ещё одна. В её сорок два года она была партнёром в одной из самых влиятельных юридических фирм столицы, и её имя было синонимом успеха – холодного, безжалостного, безупречного.
Она отвернулась от окна, окинув взглядом свой кабинет: стекло, хром, минималистичная итальянская мебель. Ничего лишнего. Никаких семейных фотографий, безделушек, напоминающих о прошлом. Её жизнь была так же выверена, как и этот интерьер – каждый предмет на своём месте, каждая минута расписана. Хаос был недопустим.
Её личный мобильный, лежавший на идеально гладкой поверхности стола, завибрировал. Незнакомый номер из другого региона. Виктория обычно не отвечала на такие звонки, считая их информационным мусором, но что-то заставило её палец скользнуть по экрану.
– Слушаю, – её голос прозвучал ровно и бесцветно, как и подобает адвокату её ранга.
На том конце провода молчали секунду, потом раздался сдавленный женский голос, искажённый плохой связью и волнением.
– Вика? Виктория Сергеевна? Это тетя Валя, соседка ваша… Помнишь меня? Семёнова.
Виктория помнила. Тетя Валя – круглолицая, вечно суетливая женщина, чей дом стоял через дорогу от их большого, старого особняка на холме. Она не слышала её голоса двадцать лет. Время сжалось в тугую пружину.
– Помню, – коротко ответила она, чувствуя, как по спине пробегает холодок. – Что-то случилось?
– Вика, тут такое дело… Мать твоя… Елена… В больнице она.
Каждое слово било точно в цель, пробивая броню, которую Виктория выстраивала годами. Больница. Мать. Имя, которое она сама себе запретила произносить вслух.
– Что с ней? – спросила Виктория, и с удивлением отметила, что голос остался прежним, контролируемым. Руки, однако, предательски похолодели.
– Инсульт, Вика. Сегодня утром нашли её на полу… Скорая забрала. Она в реанимации сейчас. Врачи говорят… говорят, состояние тяжёлое. Тетя Валя запнулась, всхлипнула. – Она всё твоё имя повторяла, пока в сознании была… Приезжай, Вика. Ей надо.
Виктория молчала, глядя в одну точку на полированной поверхности стола. Мир за окном, такой ясный и подконтрольный минуту назад, вдруг качнулся и поплыл. Приезжай. Простое слово, которое звучало как приговор. Вернуться туда, откуда она сбежала, вырвав с корнем своё прошлое. В город, где каждый камень помнил её унижение. В дом, пропитанный запахом отцовского гнева и молчаливой скорби.
Её отец, Сергей, умер пять лет назад. Она не поехала на похороны. Брат Денис позвонил, сообщил сухо, без эмоций. Она выслала деньги, много денег, и зарылась в работу с головой, не позволяя себе ни одной слезы, ни одного воспоминания. Она думала, что с его смертью последняя нить, связывавшая её с тем миром, оборвалась. Оказалось, нет. Оставалась мать. Тихая, незаметная, всегда бывшая в тени властного мужа, Елена теперь лежала в реанимации и звала её.
– Я не могу, – произнесла Виктория вслух, скорее для себя, чем для собеседницы. – У меня работа. Суд на следующей неделе.
Это была правда. Важнейшее дело, к которому она готовилась полгода. Но за этой правдой скрывалась другая, более глубокая: она боялась. Панически боялась снова оказаться в том доме, где стены помнили крик отца в тот последний вечер: «Ты больше мне не дочь! Карьеристка бездушная! На могилу брата своего плюёшь!» Тогда она развернулась и ушла, чтобы никогда не возвращаться.
– Вика, какая работа? – голос тети Вали зазвенел от отчаяния. – Мать при смерти! Денис-то здесь, конечно, но она тебя зовёт. Только тебя.
Виктория закрыла глаза. Перед внутренним взором пронеслось лицо матери – с вечно виноватой улыбкой и глазами, полными тихой печали. Она так и не поняла тогда, чью сторону занимала мать – её или отца. Она просто молчала. Всегда молчала. И это молчание ранило едва ли не сильнее отцовских обвинений.
Что она будет делать там? Сидеть у больничной койки, держа за руку женщину, которая стала ей почти чужой? Встречаться с братом Денисом, который в их последнем разговоре бросил ей в лицо, что она предала семью? Ходить по улицам города, который двадцать лет назад выплюнул её?
Нет. Это было бы самоубийством. Её мир – здесь, в этом стеклянном небоскрёбе, где прошлое не имело значения, а ценились только холодный расчёт и воля к победе.
– Я… я перезвоню, – сказала она, сама не зная, зачем. Нужно было просто положить трубку.
Она нажала на отбой и замерла в оглушительной тишине своего кабинета. Город за окном продолжал жить своей жизнью, не замечая трещины, которая прошла по её выверенной вселенной. Виктория подошла к столу, налила в стакан воды из графина. Руки слегка дрожали.
Она не поедет. Это иррационально. Бессмысленно. Она ничем не поможет. Врачи сделают всё необходимое. Она может прислать денег на лучшую палату, на лучших специалистов из Москвы. Это будет её вклад. Рациональный, действенный, безопасный.
Виктория села в кресло и открыла ноутбук. Экран осветил её лицо, подчёркивая жёсткие линии скул и усталость в уголках глаз, которую не мог скрыть даже безупречный макияж. Нужно было готовиться к суду. Она открыла папку с делом, но буквы расплывались перед глазами. Вместо юридических формулировок она видела старое крыльцо их дома, заросшее диким виноградом, и лицо младшего брата, Ивана, смеющееся, живое. За неделю до того, как он шагнул со скалы.
Двадцать лет она строила стену между собой и этим прошлым. И один телефонный звонок превратил её в руины.
Мать. Инсульт. Зовёт её.
Виктория с силой захлопнула ноутбук. Звук эхом пронесся по пустому кабинету. Она подняла трубку внутреннего телефона.
– Лена, отмени все мои встречи на ближайшую неделю. Да, все. И суд попробуй перенести. Причина? Семейные обстоятельства.
Она положила трубку и открыла сайт РЖД. Пальцы, уже не дрожа, быстро забегали по клавиатуре. Москва – Приозерск. Ночной поезд. Один билет в купе СВ.
Глава 2: Двадцать лет молчания.
Поезд нёсся сквозь беззвёздную ноябрьскую ночь. Виктория сидела в одиночестве своего купе класса «люкс», и этот вагон был такой же частью её мира, как и офис в небоскрёбе – безличный, функциональный, дорогой. За окном проносились редкие, смазанные огни станций и деревень, похожие на искры угасающего костра. Ритмичный, убаюкивающий стук колёс должен был успокаивать, но вместо этого он работал как метроном, отсчитывая такт для мыслей, которые она так долго и успешно держала под замком. Двадцать лет молчания обрели звук в этом перестуке: ту-дух, ту-дух, ту-дух.
Она невольно вспомнила свой последний отъезд из Приозерска. Тогда был старый, душный плацкартный вагон, пахнущий углём и мокрыми куртками. Она сидела на верхней полке, вцепившись в свой единственный чемодан, и беззвучно плакала, пока поезд увозил её прочь от разрушенной жизни. Теперь она возвращалась в роскоши, но чувствовала себя так же – беглянкой. Только тогда она бежала в будущее, а сейчас – в прошлое.
Память, безжалостная и точная, подсунула ей первую сцену. Ей восемнадцать, она стоит на пороге отцовского кабинета, сжимая в руках письмо о зачислении на юридический факультет МГУ. Она светится от счастья. Это её мечта, её билет в другую жизнь, прочь от предопределённости провинциального мирка.
– Папа, я поступила! – выдохнула она, вбегая в святая святых, где пахло кожей, деревом и дорогим табаком.
Сергей, её отец, человек, державший в руках не только свою семью, но и половину города, оторвался от бумаг. Он не улыбнулся. Его тяжёлый, пронзительный взгляд не выражал гордости. Только холодное недоумение.
– Поступила? И что ты будешь делать с этим дипломом в Москве? Думаешь, тебя там ждут? Женское счастье, Виктория, не в бумажках. Оно здесь. Рядом с семьёй. Выйти замуж за порядочного человека, родить детей, продолжать род. Вот твоё предназначение.
Слова были сказаны спокойно, весомо, как будто он излагал неоспоримую истину. Для него её амбиции были не достоинством, а дефектом, странной блажью, которую нужно искоренить. В его мире женщина была хранительницей очага, опорой для мужа. Он сам выбрал её матери, Елене, эту роль, и она играла её безропотно. Он не мог понять, почему его собственная дочь бунтует против сценария, который он считал идеальным.
Этот разговор стал первой трещиной в их отношениях. Но настоящая пропасть разверзлась позже, после смерти Ивана.
Иван… Её младший брат. Тихий, задумчивый, с глазами художника и душой поэта. Он был её единственным настоящим другом в той семье. Они часами могли говорить обо всём – о книгах, о музыке, о несправедливости мира. Он один понимал её стремление вырваться. «Ты должна уехать, Вика, – шептал он. – Ты сильная. А я… я не смогу».
Его смерть официально была несчастным случаем. Пошёл в поход в горы один, сорвался со скалы. Город скорбел вместе с их семьёй. Но Виктория не верила в несчастный случай. Она помнила, каким потухшим он был в последние месяцы, как избегал смотреть в глаза, как всё больше замыкался в себе. Отец давил на него, требуя «стать мужиком», бросить «дурацкие рисунки» и заняться семейным бизнесом. Иван увядал под этим гнётом.
Стук колёс стал громче, настойчивее. И вот она – та самая сцена. Последний вечер в доме. Со дня похорон Ивана прошла неделя. Дом пропитался тишиной и запахом корвалола. Виктория, собрав свой чемодан, спустилась вниз. Отец сидел в гостиной, в своём любимом кресле, превратившийся в серую, неподвижную статую. Мать беззвучно плакала на кухне.
– Я уезжаю, – тихо сказала Виктория.
Отец медленно поднял на неё глаза. В них не было скорби. Только ледяная, испепеляющая ярость. Он нашёл виноватого.
– Уезжаешь, – пророкотал он. – Конечно. Тебе же всегда было плевать на семью. Твоя карьера, твои амбиции… Это они его убили! Если бы ты была здесь, если бы была нормальной сестрой, а не гонялась за своими московскими мечтами, он был бы жив! Ты была слишком занята собой, чтобы заметить, что твой брат умирает!
Это было чудовищно. Несправедливо. Обвинение ударило так сильно, что у неё перехватило дыхание. Она хотела кричать, защищаться, но слова застряли в горле.
– Ты больше мне не дочь! – отчеканил он, поднимаясь во весь свой огромный рост. – Слышишь? Карьеристка бездушная! Убирайся! Ты на могилу родного брата плюёшь своим отъездом!
Именно тогда она умерла для них, а они – для неё. Она посмотрела в сторону кухни, надеясь на поддержку матери, но увидела лишь её ссутулившуюся спину. Мать не обернулась. Она сделала свой выбор – осталась с мужем, в его горе и его гневе. Она тоже молча её предала.
Виктория развернулась и пошла к двери. И за двадцать лет ни разу не оглянулась. Она построила свою жизнь на руинах той семьи. Обвинение отца в «бездушии» стало её топливом. Она докажет ему. Она станет настолько успешной, настолько сильной, что его слова превратятся в пыль. Она добилась этого. Она победила.
Поезд начал замедлять ход. За окном забрезжил серый, неуютный рассвет. Приозерск. Виктория встала, посмотрела на своё отражение в тёмном стекле. Успешная сорокадвухлетняя женщина. Партнёр юридической фирмы. Владелица шикарной квартиры в центре Москвы. И дочь, которая двадцать лет не разговаривала с матерью.
Глава 3: Родной город словно иностранный.
Сырой, холодный воздух Приозерска ударил в лицо, как только двери вагона открылись. Он был густым, пахнущим влажной землёй, прелыми листьями и едва уловимым дымком печных труб – запахом, который невозможно было найти в стерильной атмосфере Москвы. Виктория на мгновение замерла на ступеньке, вдыхая этот концентрат своего прошлого. Перрон был почти пуст. Старое, облупившееся здание вокзала, выкрашенное в стандартный грязно-жёлтый цвет, казалось декорацией к фильму о давно минувшей эпохе. Её мир роскошных поездов и сверкающих терминалов здесь выглядел чужеродным и неуместным.
Она спустилась на потрескавшийся асфальт, её дорогие ботильоны на шпильке неуверенно ступили на землю, которую она когда-то знала как свои пять пальцев. У вокзала стояли несколько потрёпанных машин. Один из водителей, мужчина неопределённого возраста в растянутом свитере, окинул её оценивающим взглядом.
– Такси? Куда едем, красавица? – его голос был прокуренным, а обращение – фамильярно-провинциальным, от которого она давно отвыкла.
Виктория молча кивнула и села на заднее сиденье старенькой иномарки. Салон пах дешёвым ароматизатором «ёлочка» и бензином.
– В городскую больницу, пожалуйста, – сказала она, стараясь, чтобы её голос звучал ровно.
– К матушке, значит? – водитель поймал её взгляд в зеркале заднего вида. – Слыхал я, Елену Покровскую с утра увезли. Весь город гудит. Семья-то у вас известная.
Виктория отвернулась к окну. Конечно. В Приозерске ничего не менялось. Город был как большая деревня, где все всё про всех знали. Её анонимность, её главное оружие в Москве, здесь испарилась, не успела она сделать и десяти шагов по родной земле.
Машина тронулась, и началось путешествие во времени. Центральная улица, которую она помнила серой и унылой, теперь пестрела кричащими вывесками. «Мир суши», «Империя пиццы», «Fashion-бутик». Эти современные заплатки на ветхом теле советской архитектуры выглядели нелепо и трогательно одновременно. Но сквозь эту мишуру проступали призраки. Вот здание старого кинотеатра «Заря», где они с Иваном смотрели все новинки. Теперь на его месте был безликий супермаркет.
Машина повернула, и Виктория увидела свою школу. Серое трёхэтажное здание, окружённое тополями. Она затаила дыхание. На крыльце курили старшеклассники, такие же дерзкие и уверенные в своём бессмертии, какой была она сама. Память услужливо подбросила картинку: она, с двумя косичками и горящими глазами, тащит за руку смеющегося Ивана. «Пойдём скорее, мы опоздаем!» Он всегда был медлительным, созерцательным, а она – вечным двигателем. Острая, почти физическая боль пронзила грудь. Это было место их общего, счастливого прошлого. До того, как всё сломалось.
– Тут вот раньше парк был, помните? – прервал её мысли водитель. – Теперь торговый центр строят. Всё меняется.
Виктория посмотрела на огороженный пустырь, где когда-то стояли старые карусели и скамейки, на которых она прогуливала уроки. Она не помнила этот парк. Или не хотела помнить?
Следующий поворот. Машина проезжала мимо аккуратного двухэтажного дома с мезонином. Дом Алексея. Её первая любовь. Умный, красивый, из хорошей семьи – идеальная партия, по мнению отца. Он звал её замуж сразу после школы. «Зачем тебе эта Москва, Вика? У нас здесь всё будет. Я люблю тебя». Тогда его слова казались ей клеткой. Она уехала, разорвав отношения коротким, жестоким письмом. Интересно, как сложилась его жизнь? Наверное, он женат, у него дети. Живёт правильной, предсказуемой жизнью, которую отвергла она. На секунду она позволила себе укол запретной ностальгии, но тут же подавила его. Это был путь в никуда.
Город ощущался как иностранный. Знакомые контуры были наполнены чужим содержанием. Она была здесь туристом в собственном прошлом, разглядывающим экспонаты своей прежней жизни через толстое стекло двадцатилетней разлуки. Эмоции накатывали волнами: горечь, нежность, злость, тоска. Она чувствовала себя археологом, который нашёл руины древнего города и пытается по осколкам восстановить картину жизни, не понимая до конца, была ли эта жизнь его собственной.
Машина свернула с центральной улицы на тихую, засаженную старыми липами дорогу, ведущую в гору. Новые постройки закончились. Здесь время как будто застыло. Те же дома, те же заборы, тот же разбитый асфальт. Сердце забилось чаще. Она знала, что ждёт её наверху.
Водитель замолчал, чувствуя сгустившееся в салоне напряжение. Впереди, сквозь голые ветви деревьев, показалась крыша. Тёмно-красная черепица, которую отец заказывал из Германии. Крыша их дома. Большого дома на холме, который был для неё одновременно крепостью и тюрьмой, раем и адом.
Глава 4: Большой дом на холме.
Такси остановилось. Дальше дороги не было – она упиралась в кованые ворота, массивные, с затейливым узором из переплетённых листьев, тронутых ржавчиной. Виктория расплатилась с водителем, не глядя протянув несколько купюр. Дверца машины захлопнулась, и звук её отъезжающего мотора, затихающий в утренней тишине, оставил Викторию в полном одиночестве. Наедине с домом.
Он стоял на вершине холма, возвышаясь над городом, как старый, задумчивый великан. Два этажа из тёмного кирпича, высокая черепичная крыша, стрельчатые окна – всё в нём говорило о солидности, основательности, о намерении стоять вечно. Её отец, Сергей Покровский, построил этот дом не для себя – он построил его для династии. Это была его крепость, его манифест, его заявление миру. «Мы – Покровские. Мы здесь навсегда». Сейчас, глядя на потемневший кирпич и дикий виноград, почти полностью захвативший одну из стен, Виктория ощутила всю иронию этого заявления. Династия дала трещину. Крепость не устояла.
Она толкнула тяжёлую створку ворот. Та поддалась с протяжным, мучительным скрипом, словно старик, которого потревожили во сне. Дорожка к дому, когда-то вымощенная идеальными плитами, теперь просела и заросла сорняками, пробивавшимися сквозь трещины. Слева, где мать разбивала свои роскошные розарии, теперь буйствовал чертополох. Запустение было некритичным, но очевидным – как будто за домом ухаживали, но без любви, просто поддерживая видимость жизни.
Её взгляд остановился на широком каменном крыльце. В любую погоду, кроме откровенного ненастья, отец проводил здесь вечера. Он сидел в плетёном кресле, которое казалось под ним игрушечным, курил сигару и читал газету, изредка бросая короткие, веские реплики в сторону матери, суетившейся рядом с поливкой цветов. Он был похож на короля, обозревающего свои владения. Отсюда, с холма, весь город был как на ладони. Отец любил это чувство контроля, власти. Он умер пять лет назад, но Виктории показалось, что она до сих пор чувствует его тяжёлый взгляд, до сих пор видит тень его массивной фигуры в том самом месте, где сейчас стояло пустое, растрескавшееся от времени кресло. Его присутствие здесь было густым, материальным. Он не ушёл из этого дома. Он им стал.
Поднимаясь по ступеням, Виктория чувствовала себя самозванкой. Её кашемировое пальто, дорогие ботильоны, идеальная укладка – всё это было атрибутами другого мира. Здесь она снова становилась просто Викой, дочерью, нарушившей волю отца.
Она остановилась перед массивной дубовой дверью. Рука потянулась к карману пальто, ища ключи, но тут же замерла. У неё не было ключей от этого дома. Двадцать лет не было. Она была гостем. Просителем.
Она подняла глаза. Окно на втором этаже, слева от входа. Её комната. Занавески были плотно задёрнуты. А рядом – комната Ивана. Его окно смотрело на мир открыто, беззащитно. Виктория представила, как он стоял у этого окна, глядя на огни далёкого города, и чувствовал себя запертым в этой крепости, в этой семье, в этой жизни, которую для него выбрали. Она сбежала. Он – нет. Может, отец был прав? Может, если бы она осталась, она смогла бы ему помочь? Эта мысль, которую она гнала от себя годами, сейчас вернулась с новой, невыносимой силой.
Запахи. Дом пах прошлым. Через щели в старой двери просачивался тот самый, единственно верный аромат её детства: смесь воска для натирки паркета, пыльных книг из отцовской библиотеки и едва уловимая нотка маминых пирогов, которая, казалось, въелась в само дерево. Этот запах был как машина времени. Он мгновенно перенёс её на тридцать лет назад, в тот день, когда она, разбив коленку, бежала по этой самой дорожке к этой самой двери, зная, что за ней – безопасность, утешение, любовь.
Теперь за этой дверью была лишь неизвестность. Боль. И тишина, наполненная голосами призраков.
Виктория глубоко вздохнула, собираясь с духом. Она приехала сюда не для того, чтобы стоять на пороге. Она подняла руку, холодную, как лёд, и несколько раз отчётливо постучала костяшками пальцев по тёмному, отполированному временем дубу.
Глава 5: Мать в палате.
Городская больница №1 встретила Викторию запахом, который она не ощущала двадцать лет – едкой смесью хлорки, лекарств и тихой, застарелой безысходности. Это был запах, который невозможно было перепутать ни с чем. В московских частных клиниках, куда она изредка заходила на профилактические осмотры, пахло кофе и дорогим антисептиком. Здесь пахло болезнью.
Она прошла по тускло освещённому коридору с вытертым добела линолеумом. Стены, выкрашенные до половины в унылый зелёный цвет, были испещрены трещинами. Её шаги на высоких каблуках эхом отдавались в тишине, привлекая любопытные взгляды редких посетителей и уставшего медперсонала. В этой обстановке её строгое пальто и дорогая сумка выглядели вызывающе, как бриллиантовое колье на нищем. Она чувствовала себя инородным телом, вторгшимся в чужой мир страдания.
Отделение реанимации находилось в конце коридора, за тяжёлой дверью с табличкой «Посторонним вход воспрещён». Виктория на секунду замерла, собираясь с духом. Всё, что было до этого – поезд, город, дом – было лишь прелюдией. Настоящее испытание ждало её за этой дверью.
Дежурная медсестра, полная женщина с суровым лицом, подняла на неё глаза от журнала.
– Вы к кому?
– К Елене Покровской. Я её дочь.
Слово «дочь» прозвучало странно, как будто она говорила о ком-то другом. Медсестра смягчилась, её взгляд стал сочувствующим.
– Проходите. Только недолго. Ей покой нужен. Палата номер два.
Палата оказалась маленькой, на две койки. Одна была пуста. На второй, под казённым одеялом, лежала её мать. Виктория остановилась на пороге. Ритмично пищал кардиомонитор, отсчитывая удары сердца, которые могли оборваться в любую секунду. В нос ударил ещё более концентрированный запах лекарств.
Женщина на кровати была не похожа на ту мать, которую Виктория хранила в памяти. Даже образ десятилетней давности, который она изредка видела на фотографиях брата в соцсетях, померк. Перед ней лежала маленькая, иссохшая старушка. Лицо было бледным, пергаментным. Левая его половина казалась застывшей маской, уголок рта был неестественно опущен. Руки, когда-то постоянно чем-то занятые – то прополкой в саду, то вязанием, то готовкой, – безвольно лежали поверх одеяла. К одной из них тянулась трубка капельницы.
Виктория подошла ближе. Она смотрела на это чужое, измученное лицо и пыталась найти в нём черты своей матери. Тщетно. И вдруг веки женщины дрогнули. Правый, живой глаз медленно открылся. Он блуждал по палате, мутный, нефокусирующийся, и вдруг остановился на Виктории.
Взгляд прояснился. В нём промелькнуло узнавание, потом – неверие, и следом – волна таких сложных, противоречивых чувств, что у Виктории перехватило дыхание. И из этого живого, всё понимающего глаза по щеке покатилась слеза. Медленная, тяжёлая.
– Мама? – шёпотом произнесла Виктория, сама не узнавая свой голос. – Это я. Вика.
Елена издала какой-то звук – не слово, а сдавленный стон, в котором смешались и радость, и боль. Её правая рука чуть дёрнулась, пытаясь приподняться. Виктория осторожно взяла её ладонь в свою. Кожа была сухой и холодной.
– Пр… прости… – прошелестел едва слышный, искажённый шёпот. Слова давались ей с огромным трудом, каждый звук был вымучен.
– Тише, мама, тише, – Виктория наклонилась ниже. – Не говори ничего. Тебе нельзя волноваться.
Но мать не слушала. В её взгляде появилось отчаянное упорство. Она должна была что-то сказать. Что-то невероятно важное.
– Про… сти… за… всё… – она снова попыталась, и по её лицу пробежала судорога от напряжения.
– За что, мама? За что простить? – спросила Виктория, хотя понимала, что ответа не будет.
Елена замотала головой, насколько ей позволяла слабость. Её взгляд стал умоляющим. Она пыталась что-то объяснить, но слова не слушались. Это было мучительно. Она, всегда такая тихая и покорная, сейчас боролась за каждое слово, как за жизнь.
Внезапно её взгляд стал более осмысленным, требовательным. Она чуть сжала пальцы Виктории.
– Дом… – выдохнула она. – Ты… должна… в дом….
– Я была там. Я останусь там, мама. Не волнуйся.
– Нет… – её глаза наполнились слезами отчаяния от невозможности быть понятой. – Там… там… что-то… есть… Ты… должна… узнать….