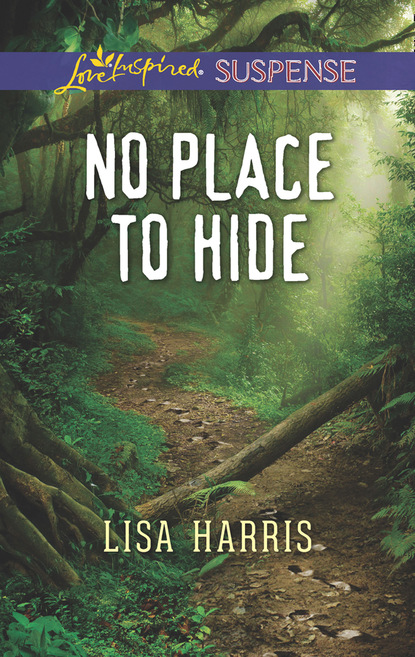- -
- 100%
- +

Отец
Ощущение непреходящей ценности каждого мгновения человеческой жизни сопровождает меня давно, но впервые оно возникло, лет тридцать назад, когда мы с пятнадцатилетней дочерью сидели теплым вечером на завалинке деревенского дома на хуторе Криничном и слушали рассказы отца.
И я с отчетливой ясностью понял одну, казалось бы, очень простую истину: пройдет еще несколько лет, и уже некому будет вспоминать о службе на Дальнем Востоке в предвоенные годы, потому что не будет ни отца, и, вообще, никого, кто бы мог вспомнить то время.
А затем, я подумал и о себе, что вот так же и я, спустя какое-то время, окажусь в числе тех, кто будет вспоминать прожитое и так же, как мой отец, пересказывать в очередной раз своим близким. А потом не станет и меня, и исчезнет и мой мир вместе со всеми, кого я любил, и кто, быть может, любил и меня.
Теперь о самом материале. По размышлению, понял, что писать о своем раннем детстве в общем-то нечего, а то, что я помнил, так или иначе связано с отцом. Поэтому я решил, что, рассказывая об отце, не буду выделять отдельные главки о себе.
Зато постараюсь как можно тщательнее представить, каким он был, начиная с самого детства.
Этот рассказ отца я записал уже много лет назад, но публикую только сейчас.
Венька
Матерый заяц русак, прихрамывая, бежал вдоль крутого склона, а ему наперерез лихо скользил по глубокому снегу на лыжах маленький охотник. В руках у него старинное ружье – берданка двенадцатого калибра, доставшееся ему в наследство от старшего брата. Свистел ветер в ушах, но охотник почти ничего не видел, кроме приближающейся спинки зверька. Почувствовав, что его догоняют, заяц начал забирать вправо, вниз по склону, но расстояние между ними все сокращалось.
И вот уже считанные метры отделяли добычу от охотника. Мальчик вскинул ружье к плечу. Выстрел!
Сквозь облако сизого дыма, образовавшегося от разрыва пороха, охотник видел, как горстка дроби вскинула фонтанчик снега чуть впереди зверька. Заяц прыгнул в сторону и убегал все дальше и дальше.
Промазал!
Сильная отдача ударила мальчика в плечо. Как подкошенный, Венька кубарем полетел в снег. Остановившись, начал осторожно шевелить ногами. Вроде, целы. Поднял лыжи над головой. Как будто, тоже. Но какое это имеет значение теперь, когда ушла такая добыча!
На лице его таял снег, а, может быть, это были слезы? Мальчик отряхнулся и, став на лыжи, поднялся на горку, где подобрал шапку и ружьё. Ствол был забит снегом, и Венька долго выковыривал его сломанной веточкой, а затем старательно протирал специально запасенной промасленной тряпочкой. Наконец берданка снова была приведена в «полную боевую готовность». Так учил его старший брат Алексей.
– Венька, – говорил он, – пуще глаза береги нашу берданку. А она тебя не подведет.
Покончив с уходом за ружьем, Венька закинул берданку на ремне за спину и поднялся наверх, туда, где пробежал заяц. Некоторое время шел параллельно его следам. Несмотря на юный возраст, мальчик был уже опытным следопытом и легко читал, что происходило на снегу. След левой задней лапы русака был смазан и слегка розовел. Все правильно, значит, это его подранок, за которым он следует с самого утра. Сейчас заяц уже далеко, но Венька знает, что зверек пробежит еще версты три, а потом сядет где-нибудь, вон за теми дальними кустами. Заяц устал, и к тому же он довольно серьёзно ранен. Венька решил, что попробует обойти зайца с подветренной стороны. У него оставался последний патрон, и, чтобы использовать его, нужно приблизиться к русаку до верного выстрела, а не палить без толку. О том, что он сам тоже устал и здорово проголодался, мальчик старался не думать.
Венька живет на хуторе с матерью и ее братом-инвалидом. Для своих тринадцати лет, он, пожалуй, маловат ростом и выглядит щуплым. Волосы у него курчавые, русые. У мальчика тонкие черты лица и по-девичьи нежная кожа. Когда Венька смущается, щеки его заливаются алой краской. Однако чувствуется в нем какая-то внутренняя сила, которая еще не раскрылась, но угадывается в способности мальчика идти целый день на лыжах, ночевать в стогу и питаться мороженой ягодой.
– Бывало и похуже,– смутно вспоминает он голодные годы, когда умерли три его старших брата, а он все-таки дождался матери, ушедшей верст за семьдесят менять самодельные перочинные ножи на продукты. А сейчас он чувствует себя совсем взрослым.
Три года назад единственный старший брат, уезжая в город, подарил ему старую берданку. И с тех пор большую часть года мальчишку днем с огнем дома не сыщешь. Зимой еще так-сяк. А чуть весна – его и дух простыл. Даже мерзлой картошкой – единственным продуктом, остающимся к этому времени дома – его не привлечешь. В поле пробилась нежная салатовая травка. Венька сызмальства отлично знает, как найти самую вкусную: щавель, дикий чеснок, лук, хвощ.
Летом старое ружье надолго вешается на крючок – деревенские охотники свято чтут вековые охотничьи законы. Зато летом грибы и ягоды. Венька иногда приходит домой ночью, а ежели и вовсе не придет, за него и не волнуются.
Поле и лес для Веньки – лучшие друзья. Приятелей-одногодков поблизости нет, а в соседнюю деревню лучше не соваться – побьют. Тамошние ребята известные драчуны. Да не только мальчишки. Случалось, и мужики выдергивают колья из плетня и бьются смертным боем деревня на деревню.
А Веньке и одному не скучно. Иногда только возьмет его на уток дядька Михаил. Он инвалид. Вместо одной ноги у него деревянный костыль – с тех пор, как вернулся домой с японской войны. В шалаше на зорьке ему посидеть можно, а по снегу за зайцем – не ходок. Зато вечером за утиной похлебкой Венька внимательно слушает рассказы о повадках зверей и птиц, слушает и жадно вбирает охотничью мудрость.
В тот день пороша закончилась поздно утром. Надежды на то, что найдет хоть чьи-нибудь следы, не было почти никакой. Но, тем не менее, Венька не утерпел и вышел в поле на лыжах. За спиной на ремне висела верная берданка, в кармане три патрона. Свежий след встретился почти сразу. Заячий след ни с чем не спутаешь: цепочка глубоких лунок – два следа на одном уровне, два немного врозь. Пока шел снег, зайчишка под шумок глодал кору яблоней в колхозном саду. Потом убежал в поле и долго петлял, запутывая следы. Сделал скидку, другую и залег на опушке леса. Проснулся он от едва слышного поскрипывания полозьев – рядом шел человек.
Когда в двух шагах от Веньки над кустом беззвучно взлетел здоровенный заяц, мальчик вздрогнул от неожиданности и едва не выстрелил «в лет». Заяц упал в снег и стремглав бросился наутек. Вслед ему прогремел выстрел. Зверек пронзительно закричал, но еще стремительнее запрыгал дальше.
Ушел! Когда дым от выстрела рассеялся, мальчик открыл винтовочный затвор берданки, вынул стреляную гильзу, от которой остро пахло пороховой гарью, и вставил новый патрон. Пройдя еще немного, он заметил обильные капли крови, остающиеся на следах.
– Подранок потеряет много крови и далеко не уйдет. Догоню его еще затемно, – решил мальчик и ходко побежал по хорошо видному следу. Однако, то ли рана оказалась не такой серьезной, как он предполагал, то ли заяц оказался двужильным – Венька все бежал и бежал, а заяц отбегал и снова ложился, но на выстрел не подпустил ни разу. Так кружили они, уходя все дальше и дальше от хутора, пока не начало темнеть. Когда на сером насте снега следы совсем исчезли, Венька начал подумывать о ночлеге.
Ночь обещала быть ясной и морозной – в темной вышине холодно мерцали звезды, и полная луна, поднявшаяся высоко над лесом, была окружена серебряным нимбом. Где-то неподалеку было село. Идя по следу, Венька заметил за пригорком какие-то строения. Скоро показались слабые желтые огоньки в окнах домов, и, пройдя еще немного, он вышел на задний двор крайней избы. Залаяли собаки, одна, другая – отчаянно, зло, но подходить близко боялись – прижимались поближе к сеням.
Наконец скрипнула дверь, и на порог вышел хозяин – бородатый мужик с керосиновой лампой в руке.
– Кто там? – спросил он настороженно и поднял лампу над головой.
– Дяденька, пустите переночевать, охотник я, заплутал малость, – жалобно попросил Венька.
– Цыц, вы,– прикрикнул мужик на собак.
– Да подойди поближе, один ты, что ль? – обратился он к Веньке.
– Один.
В избе был полумрак. Хозяин прикрутил фитиль, и желтый огонек едва пробивался сквозь закопчённое треснувшее стекло лампы. Венька обтер лыжи в сенях, поставил ружье к стене, скинул братнин кожух и шапку и смиренно присел на краю лавки, поближе к огню. От русской печи, занимавшей верные полкомнаты, шел блаженный жар.
– Иззябся, небось, – сказала хозяйка, – есть будешь?
Венька сел к столу и, стараясь не показывать, что голоден, принялся очищать вареную картошку в мундире. Клубни были теплые, только что из чугуна. Посыпанные солью они были несказанно вкусны и буквально таяли во рту.
– Ты чей? – спросил хозяин.
– Кумохин я, с хутора.
– А-а!
Мальчик поблагодарил хозяев, взобрался на указанные хозяйкой полати и мгновенно уснул. Проснулся Венька затемно. Все еще спали. Был слышен только храп хозяев и тихое мычание коровы в сенях. Мальчик тихонько спустился с полатей. В сенях надел кожух, взял ружье и лыжи и вышел во двор.
Утро было ясное. Пока Венька прикручивал веревкой лыжи к валенкам, начало светать. Впереди была еще погоня за подранком и долгое возвращение домой. Но в своей победе Венька ни на мгновение не сомневался.
Мой будущий отец проходил срочную службу в пограничных войсках на Дальнем Востоке. Помню, тогда в Криничном, он рассказывал о красотах Уссурийской тайги, которую он, как охотник, мог оценить лучше, чем кто-либо другой. Отслужив положенный срок, он возвращался домой. В пути их эшелон задержали и объявили, что началась война. Перед строем выступил пограничный начальник и предложил желающим пройти ускоренные курсы по подготовке офицеров.
Отец был в числе согласившихся. Учебу он проходил в Алма-Атинском погранучилище. Через полгода ему присвоили звание младшего лейтенанта и назначили командовать взводом снайперов на Калининском фронте.
После войны отец узнал, что из его сослуживцев, попавших на фронт летом 41-го года, в живых не осталось никого. Но и живым приходилось не сладко. Помню, когда мы ходили с ним в баню в Мукачево, я как-то обратил внимание на его расчесанные в кровь ноги выше ступней.
– Это моя памятка о фронте, – пояснил отец, – мы всю зиму просидели на передовой в окопе по колено в воде. Местность там была болотистая, и вода просачивалась даже в самый сильный мороз.
Вообще, он не любил рассказывать о войне. Пограничники были на передовой только во время нашего отступления и обороны. Когда Армия перешла в наступление, погранвойска пошли в арьергарде, очищая тыл от предателей и бандитов. Особенно жестокими, по его словам, были украинские националисты – бандеровцы.
После окончания войны и в период оккупации нашими войсками части Германии, отец некоторое время был комендантом небольшого городка. Однажды к нему пришел местный коммерсант и попросил продать ему цистерну спирта, которая стояла поблизости на путях.
– Херр коммерсант, – ответил ему отец, – Вы предлагаете мне деньги, но не представляете, что я могу делать с ними в нашей стране. Поэтому я могу предложить вам этого спирта ровно столько, сколько вы сами сейчас можете выпить.
Помню, как однажды под настроение он спел мне песенку из того времени:
Комм, паненка шляфен,
Морген будет брод.
Нечего бояться –
Сделаем аборт.
Мои будущие родители познакомились в голодном 1947 году в западно-украинском городке Каменец-Подольский, куда война забросила театр, в котором работала мама, и где отец, боевой офицер, проходил курсы переподготовки пограничников.
За две недели до выпуска офицеров начали обучать танцам.
Партнершей отца оказалось хрупкая от постоянного недоедания, неунывающая танцовщица, которая содержала на свою зарплату родителей и больного сына.
Через десять дней после знакомства отец сделал моей будущей маме предложение.
Он уже знал о назначении начальником заставы на сухопутной советско-турецкой границе.
– Никаких богатств я тебе не обещаю, но еды будет вдоволь, – сказал отец, который всегда говорил только правду.
Не стал он и скрывать, что на родине, в Павлово-на-Оке у него осталась неразведенная жена, жить с которой он не собирался, и, как потом выяснилось, с маленькой дочерью. Он расписался с ней сгоряча, после короткой побывки домой, в хмелю застолий не разглядев, какой стала после многих лет разлуки девушка, которая когда-то, еще задолго до войны, ему нравилась.
Застава отца находилась в Марадиди, и я, разумеется, ее совершенно не помню.
Российские пограничники размещались в этом районе вплоть до 2008 года. По некоторым сведениям, Саакашвили уступил часть спорной территории близ села Кирнати, которое зарегистрировано как место моего рождения, Турции.
Отец рассказывал, что в горах неподалеку от заставы водилось множество диких кабанов, мясо которых приятно разнообразило небогатый рацион пограничников.
Встречались также и медведи. Во всяком случае, я помню себя играющим на шкуре добытого отцом косолапого.
Зимой выпавший снег укрывал заставу многометровым слоем, так что для того, чтобы попасть из казармы в столовую, солдаты копали тоннели.
Насчет питания отец оказался прав. Ягоды в горах произрастали в изобилии, и скоро в крепкой горбоносой молодице, собирающей на склоне дикий виноград или спускающейся на лошади в расположенный совсем неподалеку Батуми, было не узнать прежнюю изможденную танцовщицу.
Рождение сына мои родители встретили с радостью. Мама – потому что боялась, что и второй ее сын окажется безнадежно больным, а отец от души был горд своим первенцем. Встречая из роддома любимую жену, он подарил ей … петуха, а затем поднял меня голенького над головой, и я щедро окропил его рыжие «буденовские» усы и белый парадный китель.
Этот случай отец будет помнить до конца своих дней. И в последние мгновения жизни, когда у него уже началось недержание, он еще пробовал шутить, и, думая, что перед ним я, а не внук, сын моей сестры Сергей, произнес понятную только нам двоим фразу:
– Вот сейчас мы с тобой квиты.
Как-то раз в Марадиди в отсутствие отца маме позвонили из комендатуры.
– Вы только не волнуйтесь, – сказали ей, – но Вашего мужа задавила машина. Кажется, насмерть.
На самом деле отец отделался сравнительно легко: переломом ключицы и неделей в госпитале
А дело было так. Врач, а, может быть, даже главврач больницы в Тбилиси, грузинка, только что купила себе легковую машину и поехала прокатиться по городу. На пути у нее оказался отец, с которым они были даже шапочно знакомы. Потом отец рассказывал:
– Я влево, и она влево, я вправо, и она вправо.
Машина сбила его и протащила за собой еще метров десять. Впрочем, для всех эта история закончилась благополучно. Особенно для меня. В два года я заболел дизентерией, лежал в больнице и был уже совсем плох. Отец, который сдавал для меня кровь, говорил, что я уже не мог громко говорить и только шептал.
Меня спасла та же врач, которая недавно чуть не угробила отца. Она достала пенициллин, первый антибиотик, который был тогда большой редкостью.
Совсем маленьким я настолько привык видеть вокруг только военных, что, по словам мамы, говорил, глядя на человека в форме:
– Это дядя.
А на человека в штатском:
– Это не дядя.
Как и все дети, я временами вел себя неважно. Однажды я совсем вывел маму из себя и в ответ она замахнулась на меня.
– Ну вот. Родила меня, воспитала меня, а теперь бьёшь! – выдал ей кроха.
Больше меня не трогали.
Отец начал брать меня с собой на охоту, наверное, лет с трех.
Тогда он был начальником пограничной заставы в Шекветили. У нас была собака Альма, породы сеттер-гордон. Так что мы ходили на утиную и перепелиную охоту втроем. Охота начиналась в холодное время года, когда перелетные птицы прилетали на зимовку сюда – в зону субтропиков. Снег я видел только далеко в горах, а здесь зима состояла в том, что море штормило, и шли проливные дожди.
Где-то у сестры осталась фотография, на которой я прогуливаюсь по заставе между пальмами. Я помню, как мы бродили по песчаному берегу моря. Чуть дальше была старица – узкая полоска пресной воды, на которую предпочитали садиться утки.
Рядом с заставой находился поселок староверов-молокан. Среди семейных преданий сохранился такой эпизод: после неудачной охоты отец зашел к своему другу завмагу, и тот посетовал, что вынужден списать целый ящик шампанского. Дело в том, что староверы пили только чачу, виноградную самогонку, и шампанское совсем не пользовалось у них спросом. Друзья решили, что добру не стоит пропадать, лучше его выпить. Заодно дали попробовать мне и собаке Альме. Мама рассказывала, что, придя домой, мы блевали все втроем.
Отец, как начальник заставы, отвечал не только за участок черноморского побережья, но и за работу рыбацкой артели староверов. Поэтому рыбы у нас было предостаточно. Мама вспоминала, как будучи беременной моей будущей сестрой, она зашла в коптильню, где висели на крюках туши белуг. Она едва не упала в обморок, увидев фосфоресцирующие хребты огромных рыбин.
Другой случай я уже хорошо помню. К тому времени мама родила дочку, мою сестру, младше меня на три с половиной года. С этой поры я был в основном предоставлен самому себе. После этого со мной начали случаться всякие неприятности. То меня собака кусала прямо за лицо, то корова комолая бодала в щеку. До сих пор помню, как было больно и обидно. Я плакал и грозился пристрелить ее из ракетницы.
Однажды отец уехал на машине в комендатуру в Кобулети, а я решил пойти его встречать. На моем пути оказалась горная речка Натанеби, с канатным подвесным мостом шириной в две доски и поручнями на уровне груди взрослого человека. Когда мост стал раскачиваться, я продолжил свой путь на четвереньках. На той стороне реки меня ждал замирающий от страха отец, который, чтобы не испугать меня, не сказал ни слова до тех пор, пока я не дополз до конца моста.
Отец рассказывал, что его избирали депутатом районного совета. Где это было, он не уточнял. Однако эта работа ему не понравилась. На мой вопрос, почему? Он ответил коротко:
– Приходилось слишком со многими выпивать.
Насколько я помню по детским воспоминаниям, у родителей были прекрасные отношения с местными, будь то грузины, абхазцы или аджарцы. Маму, так вообще, из-за ее внешности они все принимали за свою.
Когда мы жили в Шекветили, на шкафу у нас часто стоял тазик с мандаринами.
О быте местных мужчин отец рассказывал так. В саду работает только женщина. Когда созревают мандарины, мужчина нанимает самолет, грузит цитрусовые и летит в Москву. Возвращается с чемоданом денег и опять целый год не работает.
Напомню, за окном только начинались пятидесятые.
Официально считалось, что у отца семилетнее образование, но на самом деле не было и его, поэтому надежд на получение звания майора и должности выше начальника заставы практически не было.
Отцу все не служилось на одном месте, и мы поменяли еще два места его службы, прежде чем обстоятельства позволили ему демобилизоваться.
Я не знаю, по какой причине отец решил уехать из Шекветили. Казалось бы, все там было хорошо: и быт налажен, и служба в порядке. Когда уезжали с заставы, все плакали. Особенно тяжело отцу было расставаться с любимой собакой. Альма была ему настоящим другом. Свою последнюю в жизни собаку он также назовет Альмой.
После заставы в Шекветили была служба в Чарнали. Здесь он уже не был начальником заставы, а, кажется, командиром роты. В этом месте отец прослужил очень недолго. Погиб его солдат. Пошел в самоволку и пропал, как оказалось – утонул. На фотографиях в интернете в Чарнали показаны одни горы, а мне почему-то запомнилась равнинная местность. Мы с ребятами уходили довольно далеко за родниковой водой и не один раз купались в крохотной речушке, в которой даже в самом глубоком месте было «воробью по колено». Как мог умудриться утонуть здесь взрослый здоровый человек, совершенно не понятно. Но факт оставался фактом.
В армии за все должен отвечать командир. Какое наказание понес отец, я не знаю, но только он скоро был переведен в морские пограничники, и мы переехали в Очамчиру.
Это было последнее место службы отца. Этот городок запомнился мне тем, что сначала мы жили на так называемом «карельском перешейке» – узкой песчаной косе, в утлом фанерном домике, который во время шторма продувался насквозь.
Не помню, сколько времени мы там провели, но знаю, что за это время я успел дважды проболеть воспалением легких, и с тех пор у меня на левом легком «затемнение». Затем мы получили жилье в двух или трехэтажном доме, который стоял на самом краю обрыва. С каждым штормом обрыв приближался к нам на несколько метров. Чем все это закончится, я узнать не успел.
Отец уехал куда-то довольно надолго, а затем вернулся как-то ночью в непривычном штатском костюме.
Он протянул мне мокрый, грязный и очень холодный комок и сказал:
– Геночка, это снег.
Позже он говорил, что воспользовался приказом о сокращении в армии и вовремя подал рапорт об увольнении.
Так закончилась наша жизнь в Грузии.
В тридцать шесть лет отец вышел в отставку и получил пенсию, совсем не плохую по тем временам, из-за того, что его воинский стаж приходился на годы войны и службы на границе. Одна незадача: ему не позволялось получать на работе больше определенного, кстати, совсем не высокого предела.
Поскольку на родину отца ехать было нельзя, решено было отправиться к родителям мамы, которые вслед за старшей своей дочерью перебрались жить в Закарпатье.
Несмотря на то, что отцу, как демобилизованному офицеру, полагались преимущества в получении жилья, нам пришлось еще довольно долго мыкаться по частному сектору, прежде чем мы получили в Мукачево довольно приличную квартиру в одноэтажном доме по улице Севастопольской.
Отцу приспособиться к жизни на «гражданке» оказалось очень непросто. Вернее, дело было даже не в самой гражданской работе, а в той специфической атмосфере погони за прибылью, которую отец считал наследием капиталистического прошлого. Ведь советской власти было в этих местах меньше десятка лет.
Он последовательно работал ревизором, водителем автобуса, водителем грузового такси, и, наконец, водителем такси легкового. Но везде, он так или иначе имел дело с дополнительным, «левым» заработком, а от него отца мутило, и угрызения совести не давали спокойно спать.
Ему казалось, что это только на Западной Украине такие порядки, а в России, и даже на востоке Украины люди живут по-другому, и поэтому он постоянно хотел из Закарпатья уехать.
Была и другая, этническая часть этой проблемы. Отец, возможно, острее других чувствовал плохо скрываемую, а зачастую, и демонстративно подчеркнутую, неприязнь не только к русским, «москалям», но даже и к украинцам «восточникам», то есть, приехавшим с востока Украины. Он всю войну прошел в погранвойсках, поэтому не понаслышке знал, кто такие бандеровцы, которые действовали, можно сказать, совсем рядом с Закарпатьем.
Этот рассказ об отце я написал совсем недавно, и мне кажется, что так его мысли и чувства, которые до сих пор живут во мне, можно передать более выпукло и точно.
Отец, Жаботинский и Смуженица
Если кабинет заместителя директора городского автобусного парка Ицхака Абрамовича Жаботинского часто и раньше бывал задымлен по причине пристрастия его многолетнего хозяина к крепкому табаку, то сейчас он просто утопал в сизом дыму.
Ицхак Абрамович, по совместительству также парторг автопарка, напряженно думал. У него на столе лежало личное дело члена партии с 1942 года, капитана в отставке Кумохина Вениамина Федоровича, моего отца. В графе образование значилось – 7 классов, а в графе специальность и вовсе стоял прочерк. Отец сидел на стуле как раз напротив своего будущего начальника, но видел того как бы сквозь густой туман.
Вениамин Федорович и сам никогда не отличался богатырской статью, но против Ицхака Абрамовича он выглядел просто молодцом.
Жаботинский к тому времени, пожалуй, разменял полтинник. Он был худ и сутул, а беспрестанное покашливание явно свидетельствовало о серьезной проблеме со здоровьем.
Однако энергии у заместителя директора явно было хоть отбавляй. Затушив одну папиросу, он давил ее в массивной фарфоровой пепельнице, стоящей у него на столе, тут же доставал из пачки другую и яростно ее раскуривал.
Наконец, он, кажется, принял решение.
– Вениамин Федорович, – обратился он к отцу неожиданно густым и громким голосом, – Вы надолго к нам?