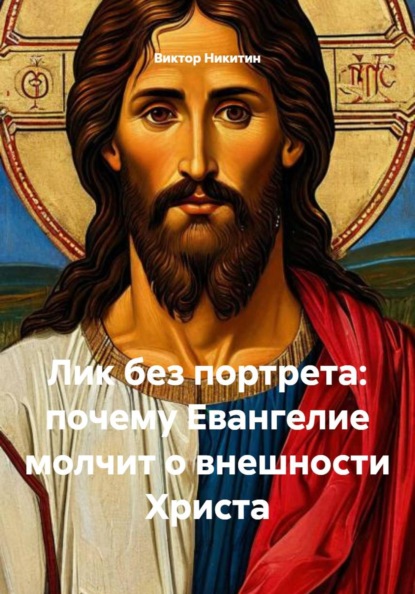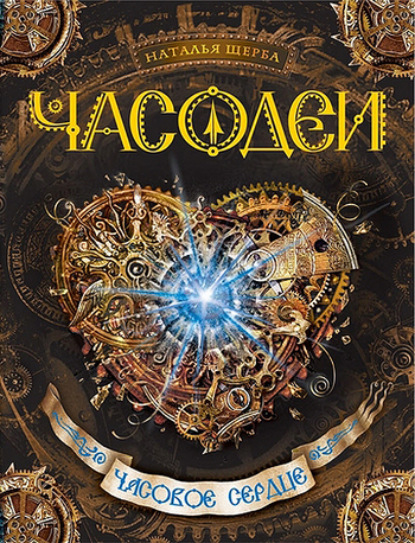Колыбельная для мертвых

- -
- 100%
- +

Тишина на улице Вязовой
Морось, мелкая, как просеянная мука, начала сыпаться с белесого неба еще на выезде из центра. Она не стучала по лобовому стеклу, а словно прилипала к нему, медленно собираясь в мутные, дрожащие капли, которые «дворники» с натужным скрипом размазывали, лишь ухудшая видимость. Анна вела старенькую «Ладу», вцепившись в холодный пластик руля, и смотрела на дорогу с тем напряженным вниманием, которое давно стало ее профессиональной привычкой. Оно позволяло не думать. О сигаретном дыме, въевшемся в обивку сидений. О ноющей боли в пояснице. О папке с делом Суриковых, лежащей на пассажирском сиденье.
Тихогорье расползалось по сторонам серыми, унылыми кварталами. Пятиэтажки, похожие на обмылки хозяйственного мыла, сменялись частным сектором – вросшими в землю деревянными домами с темными, слепыми окнами. Туман, вечный спутник этого города, поднимался от болот, окутывал сосновый бор на горизонте и полз по улицам, цепляясь за голые ветки тополей мокрыми, бесплотными лапами. Он не был просто погодным явлением. Он был состоянием, в котором Тихогорье пребывало всегда: состоянием полусна, полузабытья. Он глушил звуки, скрадывал расстояния и делал реальность зыбкой, ненадежной.
Вязовая улица, дом семь. Типовая панельная пятиэтажка, одна из сотен. Анна припарковала машину у разбитого бордюра, заглушила двигатель. Мотор чихнул и затих, и в образовавшейся пустоте сразу же стал слышен шепот мороси по крыше. Несколько секунд она сидела неподвижно, глядя на облупившийся фасад дома. Третий подъезд, четвертый этаж, квартира сорок два. Ольга Сурикова и ее сын Саша, шесть лет. Не выходят на связь четвертый день.
Сначала это не вызывало тревоги. Ольга была женщиной замкнутой, с тяжелой судьбой и вечной тенью усталости в глазах. Могла уехать к какой-нибудь дальней родственнице в деревню, не предупредив. Так бывало. Но не в этот раз. Вчера должен был прийти платеж по кредиту, который Анна помогла ей реструктуризировать. Платеж не прошел. А Саша не появился в детском саду ни в понедельник, ни во вторник. Воспитательница позвонила Анне сегодня утром. Голос у нее был встревоженный.
Анна вздохнула, собирая в кулак остатки душевных сил. Это была просто работа. Просто очередной выезд. Она взяла папку, сунула ее в большую бесформенную сумку и вышла из машины. Влажный холод тут же пробрался под куртку. Воздух пах прелой листвой, сырой землей и чем-то еще – едва уловимым, горьковатым запахом торфяных болот.
Подъезд встретил ее стандартным набором запахов: кошачья моча, дешевые сигареты, подгоревшая каша. Тусклая лампочка под потолком отбрасывала дрожащие, больничные тени на стены, испещренные нецензурными надписями и царапинами. Лестничные пролеты уходили вверх, в полумрак. Анна начала подъем, и каждый ее шаг отдавался гулким эхом в бетонной коробке. На втором этаже за одной из дверей заливисто лаяла собака. На третьем кто-то громко смотрел телевизор – бубнил диктор программы новостей. На четвертом царила тишина.
Она остановилась перед нужной дверью. Обивка из коричневого дерматина, местами порванная, с торчащими клочками грязной ваты. Стандартный латунный номер «42». Анна нажала на кнопку звонка. Пластик был холодным и чуть липким. Внутри квартиры не раздалось ни звука. Ни трели звонка, ни шагов. Она нажала еще раз, дольше, прислушиваясь. Ничего. Только где-то внизу хлопнула входная дверь подъезда, и лай собаки на втором этаже стал яростнее.
– Ольга? – позвала Анна, прислонившись ухом к холодному дерматину. – Ольга, это Ковалева. Анна. Откройте, пожалуйста.
Ответом ей была все та же плотная, непроницаемая тишина. Не та тишина, когда в доме просто никого нет. Другая. Словно сам воздух внутри застыл, стал тяжелым и вязким, неспособным передавать звук. Это было иррациональное ощущение, профессиональная интуиция, отточенная годами хождения по таким вот домам, где за закрытыми дверями пряталось отчаяние.
Она постучала. Сначала осторожно, костяшками пальцев, потом громче, настойчивее, ладонью. Звук получался глухим, ватным, словно дверь была набита не утеплителем, а спрессованным молчанием.
– Саша? – попробовала она, хотя знала, что шестилетний мальчик вряд ли откроет незнакомому человеку. – Сашенька, это тетя Аня.
Никакого ответа. Сердце, до этого стучавшее ровно и размеренно, сделало неуклюжий толчок. Тревога перестала быть просто фоновым шумом, она обрела голос – тонкий, назойливый писк в голове. Анна обошла площадку. Попыталась заглянуть в глазок, но он был темен. Под дверью не пробивалась полоска света. Она потрогала ручку. Заперто.
В этот момент соседняя дверь, сорок третья, со скрипом приоткрылась на толщину цепочки. В щели показался мутный, выцветший глаз и седая прядь волос.
– Чего шумите? – раздался старческий, дребезжащий голос.
Анна обернулась.
– Здравствуйте. Я из социальной службы. Ищу Суриковых, из сорок второй. Вы их не видели?
Дверь приоткрылась еще на пару сантиметров. Теперь в проеме виднелась половина морщинистого лица. Женщина, баба Маша, как ее звали во дворе, местная достопримечательность и ходячая летопись всех подъездных событий.
– А чего их видеть, – прошамкала она, – нету их. Третий день уж как тихо. И свет по вечерам не горит.
– Они могли уехать? Не говорили вам ничего?
Старуха фыркнула, и цепочка звякнула.
– Куда это ей ехать? Окромя меня, она тут и словом ни с кем не перекидывалась. Сидела в своей норе, как мышь. И мальчонка ее тихий такой был, не бегал, не кричал. Грех сказать, а хорошо, когда тихо.
Она говорила это, но водянистый глаз ее беспокойно бегал от Анны к двери Суриковых и обратно. В ее словах сквозило не удовлетворение, а застарелый, глубоко укоренившийся страх.
– А что-то странное вы не замечали? Какие-нибудь звуки? Голоса?
Баба Маша на мгновение замерла. Ее губы поджались, превратившись в тонкую ниточку. Она оглянулась вглубь своей темной квартиры, словно боясь, что кто-то подслушивает.
– Ночью… – начала она шепотом, наклонившись к щели так, что Анна почувствовала кислый запах лекарств и несвежего белья. – Позапрошлой ночью. Скреблось у меня вот тут, – она коснулась сухим пальцем груди, – не спалось. И слышу я… пели у них.
– Пели? – удивилась Анна. – Ольга пела?
– Да не она, – старуха нетерпеливо дернула головой. – Голос не ее. Тонкий такой… как… – она пожевала губами, подбирая сравнение, – …как ниточка. И одно и то же, одно и то же. Без конца.
– Что пели? Колыбельную?
– Колыбельная, ага, – подтвердила баба Маша, и ее глаз расширился от воспоминания. – Только нескладная какая-то. Монотонная. Словно пластинку заело. Я еще подумала, может, радио у них там шипит. Всю ночь, до самого утра. Баю-бай, баю-бай… и все. Ни слова больше. А потом – тихо. И с тех пор – ни звука. Будто вымерли все.
Она говорила, и по рукам Анны побежали мелкие, колючие мурашки, не связанные с холодом в подъезде. Образ тихой, забитой Ольги Суриковой, включающей на всю ночь странную, заевшую колыбельную, никак не вязался с реальностью.
– Спасибо, – сказала Анна, стараясь, чтобы ее голос звучал ровно. – Спасибо вам большое.
Старуха ничего не ответила, только еще раз зыркнула на соседскую дверь, и ее собственная захлопнулась. Лязгнула цепочка, щелкнул замок. Анна снова осталась одна на лестничной площадке, лицом к лицу с молчаливой дверью. И тишина за ней теперь казалась еще более глубокой, наполненной отголоском той самой монотонной песни.
Она достала телефон. Нужно было вызывать участкового. И слесаря из ЖЭКа. Процедура была стандартной, но внутри все сжималось от дурного предчувствия. Это было больше, чем просто беспокойство. Это был тот самый холодный узел в животе, который она так хорошо знала, который всегда затягивался перед тем, как за очередной дверью ее ждала беда.
Участковый, капитан Поливанов, появился через сорок минут. Высокий, грузный мужчина с лицом, которое выражало вселенскую усталость от человеческой глупости. Он лениво выслушал Анну, мельком заглянул в ее удостоверение, постучал в дверь для проформы и крякнул.
– Ну, поехали к матери, наверное, в деревню, – вынес он вердикт, почесывая небритый подбородок. – Вечно вы, социальщики, панику наводите.
– У нее нет матери, – ровным голосом ответила Анна. – И других родственников в области тоже нет. Телефон отключен. Ребенок не ходит в сад. Это не паника, это протокол.
Поливанов вздохнул так, словно она попросила его в одиночку сдвинуть гору.
– Ладно, Ковалева. Звони слесарю. Составим акт. Только если они там спят в обнимку с бутылкой, оплачивать ложный вызов будешь из своего кармана.
Слесарь, низенький мужичок с запахом перегара и машинного масла, пришел еще через полчаса. Он повозился с замком, бормоча ругательства, и через пять минут верхний замок щелкнул.
– Этот готов, – доложил он. – А нижний…
Он остановился, подергал ручку.
– Что с нижним? – спросил Поливанов.
– Щеколда, – сказал слесарь, выпрямляясь. – Изнутри закрыто. На вертушок.
Анна и участковый переглянулись. В воздухе повисла пауза. Даже на лице Поливанова промелькнуло что-то похожее на удивление.
– То есть? – переспросил он.
– То и есть, – огрызнулся слесарь. – Дверь заперта изнутри. Мне ее ломать, что ли?
Поливанов нахмурился, его апатия начала давать трещину. Он снова сам надавил на дверь. Та не поддалась. Он посмотрел на Анну, потом на слесаря.
– Ломай, – наконец распорядился он.
Слесарь достал монтировку. Несколько резких, громких ударов, треск дерева – и дверь со стоном распахнулась внутрь, открывая вид на темный коридор.
Первое, что ударило в нос – не запах. А его отсутствие. Не было ни запаха жилья, ни запаха еды, ни пыли. Был только слабый, почти неощутимый аромат хлорки и морозной свежести, словно окно было открыто часами, а потом все тщательно вымыли.
Поливанов вошел первым, щелкнув выключателем. Вспыхнула лампочка. Коридор был пуст. На вешалке висела одинокая детская курточка. Внизу, на коврике, аккуратно, носок к носку, стояли две пары обуви: женские стоптанные ботинки и крошечные детские сандалики. Словно их специально выставили для осмотра.
Анна шагнула следом, чувствуя, как холодный воздух квартиры обволакивает ее. Она прошла в комнату. И замерла.
Идеальный порядок. Такой, какого не бывает в квартирах, где живет маленький ребенок. Диван был тщательно заправлен, покрывало разглажено без единой складки. На журнальном столике не было ничего, кроме пульта от телевизора, лежавшего строго параллельно краю. Ни чашки, ни журнала, ни случайной игрушки. Пол был вымыт до блеска.
– Ольга! Александр! – крикнул Поливанов, и его голос прозвучал неестественно громко в этой звенящей пустоте.
Они прошли на кухню. И здесь царила та же стерильная чистота. Раковина сияла. В сушилке, ровными рядами, стояли тарелки и чашки. На столе – ваза с тремя увядшими гвоздиками. Единственное, что нарушало эту безупречную картину – еда. Две тарелки с остывшей гречневой кашей и котлетами. Две вилки лежали рядом, нетронутые. Два стакана с компотом. Ужин, который приготовили, поставили на стол, но так и не начали.
– Похоже, собрались поесть, да кто-то в гости пришел, – пробормотал Поливанов, но в его голосе уже не было прежней уверенности. Он открыл холодильник. Пусто. Не в смысле «нет еды», а в смысле «вымыт и пуст». На полках не было ничего, кроме одинокой пачки масла и начатого пакета кефира.
Анна молчала. Она ходила по квартире, и иррациональное чувство тревоги нарастало с каждым шагом. Это было неправильно. Все было неправильно. Эта чистота была нездоровой, выставочной. Словно квартиру готовили не к жизни, а к чему-то другому. К приходу кого-то, кто очень не любит беспорядок.
Она заглянула в детскую. Маленькая комната, одно окно выходит во двор. Кровать заправлена с такой же маниакальной аккуратностью, одеяло подоткнуто под матрас. На письменном столе стопкой сложены раскраски, рядом – стаканчик с идеально заточенными карандашами. Все игрушки убраны в большой плетеный ящик. Все, кроме одной.
На подушке, в самом центре, сидел маленький деревянный конь. Потертый, с облезшей краской на гриве, без одного уха. Саша с ним не расставался. Он спал с ним, ел с ним, ходил в детский сад. Анна помнила, как Ольга жаловалась, что не может его даже постирать – мальчик тут же начинал плакать. И вот этот конь сидел на подушке, оставленный, одинокий.
Анна протянула руку и коснулась его. Дерево было ледяным, как будто пролежало всю ночь на морозе. Она подняла игрушку. Под ней на белоснежной наволочке не было ни вмятины.
Она вышла из детской, держа коня в руке. Поливанов заканчивал осмотр ванной. Там тоже был идеальный порядок. Зубные щетки в стаканчике, полотенца аккуратно висят на крючках.
– Ничего, – сказал он, выходя. – Ни записки, ни следов борьбы. Окна закрыты. Дверь, сама видела, на щеколде была.
– Они не могли уйти, – тихо сказала Анна. – Не могли просто так уйти и запереть дверь изнутри.
– Может, мужик у нее новый появился? – предположил участковый, возвращаясь к самой простой версии. – Пришел, они поужинали… то есть, не поужинали… В общем, собрались и уехали. А дверь он захлопнул, когда уходил, а вертушок сам повернулся от хлопка. Бывает такое.
Это было настолько нелепое предположение, что Анна даже не стала спорить. Она подошла к окну в большой комнате. Стекло было холодным, покрытым изнутри тонкой пленкой влаги. Внизу, во дворе, серая морось превратила детскую площадку в унылое нагромождение мокрого металла и пластика. Город тонул в тумане.
И тишина в квартире давила на уши. Теперь Анна поняла, что в ней было не так. Это была не просто тишина. Это было безмолвие. Полное, абсолютное. Не было слышно гудения холодильника. Она вернулась на кухню – он был выключен из розетки. Она посмотрела на настенные часы – стрелки замерли на одиннадцати часах и семи минутах. Батарейка села? Возможно. Но все вместе – выключенный холодильник, остановившиеся часы, стерильная чистота и нетронутый ужин – складывалось в картину замершего времени, оборвавшейся на полуслове жизни.
– Ладно, – сказал Поливанов, доставая папку для протокола. – Записываем: на момент вскрытия в квартире отсутствуют хозяйка Сурикова Ольга Ивановна и ее несовершеннолетний сын Суриков Александр Дмитриевич. Признаков взлома нет, признаки проникновения третьих лиц отсутствуют. Вещи на месте. Объявим в розыск.
Он говорил казенными, правильными фразами, которые никак не описывали происходящее. Они описывали стандартную ситуацию, а эта ситуация была какой угодно, но не стандартной.
– Колыбельная, – вдруг сказала Анна.
Поливанов поднял на нее глаза.
– Что?
– Соседка. Она слышала колыбельную. Позапрошлой ночью. Всю ночь. Монотонную, как заевшая пластинка.
Участковый хмыкнул, возвращаясь к своим бумагам.
– Баба Маша, что ли? Ей что только не мерещится. У нее телевизор с восьмидесятых годов прошлого века, он ей и не такие колыбельные споет. Ты это в протокол предлагаешь записать?
Анна промолчала. Она снова посмотрела на деревянного коня в своей руке. Он казался средоточием всего холода и всей неправильности этого места.
Когда протокол был составлен, и слесарь, вставив новый замок, отдал ключи участковому, тот повернулся к Анне.
– Все, Ковалева. Дальше наша работа. Квартиру опечатаем. Можешь быть свободна.
Он говорил так, будто закрывал скучное и незначительное дело. Для него это была лишь бумажная волокита. Для Анны – зияющая дыра в реальности, в которую провалились мать и ребенок.
Они вышли на площадку. Поливанов наклеил на свежую щепу дверного косяка бумажную полоску с печатью. Лязгнул новый замок. Теперь квартира была официально пуста и недоступна. Но Анна знала – она и до этого была пуста. Пуста так, как бывают пусты давно заброшенные дома, где еще витает эхо тех, кто в них жил.
Уже спускаясь по лестнице, она услышала, как за дверью бабы Маши снова залаяла собака – коротко, тревожно.
На улице уже сгущались ранние зимние сумерки. Туман стал плотнее, он пожирал остатки света. Фонари еще не зажглись. Анна дошла до своей машины, села, но не спешила заводить мотор. Она сидела в холодной кабине и смотрела на темные окна четвертого этажа. В руке она все еще сжимала деревянного коня.
Она не знала, почему забрала его. Это было нарушением всех инструкций. Вещественное доказательство. Но она не могла его там оставить. Не могла оставить в этой холодной, стерильной тишине.
Она положила игрушку на пассажирское сиденье. В тусклом свете, пробивающемся сквозь туман, ей показалось, что пустая глазница коня смотрит на нее с немым укором.
Мысли путались. Дверь, запертая изнутри. Идеальный порядок. Нетронутый ужин. И колыбельная. Тихая, монотонная песня, которую слышала только старая, напуганная женщина. «Баю-бай, баю-бай…». Эти слова беззвучно пронеслись в ее голове, и по спине снова пробежал холод. Это был первый камень, заложенный в стену ужаса, еще невидимую, но уже ощутимую. Стена, которая отделила этот вечер от всей ее предыдущей жизни.
Анна повернула ключ в замке зажигания. Двигатель с трудом, но завелся. Она включила фары. Два желтых конуса выхватили из тумана мокрый асфальт, облетевший тополь, качели на детской площадке. Они качались. Медленно, ритмично, со скрипом, который тонул во влажном воздухе. Будто кто-то только что спрыгнул с них. Но во дворе не было ни души.
Она резко вывернула руль и выехала со двора. В зеркале заднего вида темный силуэт пятиэтажки быстро растворился в серой мгле. Но Анна чувствовала на себе взгляд ее пустых окон. И тишину, которая поселилась не только в квартире номер сорок два, но теперь и в ней самой. Тишину, в которой вот-вот могла зазвучать тонкая, как ниточка, мелодия.
Холодные простыни
Воздух в салоне «Лады» был спертым и холодным, пах сырой обивкой и бензином. Анна сидела, не двигаясь, пальцы все еще сжимали рифленый пластик руля, хотя двигатель давно молчал. Она смотрела в зеркало заднего вида, но пятиэтажка на Вязовой уже растворилась в молочной взвеси тумана, оставив после себя лишь смутное темное пятно, похожее на синяк на бледной коже неба. Взгляд ее машины, два желтых конуса света, упирался в безликую стену соседнего дома, выхватывая из мглы мокрый кирпич и черные, равнодушные прямоугольники окон.
Она чувствовала себя полой. Не опустошенной, как после долгого, изнурительного дня, а именно полой – словно из нее вынули что-то важное, оставив лишь тонкую оболочку, которая еще по инерции держала форму. Тишина из квартиры Суриковых, казалось, просочилась в нее, заполнила эту пустоту своим вязким, плотным безмолвием. Она привезла ее с собой. И еще она привезла с собой маленького деревянного коня. Он лежал на пассажирском сиденье, опрокинутый на бок, и его единственный уцелевший глаз-бусинка тускло поблескивал в полумраке. Артефакт из мира, где остановилось время.
Домой она ехала на автомате, подчиняясь мышечной памяти рук и ног. Город проплывал мимо расфокусированными пятнами света и тени. Фонари, редкие и тусклые, казались утонувшими в тумане светлячками. Их свет не разгонял мрак, а лишь делал его гуще по краям. Дорога была пуста. Тихогорье засыпало рано, сворачивалось в свой серый кокон апатии, и к девяти вечера жизнь на улицах замирала, уступая место шорохам и вздохам старых домов.
Ее квартира встретила ее той же тишиной, но другого рода. Здесь тишина была знакомой, обжитой. Она пахла пыльными книгами, остывшим кофе и ее одиночеством. Анна не зажигала верхний свет. Прошла в комнату, щелкнув лишь тумблером настольной лампы. Мягкий желтый круг вырвал из темноты угол письменного стола, стопку бумаг, чашку. Она поставила деревянного коня рядом с лампой. В ее тепле потертое дерево, казалось, немного ожило. Тень от игрушки легла на стену – длинная, искаженная, похожая на силуэт какого-то доисторического зверя.
Она долго стояла, глядя на него. На единственное ухо, на облезшую гриву, на пустоту на месте второго глаза. Саша никогда бы его не оставил. Эта мысль была не предположением, не догадкой. Это был гранитный, неоспоримый факт, о который разбивались все логичные версии капитана Поливанова. Ребенок, который плакал, когда мать пыталась постирать его любимую игрушку, не мог просто встать и уйти, оставив ее сидеть на подушке. Это было нарушением законов его маленькой, но очень упорядоченной вселенной. А значит, был нарушен и закон всей вселенной вообще.
Анна разделась, налила себе стакан воды на кухне. Вода была безвкусной, металлической. Она не утоляла жажду, а лишь холодила горло. За окном не было ничего, кроме клубящейся серой массы. Туман прижался к стеклу, заглядывал внутрь. Она чувствовала себя рыбой в мутном аквариуме.
Ночь принесла с собой не покой, а обострение всех чувств. Лежа в кровати, в своей собственной, безопасной квартире, Анна не могла избавиться от ощущения, что она все еще там, на Вязовой, в стерильной пустоте чужого дома. Простыни были холодными, как мраморные плиты. Она куталась в одеяло, но холод шел не снаружи. Он поднимался изнутри, из того узла в солнечном сплетении, что завязался, когда она впервые коснулась дверной ручки сорок второй квартиры.
Она слышала каждый звук. Скрип половицы у соседей сверху. Далекий, едва различимый гул ночного поезда. Капанье воды из крана в ванной, ритмичное, как метроном, отсчитывающий бесконечность. Но сквозь эти привычные звуки просачивалось то самое, вязкое молчание. Оно пряталось в паузах между ударами капель, в тишине за окном. И в этом молчании ей чудилась мелодия. Тонкая, как паутинка, едва уловимая. «Баю-бай…». Она возникала на самой границе слуха, и стоило попытаться сосредоточиться, как она тут же исчезала, оставляя после себя лишь звенящую пустоту и учащенный пульс.
Она не спала. Лежала с открытыми глазами, глядя в темноту потолка, которая казалась то низкой и давящей, то бездонной, как ночное небо без звезд. В голове снова и снова прокручивались детали. Нетронутый ужин на двоих. Выключенный из розетки холодильник. Остановившиеся на одиннадцати часах и семи минутах часы. И конь. Одинокий конь на идеально заправленной постели. Это был не набор случайностей. Это были слова, написанные на незнакомом языке. Языке катастрофы.
Утром позвонили из отдела. Голос в трубке был деловитым и безразличным. Капитан Сомов, следователь, которому Поливанов передал дело, хотел встретиться на месте. Через час.
Когда Анна снова подъехала к дому номер семь по Вязовой улице, у подъезда уже стояла полицейская «буханка» с выцветшей синей полосой на борту. Туман за ночь не рассеялся, а лишь стал плотнее и тяжелее, пропитавшись утренней сыростью. Он висел в воздухе мелкими каплями, оседая на волосах и одежде ледяной росой.
На лестничной площадке было людно и шумно. Бумажная печать на двери сорок второй квартиры была сорвана. В проеме виднелись спины в форме. Пахло мокрой одеждой, табаком и чем-то еще, чужеродным – резким запахом химикатов из экспертного чемоданчика.
Капитан Сомов оказался мужчиной лет сорока пяти, плотным, коротко стриженным, с лицом, которое, казалось, было высечено из куска гранита грубым резцом. На нем не было места для лишних эмоций – только складки усталости у глаз и жесткая линия рта. Он кивнул Анне, не протягивая руки. Его взгляд был тяжелым, оценивающим, как у человека, привыкшего делить мир на факты и домыслы.
– Ковалева? – его голос был низким, чуть хриплым, лишенным интонаций. – Я Сомов. Поливанов ввел в курс. Пройдемте.
Внутри квартиры стерильная чистота казалась нарушенной. Не грязью, а самим присутствием этих людей. Они вносили с собой суету, звуки, запахи живого мира, и все это выглядело здесь неуместным, как громкий смех на похоронах. Молодой парень в гражданском, эксперт-криминалист, методично посыпал черным порошком дверные ручки. Другой полицейский фотографировал. Вспышка на мгновение выжигала все тени, делая комнату плоской и нереальной, как театральная декорация.
– Итак, – начал Сомов, обводя взглядом кухню, где все стояло так же, как и вчера. Две тарелки с гречкой и котлетами, два стакана с компотом. – Что мы имеем. Семья – мать и сын, шесть лет. Вчера вскрыли квартиру по вашему сигналу. Дверь закрыта изнутри на щеколду. Признаков взлома нет. Внутри порядок. Ценные вещи, какие были – старенький телевизор, кое-какая бижутерия в шкатулке, – на месте. Деньги, три тысячи четыреста рублей, в комоде. Все так?