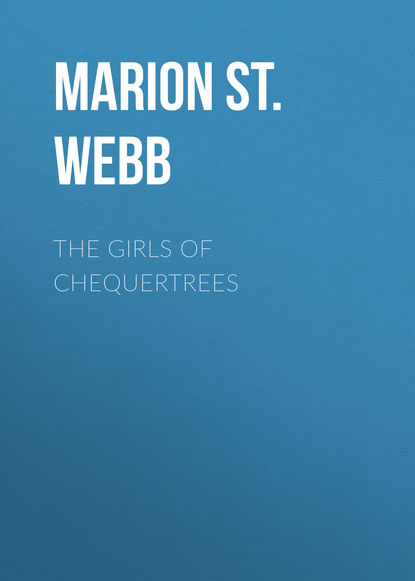Колыбельная для мертвых

- -
- 100%
- +
Хранитель забытых историй
Дорога к дому Арсения Грошева оказалась не просто маршрутом, а погружением. Каждая улица, уводившая Анну от центра Тихогорья, была словно очередной круг забвения. Пятиэтажки сменялись приземистыми двухэтажными бараками с темными от сырости стенами, те, в свою очередь, уступали место частному сектору – кривому, хромому, вросшему в черную землю. Здесь туман не просто висел в воздухе, он сочился из-под проржавевших заборов, стекал по замшелым крышам, собирался в молочные лужи в колеях разбитой дороги. Дома стояли редко, словно стесняясь друг друга, разделенные пустырями, заросшими бурьяном высотой в человеческий рост. Воздух стал плотнее, гуще, он пах не просто торфом и прелой листвой, а чем-то более древним – запахом ила со дна высохшего озера, запахом земли из раскопанной могилы.
Анна вела машину медленно, почти на ощупь. Старая «Лада» протестующе скрипела на каждой выбоине. Адрес, который она с трудом отыскала в ветхом телефонном справочнике, последнем островке доцифровой эпохи в городской библиотеке, был почти на самой окраине. Улица Лесная. Название было насмешкой – от леса ее отделяло широкое поле, переходящее в топкое болото, а единственными деревьями были несколько скрюченных, почерневших яблонь, цеплявшихся за жизнь в заброшенных садах.
Нужный дом, номер семнадцать, оказался последним. За ним начиналась только серая пустота, растворяющаяся в тумане. Он был не похож на своих соседей, таких же старых, но по-житейски запущенных. Этот дом казался заброшенным намеренно, словно его владелец не просто махнул на него рукой, а вел с ним долгую, позиционную войну. Забор из штакетника покосился и ощерился ржавыми гвоздями, калитка висела на одной петле, как сломанная челюсть. Сам дом, темный сруб под просевшей крышей, казался не строением, а природным образованием – огромным пнем или валуном, обросшим за десятилетия диким виноградом и мхом. Окна были слепыми от пыли, но в одном из них, на первом этаже, тускло горел желтый свет, единственный признак жизни в этой картине распада. Он не обещал уюта, а скорее походил на фосфоресцирующее свечение гнилушки в темном лесу.
Анна заглушила мотор. Тишина, обрушившаяся на нее, была почти физически ощутимой. Она давила на барабанные перепонки, делала каждый звук – скрип водительского сиденья, щелчок дверного замка – оглушительным. Она вышла из машины, и влажный холод тут же вцепился в нее, пробираясь под одежду. Она на мгновение замерла, вглядываясь в дом. Он не просто стоял – он наблюдал. Было в его темном дереве, в слепых окнах что-то живое, затаившееся.
Она прошла через зияющий проем калитки. Под ногами хрустнули сухие ветки и что-то еще – может быть, кости мелкого животного. Тропинка к крыльцу едва угадывалась в высокой, пожухлой траве. Возле самого крыльца громоздились какие-то ящики, старая проржавевшая бочка, стопка потрескавшихся глиняных горшков, из которых торчали сухие стебли мертвых растений. Все это было покрыто толстым слоем прошлогодних листьев и пыли, сцементированных временем и сыростью.
Крыльцо из трех ступенек застонало под ее весом. Дверь была массивной, сколоченной из толстых, потемневших от времени досок, с большим кованым кольцом вместо ручки. Кнопки звонка не было. Анна помедлила, собираясь с духом, а затем неуверенно постучала костяшками пальцев. Звук получился глухим, мертвым, словно она стучала по крышке гроба.
Ответа не последовало. Только за дверью что-то едва слышно зашуршало – то ли мышь, то ли переворачиваемая страница. Анна подождала с минуту и постучала снова, на этот раз громче, настойчивее, ладонью.
– Уходите, – раздался изнутри голос. Глухой, скрипучий, как несмазанная петля. Голос человека, который давно отвык им пользоваться.
– Арсений Игнатьевич? – позвала Анна, стараясь, чтобы ее собственный голос не дрожал. – Арсений Грошев? Меня зовут Анна Ковалева. Мне очень нужно с вами поговорить.
– Мне не нужно, – отрезал голос. – Я ни с кем не разговариваю. Особенно с теми, кто продает книги, спасение души или новые окна. Уходите, или я спущу собаку.
– У вас нет собаки, – сказала Анна, сама не зная, откуда взялась эта уверенность. Просто в этой мертвой тишине не было места для собачьего лая.
За дверью наступило молчание. Долгое, напряженное. Анна уже решила, что разговор окончен, когда внутри послышались тяжелые, шаркающие шаги. Загремел засов – звук был таким ржавым и натужным, что казалось, его не отодвигали десятилетиями. Дверь со стоном приоткрылась ровно на столько, чтобы в образовавшейся щели показалось лицо.
Анна видела его фотографию двадцатилетней давности – молодого человека с горящими глазами. Время не просто состарило его, оно перемололо его, оставив лишь самую суть. Перед ней стоял высокий, неестественно худой старик, сгорбленный так, словно он постоянно нес на плечах невидимую тяжесть. Редкие седые волосы, длинные и спутанные, торчали в разные стороны, образуя подобие тернового венца вокруг иссушенного, покрытого глубокими морщинами лица. Но глаза… глаза остались прежними. Они смотрели на Анну из-под густых седых бровей не просто недружелюбно – в них была смесь застарелой усталости, раздражения и чего-то еще, похожего на страх. Это были глаза человека, который слишком долго смотрел в бездну и знал, что она смотрит в ответ.
– Что вам нужно? – прохрипел он. Из-за его спины в щель просачивался запах пыли, старой бумаги и еще чего-то терпкого, лекарственного, похожего на запах сушеных трав.
– Я из социальной службы, – начала Анна, но он тут же перебил ее.
– Социальные службы меня не интересуют. Я еще не впал в маразм и в сиделках не нуждаюсь. Прощайте.
Он начал закрывать дверь, но Анна инстинктивно выставила руку, уперев ее в тяжелое дерево.
– Дело не в вас. Дело в семье Суриковых. Ольга и ее сын Саша. Они пропали.
Имя ничего ему не сказало. Раздражение в его глазах сменилось откровенной враждебностью.
– И какое отношение я имею к вашим пропавшим? У города есть полиция. Вот к ней и обращайтесь. А меня оставьте в покое. Я свой покой заслужил.
– Полиция считает, что они просто уехали, – голос Анны стал тверже. Она цеплялась за эту возможность, как утопающий за соломинку. – Но они не могли уехать. Дверь была заперта изнутри на щеколду. В квартире идеальный порядок. На столе стоял нетронутый ужин.
Она говорила быстро, выбрасывая детали, как козыри, надеясь, что хоть один из них побьет его стену безразличия. Но его лицо оставалось непроницаемым. Он смотрел на нее так, будто она говорит на чужом, бессмысленном языке.
– Это все очень трогательно, – процедил он. – Но это не мое дело. Вы ошиблись адресом.
Дверь снова начала двигаться, нажимая на ее ладонь. Анна поняла, что у нее осталась последняя, самая важная карта.
– Соседка слышала, – почти выкрикнула она. – Всю ночь перед тем, как они исчезли, из их квартиры доносилась песня. Тихая, монотонная колыбельная.
Слово повисло в стылом воздухе между ними. «Колыбельная».
И в этот момент все изменилось.
Это не было похоже на удивление или интерес. Это была физическая трансформация. Лицо старика словно осыпалось внутрь. Морщины вокруг глаз и рта стали глубже, превратившись в черные борозды на пергаментной коже. Цвет его глаз изменился – из просто выцветшего серого он стал пепельным, как угли в погасшем костре, в глубине которого еще тлеет ужас. Он перестал давить на дверь. Его рука замерла. Он смотрел на Анну, но видел, казалось, не ее, а что-то за ее спиной, что-то огромное и страшное, что пришло вместе с ней и теперь стояло на его пороге. Его дыхание, до этого ровное, стало прерывистым и хриплым.
– Что… что вы сказали? – шепот был едва слышен, в нем не было силы, только сухой шорох.
– Колыбельная, – повторила Анна тише, чувствуя, как по ее собственной спине пробегает холодок. Она попала. Она нашла слово, которое было ключом к этому человеку, к этой тайне. – Женщина сказала, что голос был тонкий, как ниточка. И песня была странная, словно заевшая пластинка.
Грошев отшатнулся от двери, словно ее слова были физическим ударом. Он сделал шаг назад, в полумрак своего дома, и Анна, воспользовавшись моментом, шагнула через порог.
Она оказалась в узкой прихожей, заваленной стопками книг до самого потолка. Книги были повсюду – на полу, на старой тумбочке, на вешалке вместо одежды. Они громоздились неустойчивыми башнями, грозя обрушиться от любого неосторожного движения. Воздух был тяжелым, спертым, пропитанным запахом книжной пыли так сильно, что его, казалось, можно было резать ножом. Единственная лампочка без абажура, свисавшая с потолка, бросала слабый свет на корешки книг, превращая прихожую в пещеру, стены которой сложены из чужих мыслей и забытых историй.
Грошев смотрел на нее, и его лицо было маской. Но не той маской безразличия, что была на нем мгновение назад. Это была маска человека, который изо всех сил пытается удержать внутри то, что рвется наружу. Его руки, длинные, с узловатыми пальцами и пожелтевшей кожей, мелко дрожали.
– Откуда вы узнали обо мне? – спросил он, и в его голосе прорезался металл. – Кто вас послал?
– Я нашла статью в старой газете. Двадцатилетней давности. Об исчезновении семьи Филатовых. Вы тогда пытались…
– Пытался предупредить, – резко оборвал он. Голос его окреп, налился горечью и злостью. – Пытался докричаться до идиотов, которые видели только то, что лежало у них под носом. А знаете, что я получил взамен? Меня высмеяли. Меня превратили в городского сумасшедшего. В «краеведа и домовых». Мне сломали карьеру. Мне сломали жизнь. И все из-за нее.
Он говорил это не Анне. Он говорил это стенам, книгам, самому себе. Это был выплеск боли, которую он держал в себе двадцать лет.
– Значит, вы знаете, что это, – Анна сделала шаг к нему. – Вы знаете, что происходит. Пожалуйста, расскажите мне. Что это за колыбельная? Что случилось с этими людьми?
Грошев вскинул на нее взгляд, и теперь в его глазах горел огонь. Но это был не огонь интереса или надежды. Это был холодный, яростный огонь паники.
– Ничего я не знаю! – рявкнул он, и его голос эхом отразился от книжных стен. – Я ничего не знаю, кроме того, что однажды я совершил ошибку. Я сунул нос не в свое дело. Я говорил о том, о чем нужно молчать. И я заплатил за это. Больше я платить не собираюсь.
– Но люди пропадают! – настаивала Анна. – Мать и маленький мальчик! Они исчезли в никуда!
– Люди всегда пропадают! – его голос сорвался на крик. Он ткнул в нее дрожащим пальцем. – Этот город… он всегда забирал свое. Он питается тишиной и забвением. А вы пришли сюда и принесли с собой это имя. Вы произнесли это слово. Вы думаете, это просто так? Вы думаете, можно разбрасываться такими словами и ничего за это не будет? Вы идиотка! Опасная идиотка!
Он вдруг подался вперед. Его лицо оказалось в нескольких сантиметрах от ее. Анна почувствовала его кислое дыхание, увидела сеточку лопнувших сосудов в белках его глаз.
– Она снова проснулась, – прошипел он, и в этом шепоте было столько ужаса, что у Анны похолодело внутри. – Или ее разбудили. Такие, как вы. Вечно лезете туда, где все должно спать вечным сном.
– Кто «она»? – едва слышно спросила Анна.
Но он уже не слушал. Ярость и страх полностью овладели им. Он превратился в загнанного зверя, который видит угрозу в любом, кто приближается к его логову.
– Вон! – приказал он, указывая на дверь. – Убирайтесь из моего дома! Немедленно!
– Но вы должны мне помочь! Вы единственный, кто…
– Я вам ничего не должен! – он схватил ее за плечо. Его хватка была слабой, старческой, но в ней была неожиданная, отчаянная сила. Он начал толкать ее обратно к выходу. – Я похоронил эту историю двадцать лет назад. Я вырвал ее из себя с мясом, чтобы выжить. И я не позволю вам раскопать ее снова. Убирайтесь!
Анна упиралась, пытаясь удержаться на ногах среди шатких книжных башен. Одна из стопок покачнулась, и несколько книг с глухим стуком упали на пол, раскрыв пожелтевшие страницы.
– Убирайтесь и забудьте дорогу сюда! – кричал он, выталкивая ее за порог. – Забудьте мое имя. Забудьте это дело. Держитесь от этого подальше, если вам дорога ваша жизнь. Это не ваша война. Вы в ней просто сгорите.
Он вытолкнул ее на крыльцо, и она едва не упала, споткнувшись о ступеньку. Прежде чем она успела обернуться и сказать что-то еще, тяжелая дубовая дверь захлопнулась перед ее лицом. Звук был окончательным, как удар молотка по крышке ящика. Загремел засов, на этот раз с какой-то отчаянной поспешностью.
И снова наступила тишина.
Анна стояла на скрипучем крыльце, тяжело дыша. Холодный воздух обжигал легкие. Адреналин гудел в ушах. Она смотрела на дверь, на это глухое, непроницаемое дерево, отделявшее ее от единственного человека, который знал правду.
Он не просто отказался говорить. Он был в ужасе. Не в том пассивном страхе, который испытывают жители Тихогорья перед неопределенным будущим, а в остром, конкретном ужасе перед чем-то, с чем он уже сталкивался. Его реакция была не просто отказом. Она была подтверждением. Самым веским и страшным подтверждением из всех возможных.
Он не сказал ей почти ничего, но на самом деле он сказал ей все. Что это реально. Что это опасно. Что у этого есть имя, которое он боится произносить. Что это нечто, способное «просыпаться».
Она медленно спустилась с крыльца. Ее ноги были ватными. Туман сгустился, превратившись в плотную белую стену, которая отрезала дом Грошева от остального мира, превратив его в остров посреди молочного океана. Анна дошла до машины, села за руль, но не стала заводить двигатель. Она сидела в холодной, темной кабине и смотрела на тусклый желтый огонек в окне дома.
Он прогнал ее. Но он оставил ей больше, чем она имела до этого. Раньше у нее было лишь смутное предчувствие, узор из странных деталей. Теперь у нее была уверенность. Ужас в глазах старика был зеркалом, в котором она впервые увидела смутные очертания того, с чем столкнулась. Он запер свою дверь, но распахнул другую, ведущую в самую глубь кошмара. И Анна знала, что теперь, когда эта дверь открыта, она уже не сможет повернуться и уйти. Она должна будет войти внутрь.
Вторая пустая колыбель
Телефонный звонок разорвал серое, безликое утро, как трещина на замерзшем стекле. Анна сидела на кухне, обхватив руками чашку с остывшим кофе, и смотрела на деревянного коня, которого принесла из отдела накануне вечером. Она так и не смогла заставить себя убрать его. Он стоял на подоконнике, его единственный глаз-бусинка вбирал в себя весь скудный свет, просачивающийся сквозь туман, и казался черной точкой, входом в ничто. После визита к Грошеву тишина в ее квартире изменилась. Она больше не была убежищем. Теперь она прислушивалась.
Трель телефона была неуместно бодрой в этом застывшем мире. Анна подняла трубку, уже зная, что это не ошибка. Что бы ни разбудил ее визит к старому историку, оно не стало дожидаться.
– Ковалева, – сказала она в трубку. Голос прозвучал глухо, словно из колодца.
– Сомов, – ответил низкий, лишенный интонаций голос следователя. Пауза. Он не спешил, и в этой неспешности было что-то новое, тяжелое. Не вчерашнее раздражение, а усталость, переходящая в оцепенение. – Улица Речников, дом двенадцать, квартира шестьдесят. Будьте там через полчаса.
Это был приказ, а не просьба. Но дело было не в тоне. Дело было в том, чего он не сказал.
– Что случилось? – спросила Анна, хотя холодный узел в ее животе уже затянулся с тошнотворной определенностью.
Сомов снова помолчал. На заднем плане слышались приглушенные голоса, треск рации – звуки мира, который еще пытался работать по старым правилам.
– Еще одно. – произнес он всего два слова, но в них содержалась целая вселенная рухнувших версий и неприятных прозрений. – Все то же самое, Ковалева. Просто приезжайте.
Он повесил трубку.
Анна не двигалась, прижимая к уху холодный пластик. «Все то же самое». Эта фраза отменила ночь, полную сомнений и попыток найти рациональное зерно в безумии Грошева. Она подтвердила его ужас. Она сделала его реальным. Деревянный конь на подоконнике, казалось, насмешливо смотрел на нее своей пустой глазницей. Первый вестник. А теперь ее звали ко второй пустой колыбели.
Улица Речников находилась на противоположном краю Тихогорья, в районе, который когда-то был престижным. Массивные «сталинки» с лепниной на фасадах, теперь осыпающейся, как перхоть, и высокими, похожими на бойницы, окнами. Эти дома строились с верой в вечность, но время и болотистый воздух Тихогорья превратили их в мавзолеи ушедшей эпохи. Туман здесь был гуще, он цеплялся за трещины в стенах и темные арки подъездов, делая их входами в иные, более мрачные измерения.
У подъезда дома номер двенадцать уже стояла не только полицейская «буханка», но и машина экспертов. Люди в форме двигались медленно, говорили вполголоса. Атмосфера была совсем другой, нежели на Вязовой. Там была суета и профессиональное недоумение. Здесь царила тихая, гнетущая сосредоточенность. Слухи о странном деле Суриковых, очевидно, уже расползлись по отделу. Теперь они столкнулись с его точной копией, и это отменяло право на скепсис.
Сомов ждал ее на лестничной площадке третьего этажа. Он стоял, прислонившись плечом к стене, и курил, стряхивая пепел прямо на истертый бетонный пол. Его лицо, и без того казавшееся высеченным из камня, стало еще более жестким. Только в глазах появилось новое выражение – смесь досады и чего-то похожего на растерянность. Он посмотрел на Анну так, словно она была нежеланным сообщником в деле, о котором он предпочел бы никогда не знать.
– Приехали, – констатировал он, бросая окурок и вминая его носком ботинка. – Заходите. Только под ноги смотрите, Лазарев еще не закончил.
Дверь в квартиру шестьдесят была распахнута. Она была тяжелой, обитой потрескавшейся кожей, с массивной латунной ручкой. Внутри пахло старым деревом, воском для натирки полов и еще чем-то едва уловимым – смесью лаванды и пыли. Запах одинокой, аккуратной старости.
Пропал Петр Захаров, восемьдесят два года. Бывший учитель музыки. Вдовец, жил один последние пятнадцать лет. Соседка снизу, обеспокоенная тем, что он не вышел на свою обычную утреннюю прогулку с авоськой, и тем, что из его квартиры всю ночь доносилась странная, тихая музыка, позвонила в полицию.
Картина была до жути знакомой, словно кто-то ставил один и тот же спектакль в разных декорациях.
Квартира была погружена в безупречный порядок. Не стерильный, вычищенный хлоркой, как у Суриковых, а обжитой, поддерживаемый десятилетиями педантичной привычки. Натертый до блеска паркет. Книги на полках, выровненные по корешкам. Ноты, аккуратной стопкой лежащие на закрытой крышке старого пианино.
– Дверь была заперта на два внутренних замка, – глухо сказал Сомов, идя следом за Анной. – Верхний – английский, нижний – ригельный. Изнутри. Без вариантов. Окна закрыты на шпингалеты. Те, что с форточками, – форточки тоже на крючках.
Анна молча прошла в единственную комнату. Большая, с высоким потолком, с которого свисала тяжелая люстра с потемневшими от времени хрустальными подвесками. Кровать была аккуратно застелена тяжелым стеганым покрывалом. На прикроватной тумбочке стоял стакан с водой, накрытый салфеткой, лежали очки в роговой оправе и раскрытая книга. Рядом с ними, нарушая симметрию, стояла фотография в серебряной рамке. Молодая улыбающаяся женщина. Но рамка была перевернута, лежала лицом вниз.
Анна протянула руку, но остановилась. Она посмотрела на Сомова.
– Его жена. Умерла давно, – сказал он, предугадав ее вопрос. – Соседка говорит, он с этой фотографией разговаривал каждый вечер. Всегда стояла лицом к кровати.
Анна почувствовала, как по спине пробежала тонкая ледяная струйка. Это было то же самое, что и конь. Деталь, выбивающаяся из логики. Не оставленная в спешке вещь, а наоборот – жест, завершающий что-то. Прощание. Словно старик перед уходом сам перевернул фотографию, чтобы жена не видела, куда он уходит.
Они прошли на кухню. Здесь тоже царил порядок. На маленьком столе, покрытом клеенкой с узором из ромашек, стояла тарелка с остывшим картофельным пюре и одинокой сосиской. Рядом – чашка с недопитым чаем. Ужин, который был начат, но не закончен.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.