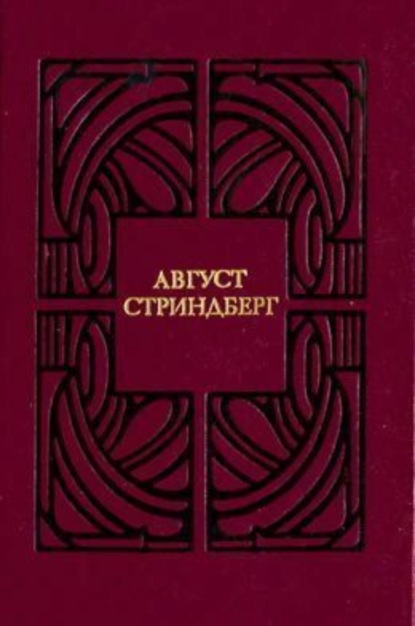Призраки рампы

- -
- 100%
- +
«Начинаем, – сказал он тихо. – Первая ремарка. "Комната, похожая на череп. Голые белые стены. Одно окно, задрапированное тяжелой тканью багрового цвета. Художник стоит у мольберта. На мольберте – маска"».
Первым вступил Громов. Его низкий, рокочущий голос, казалось, покатился по полу, заполняя пространство. Он читал свои реплики ровно, почти безэмоционально, но с безупречной дикцией. Это была старая школа, где слово ценилось превыше всего. Текст в его исполнении обретал вес, становился материальным.
Потом пришел черед Лилии. Ее первая реплика была короткой: «Я пришла». Она произнесла ее так тихо, что актеры, сидевшие на другом конце стола, подались вперед, чтобы расслышать. В ее голосе не было страха. Была обреченность. Словно она пришла не в мастерскую художника, а на плаху.
И читка пошла. Сначала неуверенно, спотыкаясь, актеры продирались сквозь непривычный, метафоричный текст. Но постепенно магия пьесы начала действовать. Рваный, гипнотический ритм захватывал их. Образы, поначалу казавшиеся вычурными и непонятными, обретали пугающую ясность. История о Художнике, который создает идеальную маску, и Актрисе, которая, надев ее, получает гениальность, но теряет себя, переставала быть просто символистской драмой. Каждый из сидящих за столом чувствовал, как эта история прорастает в него, затрагивая самые потаенные страхи: страх потерять свое лицо, раствориться в роли, стать марионеткой в руках творца или судьбы.
Кирилл слушал, закрыв глаза. Он видел спектакль. Он видел белые стены, багровую ткань, видел, как маска медленно срастается с лицом Актрисы. Он был там, внутри пьесы, и реальность репетиционного зала с его пылью и сквозняками отступала.
Они дошли до центральной сцены второго акта. Сцены, где Актриса, уже почти потерявшая себя, впервые заговаривает с маской, как с живым существом.
«Лилия, ваша реплика», – мягко подсказал Кирилл.
Лилия подняла голову. Ее глаза были странными – расфокусированными, темными. Она смотрела на пустой стул напротив себя, словно там действительно кто-то сидел.
«Ты обещала мне свободу, – ее голос дрогнул, наполнившись слезами и ненавистью. – Ты сказала, что сцена станет моим небом. Но ты солгала. Сцена стала клеткой, а твой шепот – ее прутьями. Ты забрала мое лицо, мой смех… что тебе еще нужно? Что?..»
В этот момент свет не моргнул и не погас. Его вырезали. Одним движением, беззвучно и абсолютно.
Зал погрузился в такую непроглядную, бархатную темноту, какую Кирилл не мог себе даже представить. Исчезло все: стол, лица актеров, собственные руки. Исчезли звуки. На долю секунды наступила полная, вакуумная тишина, в которой утонул даже звук собственного дыхания. Паника еще не успела родиться, она застыла в горле ледяным комком.
И в этой мертвой тишине они это услышали.
Это был не человеческий шепот, произнесенный актером. Это был сухой, безвозрастный шорох, похожий на трение пергамента о камень или на шелест осенних листьев по могильной плите. Он исходил не из-за стола. Он шел оттуда, из глубины зала, с того импровизированного пустого пространства, которое служило им сценой.
Шепот был едва слышным, но проникал прямо в мозг, минуя уши. Он был лишен интонаций, лишен тепла или холода. Это был просто звук, несущий смысл.
И он произнес одно слово. Четко, раздельно, так, что его услышали несколько человек.
«…Мое…»
А потом, так же внезапно, как и погас, свет вспыхнул. Неровно, несколько раз моргнув, словно старое сердце, пытающееся запуститься заново. Дежурные лампы под потолком затрещали и залили зал нездоровым, желтым светом.
Первой закричала одна из молодых актрис. Это был тонкий, срывающийся визг, который разрушил оцепенение. Кто-то вскочил, опрокинув стул. Кто-то громко, матерно выругался. Молодой актер, игравший роль Демона-искусителя, сидел белый как бумага и крестился.
Лилия не двигалась. Она сидела в той же позе, вцепившись пальцами в столешницу так, что костяшки побелели, превратившись в мелкие речные камни. Она смотрела в пустоту перед собой широко раскрытыми, ничего не видящими глазами.
Кирилл заставил себя сделать вдох. Воздух царапал легкие. Его сердце билось о ребра тяжело и глухо, как земляной ком о крышку гроба. Он тоже слышал. Он слышал это слово. И оно до сих пор эхом звучало у него в черепе.
«Тихо! – его собственный голос прозвучал хрипло и чужеродно. Он стукнул ладонью по столу. – Всем сидеть! Это просто пробки выбило!»
Его слова повисли в воздухе, неубедительные и жалкие.
«Пробки? – нервно рассмеялся актер, опрокинувший стул. – А шепот тоже пробки нашептали, Кирилл Андреевич?»
«Какой шепот? – немедленно отреагировал Громов. Он единственный, казалось, сохранял полное спокойствие. Он поправлял свои очки с невозмутимым видом. – У вас от этих декадентских завываний уже слуховые галлюцинации начались. Сквозняк здесь гуляет, как на Фонтанке. Трубы воют. Зданию двести лет, проводка еще при царе Горохе проложена. Чего вы ожидали?»
Его здравый, ворчливый тон подействовал на некоторых отрезвляюще. Паника начала спадать, трансформируясь в нервное возбуждение.
«Да, точно, я тоже ничего не слышал, – подхватил второй актер, явно желая поверить в эту версию. – Просто в темноте любой звук кажется… ну, вы понимаете».
«Я слышала, – тихо, почти беззвучно произнесла Лилия. Она все еще не смотрела ни на кого. – Он сказал…»
«Ничего он не сказал, Лилечка, – Кирилл подошел к ней, положил руку ей на плечо. Ее плечи были ледяными и дрожали мелкой дрожью. – Вам показалось. Вы слишком глубоко вошли в роль. Это был просто сквозняк. Старый театр, понимаете? Он живет своей жизнью. Скрипит, вздыхает. Мы должны к этому привыкнуть».
Он говорил это ей, но на самом деле убеждал себя. Сквозняк. Старая проводка. Массовая истерия. Разыгравшееся воображение. Любое объяснение было лучше, чем то, другое, которое сейчас холодной змеей шевелилось у него в животе. То, что пьеса начала отвечать.
Он заставил себя улыбнуться, ободряюще сжал плечо Лилии.
«Ну что, испугались? – он обвел взглядом побледневшие лица. – Отлично! Запомните это чувство. Это то, что должен испытывать зритель. Театр подарил нам первую репетицию. Бесплатно. А теперь давайте сделаем перерыв. Кофе, сигареты. Придем в себя».
Актеры задвигались, заговорили – слишком громко, слишком оживленно. Они покидали зал небольшими группами, бросая испуганные взгляды на темную импровизированную сцену. Никто не хотел оставаться в зале номер семь в одиночестве. Громов вышел последним, задержавшись в дверях.
«Слабое поколение, – пробурчал он, глядя на Кирилла. – Отключением света их напугать можно. Как вы с ними трагедию играть собираетесь?»
Он ушел, не дожидаясь ответа.
Кирилл остался один. Желтый свет дежурных ламп делал тени в углах густыми и вязкими. Тишина вернулась, но теперь она была другой. Не пустой, а выжидающей. Казалось, весь зал, все здание затаило дыхание и слушало.
Он медленно прошел к тому месту, откуда, как ему показалось, донесся шепот. Встал на пыльные доски. Ничего. Холодный воздух от старых окон. Пыль, танцующая в столбе света. Он поднял голову, посмотрел на темнеющие под потолком галереи. Пустота.
Но ощущение чужого присутствия не исчезало. Оно было таким же реальным, как доски под его ногами.
«Старая проводка», – сказал он вслух, чтобы услышать собственный голос.
Слова прозвучали глухо и были немедленно поглощены тишиной.
Он потер лицо. Руки были холодными. Амбиции, творческий азарт, уверенность в том, что он контролирует ситуацию, – все это сейчас казалось тонкой, хрупкой скорлупой. А под ней просыпалось что-то древнее и простое. Страх.
Он не верил в проклятия. Он верил в психологию, в силу искусства, в человеческий гений и человеческое безумие. Но то, что произошло сейчас, не укладывалось ни в одну из его теорий. Это было… неправильно.
Кирилл обернулся к столу. На нем так и лежали раскрытые экземпляры пьесы. Листы казались белее на фоне темного дерева. И на мгновение ему почудилось, что черные буквы на страницах едва заметно, неуловимо пульсируют, словно в них медленно и неотвратимо просыпается жизнь.
Он резко отвернулся и быстрым шагом пошел к выходу. Ему срочно нужен был воздух. Кофе. Шум города. Что угодно, что могло бы заглушить тот беззвучный шепот, который все еще стоял у него в ушах.
Уже в дверях он остановился и бросил последний взгляд вглубь зала. Все было по-прежнему. Стол, стулья, мутные зеркала. Но он знал, чувствовал всем своим существом, что они больше не одни. Репетиция началась. И вел ее не он.
Первый звонок
Тишина, наследовавшая вчерашнему вечеру, была больной и хрупкой. Она звенела в ушах, как последствие контузии, и актеры, собравшиеся на сцене для первой репетиции, двигались в ней с осторожностью саперов. Их голоса, намеренно бодрые, звучали глухо, словно вата забивала пространство между словами. Смех был коротким, обрывающимся на высокой ноте. Они разыгрывали спектакль под названием «Ничего не случилось», и это была их худшая работа.
Кирилл стоял в полумраке зрительного зала, прислонившись плечом к холодной, отделанной вытертым бархатом стене портала. Он наблюдал за ними, и его раздражение смешивалось с чем-то вязким, похожим на дурное предчувствие. Он видел их страх. Он был почти материален – тонкая пленка пота на лбах, бегающие взгляды, пальцы, бесцельно теребящие края одежды. Они боялись не темноты и не старой проводки. Они боялись текста, который держали в руках. Боялись слов, которые теперь, после вчерашнего, обрели вес и волю.
Лилия сидела на краю сцены, обхватив колени. Бледная, с темными кругами под глазами, она походила на фарфоровую куклу, которую уронили, и теперь по всей ее поверхности разбежалась невидимая сеть трещин. Она неотрывно смотрела в пустой зал, туда, где вчера родилось эхо без голоса, и Кирилл понимал, что она до сих пор его слышит.
Рядом с ней, на массивном репетиционном кубе, расположился Громов. Он с нарочитым кряхтением разворачивал газету, всем своим видом демонстрируя пренебрежение к общей нервозности. Его скепсис был броней, толстой и надежной, но Кирилл заметил, как старый актер нет-нет да и бросал быстрый, цепкий взгляд в самые темные углы сцены, туда, где под колосниками клубилась вечная пыльная ночь.
«Хватит!» – голос Кирилла резанул по натянутым нервам тишины. Он вышел из тени на свет рабочих ламп. «Мы не в институте благородных девиц, напуганных сказкой про черную руку. Мы в театре. Здесь единственные призраки, которых стоит бояться, – это призраки фальши и бездарности. Вчерашнее – это тест. Проверка. Пьеса проверяет нас на прочность. Она хочет знать, достойны ли мы ее. Так давайте докажем, что достойны».
Он говорил резко, почти зло, вбивая слова, как гвозди. Он пытался вытеснить собственный страх гневом. Где-то в глубине его сознания, в запертой комнате, все еще звучал тот безвозрастный, сухой шорох, сложившийся в одно слово. Мое. Он запер эту комнату и теперь вслушивался только в собственный голос.
«Первая сцена. Лилия, Михаил Семенович, на исходные. Рабочий свет на центр. Захар!»
Из-за кулис вынырнула мрачная фигура техника. Захар Румянцев двигался бесшумно, словно тень, обретшая плотность. Его лицо, всегда угрюмое, сегодня казалось высеченным из камня. Он молча кивнул и скрылся в темноте у пульта. Через мгновение несколько прожекторов с шипением ожили, выхватив из полумрака круг света в центре сцены. Пыль, потревоженная световым потоком, закружилась в медленном, гипнотическом танце.
«Начинаем, – Кирилл сел на режиссерский столик, подперев подбородок рукой. – Сцена знакомства. Художник впервые показывает Актрисе маску. Помните, здесь нет быта. Это ритуал. Посвящение. Он не просто показывает ей свое творение, он предлагает ей новую душу».
Репетиция началась. Сперва скованно, неуверенно. Слова цеплялись друг за друга. Громов был тяжеловесен, его реплики звучали так, словно он высекал их из гранита. Лилия отвечала ему голосом тонким, как паутина, готовым оборваться от любого резкого движения. Но постепенно магия текста, которую Кирилл ощущал кожей, начала свою работу. Ритм пьесы, ее странная, болезненная музыкальность подчиняли себе актеров.
Кирилл втянулся в процесс, забыв обо всем. Он был демиургом, лепящим мир из хаоса. Он вскакивал, показывал жест, интонацию. Он кружил по сцене, сам становясь то Художником, то Актрисой.
«Нет, Лиля, не так! – крикнул он, когда она произнесла ключевую фразу: «Она прекрасна. Но она неживая». – Ты не констатируешь факт. Ты завидуешь ей! Этой маске. Ты видишь в ней совершенство, которого в тебе нет. Ты видишь в ней свободу от боли, от страха, от самой себя! Ты должна смотреть на нее, как нищая смотрит на королевскую корону. С отчаянием и вожделением!»
Он подвел ее к пустому месту на сцене, где по его замыслу должен был стоять мольберт с маской. «Вот она. Смотри на нее».
Лилия послушно подняла глаза. И в этот момент ее актерская техника, ее талант, соединились с ее подлинным, оголенным страхом. Ее взгляд стал бездонным. Она действительно видела что-то в пустоте. Что-то, что завораживало и ужасало ее.
Кирилл замер, пораженный этой внезапной правдой. Вот оно. Тот нерв, та дрожь подлинности, которую он искал. «Да, – прошептал он. – Так. Держи это состояние. Громов, твоя реплика».
Громов шагнул в круг света. Он должен был сказать: «Она оживет. На тебе». Но прежде чем он успел открыть рот, сверху раздался звук.
Это был не громкий, резкий треск. Скорее, сухой, короткий стон. Словно старое дерево, устав держать свой вес, издало последний вздох. Кирилл инстинктивно поднял голову. Там, в полумраке под колосниками, среди переплетения тросов и балок, что-то едва заметно качнулось. Облачко вековой пыли медленно осыпалось вниз, серебрясь в лучах прожекторов.
Все замерли. Репетиция прервалась на полуслове.
«Продолжаем», – властно сказал Кирилл, хотя холодный узел уже начал затягиваться у него в желудке. Это просто старый театр. Скрипит, оседает. Живет своей жизнью.
Громов откашлялся. «Она оживет. На тебе».
Лилия, все еще не выходя из найденного состояния, сделала шаг вперед, прямо в центр светового круга. Она протянула руку к невидимой маске. «Но какой ценой?» – прошептала она.
И тут раздался второй звук. На этот раз громкий, отчетливый. Резкий металлический щелчок, похожий на звук ломающейся кости. Он прозвучал прямо над сценой.
Кирилл снова вскинул голову. И то, что он увидел, заставило кровь в его жилах превратиться в ледяную крошку.
Один из самых массивных элементов будущей декорации – так называемый «Небесный свод», тяжелая конструкция из дерева и папье-маше, имитирующая грозовое, багровое небо из пьесы, – сорвался с одного из тросов. На мгновение он замер, повиснув под неестественным углом на оставшемся креплении, а потом, с протяжным, раздирающим скрипом, второй трос начал рваться, распускаясь на глазах, как гнилая нить.
Все произошло за два удара сердца. Время сжалось в точку, а потом взорвалось.
Кирилл видел все с мучительной, невозможной ясностью. Он видел, как огромная, уродливая тень отрывается от потолка и начинает свое беззвучное, стремительное падение. Он видел лицо Лилии, обращенное вверх, ее глаза, расширенные от непонимания, которое вот-вот должно было смениться ужасом. Он видел, как Громов, стоявший в паре шагов от нее, отшатнулся назад, его лицо исказила гримаса.
Кирилл открыл рот, чтобы закричать, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип. Его тело окаменело. Он был зрителем в первом ряду на представлении, которое сам же и поставил.
«Лиля!» – чей-то крик, не его, прорвал оцепенение.
И в последнее мгновение, когда казалось, что уже ничего нельзя сделать, что сейчас эта многокилограммовая махина раздавит хрупкую фигурку в центре сцены, Лилия среагировала. Не на крик, а на саму смерть, свистящую в воздухе. Она не отпрыгнула. Она просто упала, рухнула на доски сцены, словно у нее разом подкосились ноги.
В ту же секунду «Небесный свод» врезался в пол.
Грохот был оглушительным, первобытным. Сцена содрогнулась под ногами. Деревянная конструкция разлетелась на тысячи щепок, ударившись о то самое место, где только что стояла Лилия. Поднялось огромное облако пыли и трухи, плотное, как дым от взрыва. Оно пахло веками, гнилью и чем-то еще, неопределимо зловещим.
А потом наступила тишина. Абсолютная, мертвая, звериная тишина, в которой слышался лишь звон в ушах и медленный, похожий на снег, шелест оседающей пыли.
Сквозь мутную завесу Кирилл видел распластанный на сцене силуэт. Лилия не двигалась.
Он не помнил, как оказался рядом с ней. Ноги несли его сами. Он упал на колени, не чувствуя боли от заноз, впившихся в ладони.
«Лиля…» – прохрипел он, протягивая руку, чтобы коснуться ее, но боясь это сделать.
И тут она закричала.
Это был не крик боли или страха. Это был животный, истошный вопль существа, заглянувшего в бездну. Он вырывался из ее груди снова и снова, без пауз, без вдохов, разрывая тишину на клочки.
Со всех сторон сбегались люди. Актеры, монтировщики, выскочивший из своей каморки Захар. Их лица были белыми масками в клубящейся пыли.
Захар, не говоря ни слова, бросился к останкам декорации. Он вытащил из-под обломков обрывок стального троса и стал рассматривать его, поворачивая в свете прожекторов. Его лицо было непроницаемым.
Громов стоял поодаль, тяжело дыша и прижимая руку к сердцу. Он смотрел на кричащую Лилию, и в его выцветших глазах Кирилл на мгновение увидел нечто похожее на мрачное удовлетворение. Но это было лишь мгновение, и тут же старый актер бросился к девушке, пытаясь помочь, загородив ее от остальных.
«Скорую! Вызовите кто-нибудь скорую!» – кричал он.
Но Кирилл его почти не слышал. Он смотрел на обломки декорации, на рваный конец троса, на место, где только что стояла Лилия. Случайность. Несчастный случай. Старое оборудование, износ металла, халатность. Любой театр – это зона повышенной опасности. Он повторял эти слова про себя, как мантру, но они рассыпались в прах, не достигая сознания.
Потому что он знал. Не разумом, а чем-то более древним, инстинктивным. Он знал, что это не случайность. Это был ответ.
Пьеса ответила на их попытку ее разбудить. Она не шептала из темноты. Она нанесла удар.
Позже, когда Лилию, бьющуюся в истерике, увезли в больницу, когда актеры, бледные и молчаливые, разошлись, а директор театра Олег Марков устроил ему разнос по телефону, обещая проверку, комиссию и закрытие спектакля, Кирилл вернулся в пустой зрительный зал.
Сцена была оцеплена. Обломки декорации лежали нетронутой грудой, как останки доисторического чудовища. Воздух все еще был тяжелым от пыли. Кирилл сел в кресло первого ряда. Холод пробирал его до костей, хотя в зале было душно.
Он достал из портфеля ту самую черную кожаную папку. Его руки слегка дрожали, когда он развязывал шнурки. Он открыл ее и нашел машинописный лист служебной записки столетней давности. Сухой, казенный язык, перечисляющий катастрофы.
Он читал, хотя знал этот текст уже наизусть. Он пробегал глазами по строчкам, ища что-то, сам не зная, что. И нашел.
Пункт первый.
«1. Обрыв противовеса и падение элемента декорации («Небесный свод»), приведшее к гибели исполнительницы главной роли Е. А. Вольской».
Кирилл перечитал строку. Потом еще раз.
«Небесный свод».
Название декорации. То же самое. Упавшая на то же самое место. В первой же сцене, которую они репетировали. Словно кто-то или что-то вело репетицию по старому, кровавому сценарию.
Первый звонок прозвенел. Не для зрителей. Для них. И он был похож на похоронный колокол.
Кирилл сидел в пустом, гулком театре, и впервые с того дня, как нашел эту пьесу, его одержимость, его творческий азарт уступили место чистому, первобытному страху. Он разбудил нечто, что спало сто лет. И теперь оно было голодно. Он чувствовал его незримое присутствие, его тяжелый, выжидающий взгляд из темноты сцены. И он понимал, что это было только начало. Это был первый акт. И занавес еще не скоро опустится.
Женщина без иллюзий
Утро пришло не как рассвет, а как диагноз. Оно констатировало вчерашнюю катастрофу с холодной, бесцветной скрупулезностью. Ночь скрывала ужас в бархатных складках темноты, позволяя ему дышать, двигаться, быть чем-то живым и иррациональным. Утренний свет, процеженный сквозь грязные окна театра, убивал мистику, оставляя на ее месте лишь уродливый скелет фактов: сломанное дерево, рваный трос, человеческий страх.
Полицейская лента, натянутая поперек центрального прохода, была пошлой и чужеродной в этом пространстве. Ее ядовитая желтизна кричала, оскорбляя достоинство потертого красного бархата и потускневшей позолоты. Она превращала храм искусства в место происшествия, в банальную сцену преступления или халатности. Для Кирилла это было кощунством. Он стоял в глубине партера, за колонной, и чувствовал себя призраком в собственном мире, который за ночь оккупировали чужаки.
Они двигались по его сцене, по его залу, уверенные и громкие. Люди в форме и в штатском, с папками и фотоаппаратами. Их ботинки топтали вековую пыль, их голоса, лишенные театрального трепета, отскакивали от лепнины и рассыпались мертвым эхом. Они измеряли, фотографировали, что-то записывали. Они препарировали его кошмар, раскладывая его на составные части: угол падения, прочность на разрыв, вес, инерция. Они пытались объяснить чудо и ужас падения «Небесного свода» языком физики, убивая саму суть произошедшего.
Кирилл не спал. Он провел остаток ночи здесь, в кресле первого ряда, пока его вежливо, но настойчиво не попросили удалиться. Он смотрел на обломки, похожие на кости ископаемого ящера, и слушал тишину. Тишина отвечала ему. Она говорила не словами, а ощущением присутствия, тяжестью воздуха, холодом, который исходил не от сквозняков, а из самого сердца этого здания. Пьеса нанесла ответный удар. Она показала свой нрав. И вместо ужаса Кирилл ощущал странное, темное возбуждение. Он вступил в диалог.
– Лебедев? Кирилл Андреевич?
Голос был женский, ровный, лишенный каких-либо интонаций, кроме деловой необходимости. Он прозвучал так неожиданно близко, что Кирилл вздрогнул. Он обернулся.
Женщина, стоявшая рядом, казалось, была сделана из другого материала, чем все в этом театре. В ней не было ни мягких линий, ни полутонов. Короткая стрижка пепельных волос, резкие, почти хищные скулы, серые глаза, смотревшие так, словно производили немедленную оценку всего, на что падали. На ней были джинсы, ботинки на толстой подошве и строгий темный пиджак поверх простой серой футболки. Ни капли косметики, ни единого украшения. Ее внешность была протоколом, перечнем функциональных черт.
– Капитан Соколова, следственный отдел, – представилась она, не протягивая руки. Взгляд ее скользнул по Кириллу – от взъерошенных волос до помятой одежды – и зафиксировал что-то в своей внутренней картотеке. – Мне нужно задать вам несколько вопросов. Пройдемте куда-нибудь, где можно сесть.
Она говорила так, словно отдавала приказ механизму, от которого ожидала беспрекословного подчинения.
– Мы можем поговорить и здесь, – ответил Кирилл, намеренно не двигаясь с места. Он чувствовал иррациональную потребность защитить это место от ее вторжения.
Она едва заметно повела бровью. Этот жест выражал не удивление, а легкое раздражение от столкновения с непредвиденным трением в отлаженной системе.
– Здесь, – она обвела взглядом застывшую на сцене картину разрушения, – работают эксперты. Мы будем им мешать. Директор предоставил нам свой кабинет.
Она развернулась и пошла, не сомневаясь, что он последует за ней. Ее походка была такой же, как ее голос – экономная, точная, лишенная всякой театральности. Кирилл сжал кулаки и пошел следом. Он чувствовал себя актером, которого ведут на самую унизительную читку в его жизни.
Кабинет Маркова тоже был осквернен. На полированном столе директора, где обычно царил хирургический порядок, теперь лежал ноутбук Соколовой, какие-то бумаги. Она села в кресло Маркова, указав Кириллу на стул для посетителей. Унизительная расстановка сил была выстроена мгновенно и без единого слова.
– Итак, Кирилл Андреевич, – она открыла ноутбук, ее пальцы забегали по клавиатуре с сухим, деловитым стуком. – Вы режиссер-постановщик спектакля… – она замолчала, вглядываясь в экран. – «Багровая вуаль».