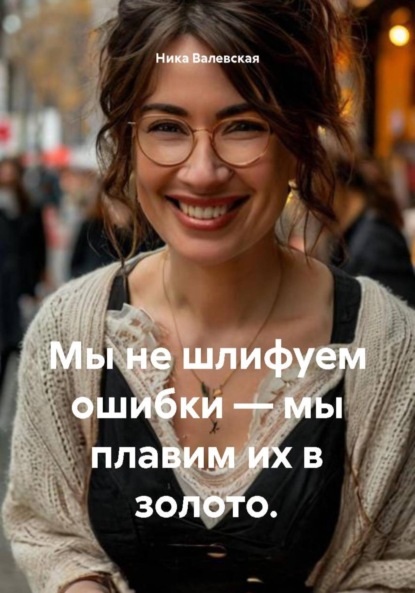На гребнях волн

- -
- 100%
- +
– Кит! – кричу я.
Ветер хлещет в лицо, и кажется, что я стремительно уменьшаюсь. Как та русская кукла – много кукол, вложенных одна в другую, мадам Соня называет их «матрешками». Ветер сдирает с меня слой за слоем, пока не обнажает крохотную куколку, почти без лица, неспособную стоять без поддержки: это и есть я.
– Мы не занимались сексом! Это была ошибка. Все из-за этой его фляги со спиртным. Я думала, что это фляга, а это оказалась бутылочка из-под шампуня, и…
От одного воспоминания об этой бутылочке в животе у меня что-то екает и к горлу подступает тошнота. Я сгибаюсь, словно меня вот-вот вырвет на песок.
– Зачем ты это сделала? – говорит Кит. – Зачем ему позволила тебя напоить? Он просто урод, этот парень! Знаешь, что он теперь о тебе рассказывает?
Мы стоим возле сточной канавы; ветер взметает песок и несет в лицо вонь. Теперь я в самом деле опасаюсь, что меня стошнит.
– Что молчишь? Тебе что, сказать нечего? Совсем ничего не хочешь мне сказать?
Я все стою, согнувшись в три погибели. Я все еще крохотная матрешка без лица, без устойчивости – вот-вот упаду. Когда наконец открываю глаза и поднимаю голову, Кита уже нет. Повернувшись, вижу, что он идет на запад, к утесу.
– Кит! – кричу я. – Кит, прости меня!
Но он не оборачивается. Я бегу за ним, громко зовя его по имени. Когда приближаюсь, он меня видит и бросается бежать от меня. Скейтборд он теперь прижимает к груди, словно младенца. Бежит прямо к высокому крутому утесу, разделяющему Бейкер-Бич и Чайна-Бич. Что ж, когда добежит, ему придется остановиться. Волны сейчас высоки, и он не сможет обогнуть утес с моря. Понимая, что ему никуда от меня не деться, я замедляю шаг.
Но я ошиблась. Добежав до скал, он не останавливается. Вместо этого бросается в сторону моря и скрывается за камнями. Хочет обогнуть утес! Мы с Марией Фабиолой делали так десятки раз – но мы знаем море, знаем, как обойти прилив.
– Кит! – кричу я. – Стой!
Бегу к воде – и в этот миг об утес разбивается гигантская волна.
– Кит!
Я жду ответа. Смотрю в океан, словно он может дать ответ, и вижу в волнах что-то темное, продолговатое. Этот предмет мне знаком. Скейтборд Кита.
Я смотрю, как скейтборд снова и снова бьется о скалы, как волна то увлекает его за собой в море, то с новой силой колотит о камень. Словно смотрю закольцованное видео. На миг само время кажется мне не линейным, а вертикальным.
Я поворачиваюсь к пляжу, чтобы позвать на помощь. Но здесь никого нет. Ветер всех разогнал: ушел даже мужик со змеем. Я на пляже Северной Калифорнии: здесь нет спасателей, нет спасательных станций. Где же Кит?
Бежать вокруг утеса я не собираюсь: волны слишком высоки, меня запросто постигнет та же судьба, что и… что и скейтборд, говорю я себе, решительно отказываясь додумывать первоначальную мысль до конца. Выбора нет: придется вскарабкаться на утес и посмотреть сверху. Я все еще надеюсь, что Кит благополучно перебрался на соседний пляж, Чайна-Бич. Тот, где я лизнула ему ногу с перепонкой.
Скалы сегодня скользкие. Необычно высокие волны вымочили все, что только могли. Я цепляюсь подушечками пальцев за каждую неровность, каждый выступ в скале. На мне школьные туфли – от этого лезть вверх еще труднее. В какой-то миг я соскальзываю вниз, проезжаюсь подбородком по камням, но успеваю повернуть голову боком, чтобы не разбить лицо. Тяжело приземляюсь на песок. В голове гудит боль. Вытираю подбородок, подношу пальцы к губам – на них кровь. Слизываю, сплевываю. На вкус кровь соленая. Как слезы, что льются из глаз и щиплют свежую ссадину.
Я отхожу чуть дальше от берега и пробую залезть на утес в другом месте. Здесь начальная точка выше, но поверхность скалы больше изрезана, и взбираться по ней легче – есть за что зацепиться. Скоро я начинаю двигаться быстро и размеренно: рука, нога, рука, нога – и так до самого верха. На четвереньках взбираюсь на вершину, с трудом выпрямляюсь. Отчаянно кричу:
– Кит!
В рокоте волн мой голос едва слышен. Пытаюсь наклониться и что-то разглядеть внизу так, чтобы не свалиться в море. Скейтборда уже не видно.
Я сползаю на другую сторону утеса, на Чайна-Бич. Сперва скольжу, затем поворачиваюсь к утесу лицом и начинаю спускаться на четвереньках. Нога, рука, нога, рука; наконец отталкиваюсь и приземляюсь на песок. Повернувшись, вижу футах в двухстах от себя группу людей.
Они собрались вокруг костра. Я бегу к ним, выискивая глазами долговязую фигуру Кита. Дым застилает мне глаза. Остро пахнет гарью. Я останавливаюсь, чтобы откашляться и восстановить дыхание, и бегу дальше.
Подойдя к костру, я насчитываю вокруг него девять человек. Никто из них не Кит. Компания хиппи и, кажется, бездомных: сидят вокруг огня, выпивают. Я замедляю шаг и осторожно подхожу к ним.
– Вы тут мальчика не видели? – спрашиваю я.
Ко мне поворачивается одно лицо – беззубый мужчина. А затем второе – женщина с невероятно длинными волосами.
– Вы мальчика не видели? – повторяю я, обращаясь к ней.
Она долго думает, затем медленно повторяет:
– Маль-чи-ка?
И поворачивается к остальным. Все они здесь обдолбаны: у одних зрачки с булавочную головку, у других во весь глаз.
– Мальчик? Мальчик! – повторяют они.
– Я утром мальчика видел, – говорит парень в лыжной шапочке, не отрывая взгляда от огня.
– Высокий мальчик. Он мог пробежать мимо вас, – говорю я. – Здесь, на пляже. Может быть, десять минут назад. Или пять. Или двадцать. – Не представляю, сколько прошло времени.
– Не видели, здесь мальчик не пробегал? – спрашивает своих длинноволосая женщина.
Все молчат. Еще одна женщина затягивает песню, судя по звучанию, гавайскую.
– Ну-ка предложите нашей гостье выпить! – говорит беззубый.
Обращается он к молодой паре в шерстяных пончо. Эти двое передают друг другу бутылку спиртного.
– Я не хочу пить, – говорю я. – Хочу найти своего друга.
– Эй, детка, я твой друг! – слышится голос с другой стороны костра.
Это старуха с коротко, по-монашески остриженными седыми волосами. Она поворачивает ко мне голову. Глаза у нее бесцветные и пустые – такие пустые, что в первый миг мне кажется: она слепа.
– Я спрашивала, не видел ли кто-нибудь моего друга, – говорю я.
– Я видела мальчика, – говорит она. – Он бежал.
– Куда? – спрашиваю я.
Она показывает рукой на океан.
– Туда, – отвечает она. – Прямо в море.
– Бежал в море? – тупо повторяю я.
«Сраные хиппи!» Кто-то передает старухе здоровенный бонг, она ставит его на песок и склоняется над ним, словно над микроскопом. О моем существовании она уже забыла.
Беззубый тянется ко мне; даже сквозь запах дыма просачивается вонь его немытого тела. Я шарахаюсь. Вижу в отдалении двух полицейских: они спускаются по ступеням на пляж. Собрав остаток сил, бегу к ним.
– Эй, куда собралась? – слышится за спиной. – Вечеринка только начинается!
Увидев, что я бегу, копы тоже бегут мне навстречу. Быстро бежать им не удается: мешают оружие и дубинки, к тому же, спустившись на пляж, они сразу начинают увязать в песке.
– Вы здесь из-за Кита? – спрашиваю я. – Вы его нашли?
– Кого? – переспрашивает один.
– Это мальчик, – объясняю я.
– Он там, что ли, у костра? – спрашивает другой коп. – Нас вызвали потушить костер и разогнать это сборище.
– Нет, – отвечаю я.
И рассказываю о Ките, о том, как он пытался обогнуть утес – рассказываю им все, что знаю. Выслушав меня, один полицейский достает рацию, другой трусцой направляется к утесу. Коп с рацией поворачивается ко мне.
– А с тобой все в порядке? – спрашивает он.
– Все нормально, – отвечаю я, понимая, что он смотрит на мою окровавленную голову. – Просто беспокоюсь за друга.
– Ладно, мы его найдем, – говорит он. – Патрульная и «Скорая» сюда уже едут. Думаю, все, что нам нужно знать, ты рассказала, но теперь хорошо бы тебя согреть.
– Со мной все будет хорошо, – отвечаю я.
– Я вернусь, – говорит коп и бросается бегом в сторону костра.
Я поворачиваюсь и начинаю подниматься по ступеням. Пора уходить. Они его найдут. Его? Или его тело? Мертвое тело, обглоданное гневным океаном.
26
Я поднимаюсь по девяноста трем ступеням, опускаюсь на песок под знаком, сообщающим на множестве языков, что смертельно опасно находиться у кромки воды во время прилива. Кажется, в теле у меня больше нет ни мускулов, ни костей. Запускаю руку в волосы; там мокро. Смотрю на пальцы – кровь. Я отбрасываю волосы назад и натягиваю капюшон. Смотрю на свои страшно исцарапанные руки и ноги. Эти пересекающиеся красные линии меня завораживают: они идут во всех направлениях, словно я лезла по леднику.
Вспоминаю, что в рюкзаке у меня спортивные штаны, достаю их и натягиваю, а синюю форменную юбку запихиваю глубоко в рюкзак. Встаю. Теперь можно идти. Только куда?
Домой я идти не хочу. Не могу. Я довела человека до смерти. Можно ли так сказать? Верно, я привела его на пляж; но дальше он бросился бежатьот меня – навстречу своей гибели. Значит, в точности обвинение должно звучать так: я довела человека до того, что он бросился бежать навстречу гибели. Нет, о таком не расскажешь родителям. Да и вообще никому.
В капюшоне голове лучше, так что я иду, придерживая капюшон одной рукой. Иду и иду, пока не оказываюсь на Клемент-стрит. В балетной школе задернуты шторы. Окно наверху закрыто. Не знаю, где мадам Соня, но хорошо, что здесь ее нет. Я обхожу дом по тропинке справа, перешагиваю через шланг, свернувшийся, как лассо, непослушными пальцами набираю код: 1938. Щелчок открывающегося замка – звук свободы.
Я вхожу во флигель, закрываю за собой дверь и падаю ничком на розовый диван. Кстати, где пушистое белое покрывало? И тут я вспоминаю новости. В рождественское утро Мария Фабиола обнаружилась на крыльце родительского дома, завернутая в одеяло, словно новорожденная.
Желтый свет падает на меня москитной сеткой. Я сплю, и мне снится длинноволосая женщина с пляжа. Она протягивает мне руку: в ладони что-то вроде цветка. Но вот она разжимает руку, предмет на ладони начинает расти – и я вижу, что это шляпа-котелок. Она надевает котелок мне на голову, но он мне жмет.
* * *Проснувшись, я обнаруживаю, что лежу, зажав ладонями уши. Голова, по ощущениям, как на картине художника-кубиста. Волосы с одной стороны – той, которой я проехалась по камням, спасая лицо, – все в чем-то липком.
Я ищу во флигеле зеркало. Но зеркал здесь нет – да и никаких отражающих поверхностей, даже в маленькой ванной. Это место призвано сопротивляться ходу времени, отторгать время. На стенах здесь лишь засохшие букеты, вытертые пуанты и «Плот Медузы». Я приоткрываю дверь и вижу, что снаружи стало светлее. Как такое может быть? Смотрю на часы – семь. Семь утра. Я проспала всю ночь. Или две ночи. Какой сегодня день?
А потом вспоминаю Кита. Спрашиваю себя, нашли ли полицейские его тело. И что дальше? Повезли на «Скорой» в больницу? И когда «Скорая» с воем мчалась по улице, уступали ли ей дорогу другие автомобили?
Если пойти сейчас домой, придется объяснять, где я провела ночь – или две. А дальше маячит куда более серьезная, смертельная проблема. Кит. Мне будут задавать вопросы – много, много вопросов. И все меня возненавидят. Еще сильнее, чем сейчас.
Лучше остаться здесь. Отлежусь, приду в себя и соображу, что делать дальше. Придумаю какой-нибудь план. Что сказать о Ките, как объяснить, что произошло.
Я выхожу из флигеля и на цыпочках прокрадываюсь мимо дома на Клемент-стрит. На улице никого, только китаец-бакалейщик открывает свой магазинчик на углу, да две старухи с крошечными собачонками на поводках беседуют по-русски, пока их питомицы обнюхивают друг друга.
Я захожу в магазинчик на углу. Надо купить аспирин. И что-нибудь на завтрак. Кладу в корзину бутылочку апельсинового сока, коробку овсяных хлопьев и аспирин, иду на кассу.
– Что это у тебя с головой? – спрашивает хозяин.
Капюшон соскользнул. Торопливо натягиваю его обратно.
Крадусь обратно во флигель; пакет с покупками слишком громко шуршит. Войдя внутрь, запираю за собой дверь и сажусь прямо на ковер. Вскрываю коробку хлопьев торопливо, даже не заметив, что держу ее вверх ногами. Черпаю хлопья горстями и ем. Они слишком громко хрустят на зубах. От жевания начинает болеть голова. Открываю бутылку, выпиваю добрую четверть одним долгим глотком. Тут вспоминаю об аспирине. С некоторым трудом открываю флакон, глотаю разом три таблетки и запиваю соком.
Потом заставляю себя снова заползти на диван, где мне, несомненно, будет удобнее. Двигаться на удивление сложно. Сажусь, скрестив ноги, и приказываю себе вслух:
– Думай!
Голос звучит хрипло, как чужой. Обеими руками я берусь за голову, словно стараюсь развернуть ее в направлении будущего.
Я заставляю себя думать, но мысли не приходят. В комиксах мысли героев вписывают в пузыри у них над головами. Пузырь над моей головой пуст. Сама того не заметив, я засыпаю; а проснувшись, вижу там, где лежала моя голова, красно-бурый осенний листочек размером с четвертак. Хочу его взять и понимаю, что это засохшая кровь.
Надо найти газету, посмотреть, нет ли новостей о Ките. Я выскальзываю из флигеля и тихонько – вдруг мадам Соня дома? – крадусь на Клемент-стрит. Дохожу до желтого газетного автомата, приближаюсь к нему боязливо, страшась прочесть заголовок. Но на первой странице – ничего о Ките. Заголовок посвящен налоговой реформе. Я бросаю в щель монеты, забираю газету и несу к себе во флигель. Здесь, сидя на полу, разворачиваю и просматриваю каждую страницу, каждый раздел. Ни одного упоминания о Ките. Словно его и не было.
27
Ближе к обеду я снова выбираюсь за едой, и тут вижу на улице знакомое лицо. Мой кузен Ласло стоит перед кинотеатром. Держится за руки с мужчиной, явно постарше. Ласло сейчас восемнадцать. Я перевожу взгляд на афишу маленького артхаусного кинотеатра: «Моя прекрасная прачечная», дневной сеанс.
– Юла? – окликает меня Ласло и быстро отпускает руку своего спутника.
Мы с ним не виделись три года. Прежде дружили, а потом у моего папы вышла размолвка с его мамой. Точнее, папа называет это «размолвка». А мама называет «смех один».
– Что это с тобой? – спрашивает Ласло. – Что у тебя с головой?
– Кажется, упала, – отвечаю я, показывая на верхний край уха. Саму рану не трогаю, это больно.
– «Кажется»? – переспрашивает он.
– Ага, – отвечаю я.
Он еще подросток, но над верхней губой уже усики, которых я прежде не видела. Темно-русые волосы, круглые щеки, глубоко посаженные глаза. Нас с ним можно принять за брата и сестру.
– Давай я отвезу тебя домой, – говорит он.
– На машине? – спрашиваю я.
– Ну да, – отвечает он, поколебавшись.
– У тебя есть машина?
– У моего друга есть, – отвечает он и оглядывается. Но мужчина, что держал его за руку, уже исчез. – Джоэл! – зовет Ласло.
– Куда это он? – спрашиваю я.
– К жене и детям, должно быть, – отвечает Ласло. Старается говорить спокойно, но от этого особенно заметно, что злится.
– Подожди секунду! – говорит он.
– Ладно, – отвечаю я с неохотой, словно он меня задерживает. Как будто мне есть куда идти.
Ласло бросается вдоль по улице и возвращается, обежав квартал, потом бежит в другую сторону. Я смотрю ему вслед: мне кажется, что торс у него слишком длинный, а ноги коротенькие, и он ими перебирает, как сороконожка.
– Джоэл! – зовет он. – Джоэл! – И синяя куртка «Members Only» на нем вздувается от ветра, точно парус.
Наконец он возвращается, понурый, погруженный в свои мысли.
– Хочешь, провожу тебя домой? – говорит он.
– Мне нельзя домой, – отвечаю я.
– Ясно, – говорит он. – Со мной тоже такое бывало.
«Ну нет, вряд ли ты кого-то доводил до смерти!» – хочу ответить я, но вместо этого говорю:
– Я по тебе скучала.
В конце концов мы едем на автобусе с пересадкой до его дома – точнее, дома бабушки, когда она была жива. Теперь там живет горстка моих венгерских родственников: Ласло, его мать Агота (моя тетка), его сестра Жасмин, еще один мой кузен Золт со своей семьей. Не уверена, кем мне приходится Золт; слышала от мамы с папой, что он нам вообще не родственник. Но он то ли строитель, то ли плотник и помогает содержать в порядке дом.
– Они все там будут? – спрашиваю я.
Мы сидим бок о бок на скользких оранжевых автобусных сиденьях.
– Не знаю, – говорит Ласло. – Многие ведь работают. А Жасмин в положении, – добавляет он.
Моей кузине Жасмин двадцать.
– Кто был тот старик возле кино?
– Вовсе он не старик.
– Да ему не меньше сорока!
– Тридцать четыре. – Ласло мрачнеет. – Я с ним познакомился в ресторане, где работаю. Он… он не знает, что делать.
– Вы с ним целуетесь? – спрашиваю я.
– На такие вопросы не отвечаю.
– А твоя мама знает, что ты гей?
– Я ей ничего не говорил, но, кажется, знает, – с этими словами он наклоняется, опирается на пустое сиденье напротив и добавляет, глядя в пол: – Вечно поминает Харви Милка.
– А мой папа однажды встречался с мэром Фейнстайн, – гордо сообщаю я. – И потом говорил, что у нее красивые ноги.
Ласло выпрямляется и смотрит на меня, как на идиотку.
Агота, мама Ласло, и мой папа расплевались из-за того, из-за чего обычно расходятся братья и сестры – денег и любви. Папа нажил состояние, а тетя Агота все потеряла. Потом у них вышел спор из-за того, где и как будет жить их мать, моя бабушка. Папа хотел устроить ее в дом престарелых. Агота готова была за ней ухаживать, но только чтобы ей за это платили. Спорили долго, а что толку? Все равно бабушка умерла.
После этого все родственники, которые не могли себе позволить собственное жилье, съехались в старый бабушкин домик – честно сказать, не такой уж большой. Об этом я сейчас слышу от Ласло впервые. После смерти бабушки я в этом доме не была.
Мы выходим на Уэст-Портале, проходим несколько сонных жилых кварталов и входим в маленький серый домик. Удивительно, но здесь почти ничего не изменилось после бабушки: тот же желтый холодильник и на нем радио с часами, та же бабушкина коллекция фарфоровых собачек.
Из окна кухни виден прямоугольный садик, а в саду под яблоней спит Жасмин. Под таким углом она выглядит как-то очень естественно, словно сама мать-Земля прилегла отдохнуть в саду солнечным зимним днем. Хотя Жасмин – вовсе не мать-Земля. Она ходит в черном и носит длинные накладные ногти.
– Хочешь пойти поздороваться? – спрашивает Ласло.
– Не-а, – говорю я. – Наверное, не стоит ее будить. Пусть поспит, она же беременна.
– И то верно, – говорит он.
Оба мы молча смотрим на Жасмин, и даже странно, что она не просыпается от наших пристальных взглядов.
– Если честно, не знаю, что я здесь делаю, – говорю я.
Мы садимся играть в «сороконожку» и в «пакмэна». Наконец Жасмин входит на кухню.
– Что за…? – говорит она, увидев меня, – и не бросается обнимать.
Я поздравляю ее с будущим малышом. Она пожимает плечами. Теперь, когда она набрала вес, маленькие зеленые глаза ее кажутся еще меньше, а темно-русая челка как будто стала намного гуще. В другой комнате звонит телефон, и Жасмин идет снять трубку. Даже сейчас, с огромным животом, она ходит вприпрыжку, будто жеребенок. Через несколько минут возвращается, смотрит на меня каким-то странным, слишком долгим взглядом.
– Юлаби, – говорит она, – давай-ка отмоем тебе голову.
Я иду за ней в ванную. Когда она открывает медицинский шкафчик над раковиной, у меня вдруг все сжимается внутри от горя. На нижней полке все еще стоят бабушкины кремы – розовый флакончик «Ойл оф Олэй» и «Понд». Я помню, как они пахнут, помню, как сияло от них бабушкино лицо, каким было прохладным и ароматным, когда я, оставаясь здесь ночевать, целовала ее перед сном.
Жасмин берет салфетку, мочит под краном и начинает резкими движениями тереть мне голову.
– Ой!
– Просто хочу отмыть, – говорит она.
От мокрой салфетки кровь начинает идти сильнее; по лицу стекает розовая струйка. Жасмин достает из шкафа эластичный бинт и пытается обмотать мне вокруг головы, больно царапая накладными ногтями.
– Эй, больно! – говорю я, когда она затягивает бинт, и тут же начинаю его снимать.
– Все отлично, – отвечает она, хотя, судя по голосу, это совсем не так.
Она выходит из ванной, а я разматываю бинт. Он заляпан кровью, теперь его осталось только выбросить, но все же я скатываю его и кладу обратно в шкафчик. Затем достаю «Ойл оф Олэй» и втираю в лицо мягкими круговыми движениями, как учила меня бабушка.
Когда выхожу из ванной, Ласло сидит в общей комнате и тасует колоду карт. Я присаживаюсь напротив. Едва он заканчивает, я слышу, как по лестнице поднимаются люди. Входит Золт, строитель, мой загадочный родственник. Ему под тридцать, на нем пиджак с люрексом. За ним его жена Эйлин в платье с подкладными плечами. У нее буйная черная грива, необычайно высоко зачесанная надо лбом. На блузке не хватает пуговицы, так что виден ее бежевый лифчик. С шумными восклицаниями она меня обнимает, и я вижу, что на руках у нее бабушкины кольца.
Они, кажется, не особенно удивлены, увидев меня: должно быть, Жасмин им сказала по телефону. Никто не спрашивает, почему я сегодня не в школе. Пока Эйлин готовит ужин – до меня доносится запах вареной капусты, – Золт идет в общую комнату и включает телевизор, чтобы посмотреть новости. Садится он в мягкое кресло, где любил сидеть дедушка.
Телевизор работает тихо, и я не слышу, что говорит дикторша, но вижу красочный заголовок через весь экран: «В СИ-КЛИФФЕ ИСЧЕЗ ЕЩЕ ОДИН РЕБЕНОК!»
Значит, Кита так и не нашли? Я сильно моргаю. А в следующую секунду вижу на экране знакомое лицо. Это же я! Мое фото из прошлогоднего школьного альбома. На фотографии я стою перед кустом, где мы в «Спрэгг» ловим бабочек. Целая минута требуется мне, чтобы сообразить, о чем рассказывают в новостях: это я пропала, а не Кит! Я пропала. Еще секунда – и этот сюжет позади, и я сменяюсь аварией на шоссе.
– Юлаби! – кричит Золт.
Я поворачиваюсь к нему, но заговорить не могу. Никогда бы не подумала, что так быстро окажусь в телевизоре.
Ласло поворачивается ко мне:
– Тебе лучше позвонить родителям.
– Ладно, – говорю я. – Где у вас телефон?
Ласло ведет меня на кухню; Золт и Эйлин уже сидят здесь за столом. Телефон висит на стене, рядом с хлебницей. Я снимаю трубку.
– Что это ты делаешь? – спрашивает Эйлин с такой тревогой, словно я достала пистолет.
– Ей надо позвонить домой, – говорит Ласло.
– Не надо, – подумав, отвечает жена Золта. – Мы все еще платим за телефон по тарифу твоей бабушки. Всего три звонка в месяц.
Я помню эту систему. Чтобы позвонить родителям от бабушки, надо было набрать номер, прождать два гудка и повесить трубку. Это был сигнал: родители понимали, что это я, и перезванивали. Может быть, и сейчас так сделать – набрать номер и повесить трубку после двух гудков? Но ведь сейчас они не ждут, что я позвоню от бабушки. Как они поймут, что это я?
– Может быть, дадите ей позвонить всего один раз? – спрашивает, прочитав мои мысли, Ласло.
– А на фига? – отвечает Золт. – Пускай твой папаша попотеет. Мы от него ни гроша не видим. Пусть хоть телефон нам оплатит, это-то он может себе позволить.
– Да вы рехнулись, – говорит Ласло. – Юлаби уже по телевизору показывают! Джо и Грета наверняка думают, что ее похитили или убили.
– С ней же все хорошо! – отвечает Эйлин. – Ничего страшного, позвоним им позже.
– А копы? – настаивает Ласло. – Копы ее ищут.
– Да и хер с ними! – подытоживает Золт.
Эйлин разливает по тарелкам капустный суп и ставит на стол. Стол слишком большой для такой маленькой кухни, и стульев здесь слишком много – негде повернуться.
– Присаживайся, Юлаби, – говорит Золт, указывая на единственный свободный стул.
Я опрометью выскакиваю из дома, слетаю с крыльца и бегу к остановке, где уже ждет меня автобус, чтобы отвезти домой.
28
Я пересаживаюсь, выхожу на Двадцать пятой авеню – и, подходя к своему дому, вижу возле него два телевизионных фургона. Свет в доме не горит, но я уверена, что родители дома. Перед пальмой стоит дикторша, ведет прямой эфир. Я поворачиваюсь, бросаюсь бежать – и не останавливаюсь до самой балетной школы.
Открываю дверь во флигель – и вижу, что на диване кто-то сидит. Я визжу.
– Отлично сработано! – говорит Мария Фабиола. – Не подозревала, что ты тоже жаждешь славы!
Страшно, что в моем убежище чужой. Страшна и сама Мария Фабиола: сейчас она кажется мне огромной, словно волк из детской сказки.
– Что? – говорю я, закрывая за собой дверь. – Ты не понимаешь, все совсем не так!
– М-м, ну и зачем тогда ты здесь прячешься? – интересуется она, обводя комнату рукой, словно желая напомнить мне, где я оказалась.