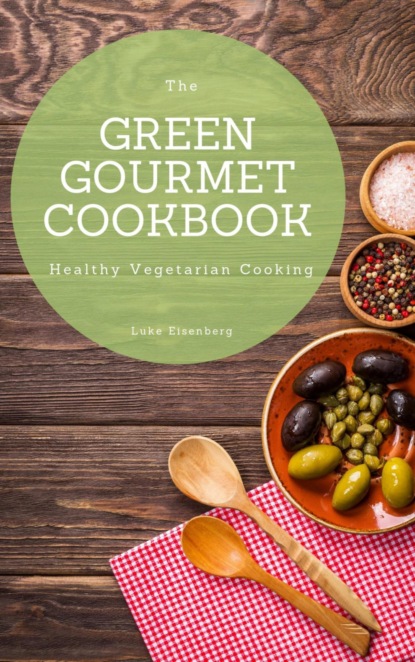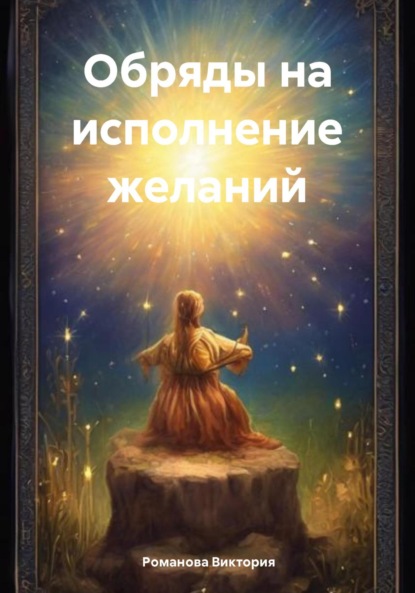На гребнях волн

- -
- 100%
- +
– Мы тоже.
– Конечно, – говорю я. – Я хотела…
– Юлаби, Мария Фабиола сейчас ни с кем не разговаривает, – говорит он. Голос у него всегда был мягкий, вкрадчивый, словно у гипнотизера. – Но я обязательно ей передам, что ты думаешь о ней. Для Грейс тоже будет очень важно, что ты позвонила.
Не сразу я соображаю, что Грейс – это мать Марии Фабиолы. А ей-то почему важно? Мария Фабиола что-то говорила ей обо мне?
– Хорошо, – говорю я. – Что ж, пожалуйста, передайте привет и Грейс тоже. С Новым годом! – И вешаю трубку, чувствуя себя дурой.
* * *В первую неделю января возобновляются занятия. В первый день я иду в школу, как обычно, одна. Вижу, как впереди шагают Джулия и Фейт. Марии Фабиолы с ними нет. Может быть, появится позже, думаю я. Она ведь теперь знаменитость.
Но, войдя в аудиторию, где проходит утреннее собрание, я вижу Марию Фабиолу в первом ряду: слева ее мать, справа мистер Мейкпис. Собрание начинается, и мисс Кейтениз, завуч старших классов, объявляет: «в свете недавних событий» мисс Росс, школьный психотерапевт, будет работать почти полный день. Мисс Росс в очках и в платье с лимонами поднимается на сцену, говорит: «Просто хочу, чтобы вы знали: мне можно доверить любые ваши секреты», – кажется, хочет сказать что-то еще, но, помолчав, уходит.
В течение всего собрания мои одноклассницы украдкой посматривают на Марию Фабиолу, а она смотрит в окно. Мне вспоминаются внешкольные занятия, на которых одна девочка вот так же, не отрываясь, смотрела в окно; в это время разводились ее родители. И вдруг я вспоминаю: эти занятия проходили в доме у Марии Фабиолы.
Мисс Мак сейчас болеет, так что биологией мы все занимаемся в одном классе и с незнакомой учительницей. Мария Фабиола по-прежнему смотрит в окно. Где-то в середине урока учительница подходит к Марии Фабиоле, становится между ней и окном.
– Сколько хромосом содержит в норме каждая клетка человеческого организма?
– Я не обязана отвечать, – говорит Мария Фабиола.
– Прошу прощения?
– Полиция говорит, я не обязана отвечать на вопросы, от которых мне становится не по себе.
Учительница хмурится, щурит глаза, и вдруг… бам! С точностью до мгновения я вижу, как она узнает Марию Фабиолу – ту девочку, что видела в новостях. Глаза ее расширяются, она выпрямляется.
– Разумеется, – говорит она. – Конечно, ты не обязана отвечать.
И задает тот же вопрос Стефани, которая живет на Пресидио-Террас, по соседству с Дайаной Фейнстейн.
– Очень хорошо, – говорит она, хотя Стефани ответила неверно. Учительница не сводит глаз с Марии Фабиолы – и, как и все вокруг, ничего и никого, кроме нее, не замечает.
Особенно меня.
* * *После возвращения Марии Фабиолы проходит несколько недель, но Си-Клифф не покидает сдержанное, молчаливое оживление. Садовники подстригают кусты и живые изгороди куда более рьяно, точно рассчитанными движениями; хозяева собак гуляют с ними дольше и на более длинных поводках; почтальон разносит письма и посылки с новой энергией, часто насвистывая при этом какой-то старомодный мотивчик.
Каждый день я иду из школы прямо домой, чтобы перехватить почтальона прежде, чем вернется с работы мама. Он появляется перед нашим домом в 15:15, а мама обычно оставляет свой велосипед в саду в 15:25. Осознав, что в «Спрэгг» обречена на одиночество, я написала в несколько школ-интернатов, интересуясь, что требуется, чтобы туда поступить. Родителям пока ничего не говорила: не хочу, чтобы заранее знали, что я хочу уехать. Сначала посмотрю, где готовы меня принять, а потом постараюсь их убедить, что здесь моя жизнь стала невыносимой. Однако договариваться о переходе в другую школу надо до конца учебного года, так что мне приходится действовать быстро.
Однажды, вскоре после Нового года, почтальон, с этой новообретенной энергией взбежав по ступеням, протягивает мне кремовый конверт, на котором каллиграфическим почерком надписано мое имя. В конверте приглашение на праздник «в честь благополучного возвращения Марии Фабиолы». Вечеринку устраивает ее крестная, состоится она в пятницу вечером. Никогда еще я не получала таких приглашений – с моим именем, написанным от руки, и с вложенной в конверт открыткой для ответа. Я оставляю приглашение на мраморном столике в прихожей – там, куда кладу всю корреспонденцию, которую хочу донести до мамы, но не хочу передавать ей из рук в руки. Например, оценку за сочинение по Сэлинджеру.
– Что ж, это мило, – говорит мама.
Она стоит на пороге моей спальни с приглашением в руке. Я на кровати, читаю Кундеру.
– Странная идея для вечеринки, тебе не кажется? – спрашиваю я.
– Так ведь и обстоятельства необычные, – отвечает мама.
– Да, наверное, ты права. Когда в магазине смотришь на стойку с открытками, там есть разделы «день рождения», «юбилей» и так далее, а вот раздела «возвращение тех, кто пропадал без вести и считался погибшим» нет…
И я улыбаюсь, надеясь, что мама рассмеется в ответ. Но она, наклонив голову, серьезно смотрит на меня.
– Я хочу пойти, – говорю я. – Просто не знаю, хочет ли она меня видеть.
– Разумеется, хочет!
Я упираюсь взглядом в стол так, словно заметила там невесть что интересное. Родители не знают, что Мария Фабиола после возвращения ни разу со мной не разговаривала. Впрочем, до возвращения тоже. Всего три с половиной месяца молчания.
– Мне кажется, это ее мама решила меня пригласить, – говорю я.
– Значит, сходи ради ее мамы. Мы, к сожалению, не сможем выбраться, – добавляет она, – у твоего папы в этот вечер серьезный аукцион. В галерею придет Дэнни Гловер!
– По-моему, вас и так не приглашают. Ведь приглашение адресовано мне.
– Хм, – говорит мама. – Ну что ж, почему бы тебе не ответить прямо сейчас, пока не успела передумать?
– Ладно, – говорю я.
Не могу понять, откуда она это знает: что сейчас я хочу пойти, но боюсь, что завтра передумаю?
– И вот еще что, Юлаби, – говорит она. – Я тут подумала: балетом ты больше не занимаешься, в школу танцев тоже не ходишь – может быть, тебе заняться чем-нибудь еще?
Я опускаю глаза на книгу, которую читаю, и говорю:
– Я хочу выучить чешский язык.
– Чешский? – переспрашивает она.
– Угу, – говорю я.
Мама смотрит на меня так, словно хочет что-то сказать, но решает промолчать. Просто кивает и выходит из комнаты.
– Открыть или закрыть? – спрашивает она про дверь.
– Закрыть, – отвечаю я, просто чтобы еще раз испытать новообретенную власть над родителями, которые теперь очень стараются меня не расстраивать.
Я читаю еще минут десять, а потом сажусь за открытку с ответом. Очень, очень аккуратно вписываю свое имя. Ответ: «Да, я обязательно приду!» уже впечатан, и напротив него квадратик. Этот квадратик я старательно закрашиваю, словно выбираю правильный ответ на контрольной.
Выйдя, чтобы бросить открытку в почтовый ящик, вижу Кита. Едет по Лейк-стрит на скейтборде, один.
– Привет, Кит! – зову я, но он не отвечает.
Черт, думаю я. И он против меня! Но тут он поворачивается, и я замечаю у него на поясе ярко-желтую коробочку «Уокмена». Так он в наушниках! Подхожу ближе: он смотрит на меня и машет рукой, а потом сдвигает наушники и вешает на шею.
– Привет, – говорит он. – Куда идешь?
– Письмо отправить, – отвечаю я.
– Это насчет вечеринки в честь Марии Фабиолы? – спрашивает он, кивнув на открытку у меня в руке.
– Ну да, а ты идешь? – Очень надеюсь, что голос у меня не дрожит от радости.
– Не знаю. Спрошу у родителей, когда они вернутся. Вроде мы в эти выходные должны ехать на свадьбу.
– Куда?
– В Йосемити.
– Зимой?
– Ну да. Мы же не в палатке будем жить. Остановимся в том отеле, в «Авани».
– «Авани»? Это где снимали «Сияние»?
Я жду, что он, как большинство мальчишек на его месте, ответит: «Ага, круто, правда?» – но вместо этого он разделяет мои чувства.
– Немножко жутковато от этого, верно? – говорит он.
Я киваю.
– А тебе не кажется, что это странная идея – устраивать такую вечеринку? – спрашивает он. – То есть я, конечно, рад, что похитители ее вернули, но просто… что там должно быть, на такой вечеринке? Какие подарки дарить гостям?
– Может, подарят повязки на глаза, – отвечаю я.
Секунду он молча смотрит на меня. М-да, чувство юмора у меня определенно не для всех. Но затем Кит улыбается.
– Или чемоданы наличных!
– А за нее просили выкуп? – спрашиваю я. – И ее родители заплатили?
– Не знаю, – отвечает он. – Но почему еще она вдруг вернулась домой?
– Как ты думаешь, сколько они заплатили? – спрашиваю я. – Сколько это может стоить?
– За наследницу-то? Порядочно.
Мне хочется поделиться своей теорией, что Марию Фабиолу никто не похищал, что она «исчезла» нарочно, но я решаю, что сейчас не время. У меня слишком мало доказательств; точнее, никаких доказательств нет. И потом, надоело, что все разговоры вокруг только о Марии Фабиоле. И так уже несколько месяцев. Даже когда кажется, что говорят о чем-то другом – на самом деле это о ней. И когда родители спрашивают, во сколько я вернусь домой, и когда учителя желают нам «безопасных выходных» – все это о ней, все из-за нее.
– А что ты слушаешь? – спрашиваю я.
– «The Furs», – отвечает он. – Любишь их?
Несколько месяцев назад я бы соврала – ответила бы «еще как люблю», хотя даже не знаю эту группу. Но теперь я хочу вести себя по-другому. Хочу быть другой.
– Я их не знаю, – отвечаю я.
И жду, что он нахмурится, скажет: «Как не знаешь?!» Но вместо этого он снимает с шеи наушники и пристраивает мне на голову. Нажимает на «Уокмене» кнопку «Play» – и я слышу хрипловатый голос с британским акцентом, поющий о том, что пора проглотить слезы и снова начать улыбаться.
Я молча снимаю наушники и протягиваю ему.
– Не понравилось?
– Нет, понравилось. Очень. – Я не могу признаться в том, почему поскорее сняла наушники; эта песня так внезапно и сильно меня тронула, что я побоялась прямо тут, на месте, разрыдаться.
– Отличная группа! – говорит он.
– Ага, – соглашаюсь я. И, боясь, что сейчас все испорчу, добавляю торопливо: – Ладно, я лучше пойду.
* * *В тот вечер я до ночи читаю «Невыносимую легкость бытия». Сцену с котелком – ту, где Сабина соблазняет Томаша в своей пражской квартире, обнаженная, в одной только шляпе-котелке. Интересно, как выглядит котелок? Надо будет поискать такую шляпу в следующий раз, когда попаду в секонд-хенд в Хайте. Точнее, когда попаду тудаодна. Мне становится жаль себя, а потом еще сильнее – оттого, что понимаю, что жалею себя. «Жалея себя, достигаешь нового дна», думаю я – и, сев за стол, немедленно записываю эту фразу в дневник. И решаю, что читать Милана Кундеру оказалось очень полезно. Он будит мысль.
Уже после одиннадцати вечера кто-то звонит в парадную дверь, и я сажусь в кровати. Кто бы это мог быть? В парадную дверь нам звонят очень редко, чаще всего коммивояжеры. Почти все наши друзья заходят в дом черным ходом.
Я выхожу на лестничную площадку и, свесившись через перила, смотрю вниз. Мама разговаривает по-шведски с какой-то блондинкой. Мне видны только их белокурые макушки; стоят голова к голове, но говорят громко. Похоже, что-то случилось. Я достаточно общалась с мамиными подругами и отметила достаточно дней святой Люции, чтобы кое-что понимать по-шведски, однако бегло на этом языке не говорю. Сейчас до меня снова и снова доносится «мьолк», что означает «молоко» – но совсем непонятно, почему молоко вызвало такую бурную дискуссию. И при чем здесь пара чемоданов у дверей.
Спускаюсь вниз и выхожу в прихожую, театрально протирая глаза, словно только что проснулась. Быть может, говорю себе, я прирожденная актриса.
– О господи, мы тебя разбудили? – говорит папа.
– Все нормально, – успокаиваю его я.
А затем поднимаю глаза на белокурую гостью так, словно только что заметила ее присутствие.
– Здравствуйте, – говорю я. – Кто вы?
– Я Ева, – отвечает она. – Пишется с двойным «в», но произносится как с одним.
– А я Юлаби, – отвечаю я. – И еще не придумала, как представляться, чтобы мое имя сразу запомнили.
– Не беда, придумаем вместе! – отвечает она.
По-английски она говорит бегло, с легким британским акцентом. Значит, училась в хорошей школе. И она гораздо моложе, чем показалось мне сначала. Сверху Ева выглядела пухлой и немолодой, но теперь, стоя напротив, я понимаю, что ей лет двадцать с небольшим. Должно быть, она…
– Ева здесь по обмену, – объясняет мама. Я уже это поняла.
–Была по обмену, – уточняет Ева.
Одна из неофициальных маминых обязанностей в шведской общине – помогать шведкам, приезжающим сюда по обмену. На случай, если произойдет какая-нибудь неприятность, им дают мамин телефон. А с Евой явно случилась неприятность! Только никак не могу понять какая – они продолжают оживленный разговор по-шведски.
Папа в шлепанцах переминается с ноги на ногу, прочищает горло.
– Прошу прощения. Может быть, выпьем чаю? – предлагает он.
Папа говорит только по-английски, и присутствие в доме иностранцев (в нашем случае это всегда шведы) подсознательно пробуждает в нем британский акцент и пристрастие к чаю.
– А он без кофеина? – спрашивает Ева.
Родители смотрят друг на друга. Как видно, им никогда не приходило в голову проверять, есть ли в чае, который они пьют поздно ночью, кофеин.
– Я проверю, – говорит наконец папа и уходит на кухню.
В присутствии красивых женщин он часто начинает хлопотать по хозяйству. Еву, пожалуй, красивой в полном смысле не назовешь, но она определенно останавливает на себе внимание. У нее широкое круглое лицо, неожиданный (для зимнего Сан-Франциско) загар. Она пухлая, с заметными округлостями. В белых брюках, какие любят все шведки. Американки с таким типом фигуры обычно белые брюки не носят. Может быть, это уловка, думаю я; может быть, глядя на белые брюки, люди должны думать: «И вовсе она не полная!» У нее яркие синие глаза и вьющиеся волосы до плеч. Должно быть, перманент, думаю я. Все мои шведские кузины ходят с перманентом.
Мама с Евой разговаривают еще с минуту; я понимаю только слова «Damernas Värld»[3] – название женского журнала. Он мне знаком: в корзине у нас в ванной лежит толстая стопка старых номеров. Уезжая «домой на каникулы», шведки, живущие в Америке, непременно прихватывают оттуда столько номеров «Damernas Värld», сколько смогут увезти.
– Ах да, с тобой лучше говорить по-английски, – замечает Ева, явно недовольная тем, что я не говорю по-шведски. Шведы вечно этим недовольны.
– Я учу чешский, – сообщаю я.
Возвращается папа с чаем на подносе, и мы идем в гостиную. Из этого можно понять, что родители считают Еву полноценной гостьей – кого попало в гостиную не водят. Сейчас там холодно, из широких окон сквозит.
– Так что вас к нам привело? – спрашиваю я самым светским тоном.
– Пролитое молоко, – отвечает Ева.
– Ева присматривала за детьми по обмену в одном доме на Лейк-стрит, – поясняет мама. – Старшую девочку зовут Максин. Ты ее знаешь?
– А в какую школу она ходит? – спрашиваю я.
– В «Вайнер», – отвечает Ева. – Она в восьмом классе.
«Вайнер» – еще одна женская школа. Мы с девчонками из «Вайнера» иногда соревнуемся в спортивных играх и вечно соперничаем из-за мальчиков, так что о любой из них много можем наговорить!
– Кажется, знаю, – отвечаю я, умолчав о том, что Максин выгнали из школы танцев, да и вообще репутация у нее еще та.
– Максин немного… трудная девочка, но сердце у нее доброе, – говорит Ева. – А вот ее отец… о нем этого не скажешь. Сегодня он решил перекусить перед сном и пролил на пол целый галлон молока. Моя комната возле кухни: он позвал меня и приказал вытереть молоко.
– А это не ее работа, – поясняет мне мама.
– Да, в мои обязанности это не входит. Если бы молоко пролил кто-то из детей, быть может, я и должна была бы прибрать – но я не обязана прибираться за ним!
– А почему он пил молоко? – спрашиваю я.
– Это не важно, – отвечает она.
– Ладно, – говорю я.
Такой ответ подтверждает мою гипотезу: не молоко он там пил, а что-то покрепче. С какой стати еще отвечать «это не важно»? Да и она, скорее всего, не сидела у себя в комнате, а выпивала с ним вместе. Однако я не в том положении, чтобы излагать здесь свои теории.
– Пожалуй, тебе пора в постель, – говорит мама.
– Ладно, – отвечаю я. – До завтра.
Я лежу без сна в своей кровати с пологом – и час спустя слышу, как папа относит чемоданы Евы в комнату, соседнюю с моей, ту, что называется «игровой», хотя в ней никто ни во что не играет. Для этого в ней слишком чисто, она слишком официально обставлена. Там стоит складная кожаная кушетка персикового цвета; на ней иногда ночуют гости. Странный выбор для гостевой спальни: ведь эта комната проходная, мне нужно пройти через нее, чтобы попасть в свою. Сейчас я слышу, как Ева устраивается на кушетке. Стонут пружины – и она громко вздыхает им в лад.
Утром я тихонько прокрадываюсь мимо Евы. Она сняла матрас с кушетки на пол и спит лицом вниз, раскинув руки и ноги буквой Х, а на позолоченной дверной ручке висят ее белые брюки.
18
После очередного долгого дня, когда никто в школе меня не замечает, я возвращаюсь домой – и вижу, что в гостевой спальне сидит Ева и нанизывает бусины на проволоку.
– Что это вы делаете? – спрашиваю я.
– Сережки, – отвечает она. – У тебя уши проколоты?
– Да, в правом ухе одна дырка, а в левом две. Вторую я сама сделала!
– Ух ты! – говорит она. – Молодчина!
– У меня свой бизнес по прокалыванию ушей, – сообщаю я. – Прокалываю уши – девочкам, мальчикам, всем, кто попросит. Стерилизую иглу, а потом прикладываю лед.
«Бизнес» – это, конечно, громко сказано. Всего я проколола три уха, по пять долларов каждое. Одним из них было ухо Марии Фабиолы.
– Впечатляет! – говорит Ева. – И очень хорошо, что стерилизуешь иглу.
Так и думала, что ей это понравится. Все шведы помешаны на санитарии и стерилизуют все и вся.
– Может быть, и мне как-нибудь ухо проколешь? Я хотела бы сделать еще одну дырочку. – И Ева, наклонив голову, показывает мне, где хотела бы проколоть мочку.
– Будет красиво, – говорю я.
Смотрю, как Ева продевает проволоку сквозь легкую голубую бусину, и думаю: интересно, что же она будет делать теперь, потеряв работу по обмену?
– Юлаби, у тебя есть парень?
– Сейчас нет.
– А есть кто-то, кто тебе нравится?
– Ага.
– Так сделай его своим парнем!
Я испускаю смешок.
– Как это можно сделать?
– Ну, для начала пригласить его на свидание. Есть у вас что-то общее? Что-то такое, что вы оба любите?
– Мы оба любим музыку. Ту группу, что называется «The Furs».
– А, «The Psychedelic Furs»! – Ева останавливается и поднимает голову.
– Ну да, – отвечаю я, надеясь, что это та же самая группа.
– Знаешь, я недавно видела, что они скоро будут выступать в Сан-Франциско.
– Правда? – спрашиваю я.
– Правда. Так что достань билеты и пригласи его.
– Не знаю, – говорю я. – Мне кажется, это как-то… ну, как-то уж слишком!
– Вот что я сделаю, – говорит она. – Куплю два билета, а ты ему скажешь, что у одной твоей старшей подруги – всегда хорошо иметь старшую подругу, это впечатляет и дает ему понять, что ты и сама уже не маленькая – так вот, у старшей подруги нашлась пара лишних билетов на концерт «The Furs» и она отдала их тебе.
Что-то взмывает в груди и щекочет подошвы, словно я вот-вот взлечу.
– Вот это будет круто! – восклицаю я и смотрю на Еву, фею пролитого молока, с новым для себя восхищением.
* * *На следующий день после школы нахожу у себя на столе пару билетов, сложенных знаком «победы». Концерт состоится в «Филморе». Я никогда там не была! Сердце колотится о ребра. Теперь – пригласить Кита. Потом убедить родителей, чтобы они меня отпустили. Да, и найти пластинки этой группы, чтобы знать побольше, чем полпесни.
Я снимаю школьную форму, натягиваю свои лучшие черные джинсы. Вокруг пояса повязываю за рукава черный свитер. Сверху на мне синяя толстовка с большой декоративной пуговицей под горлом. Неплохо! – думаю я, разглядывая себя в зеркале на двери. Слишком внимательно не вглядываюсь – ровно настолько, чтобы удостовериться, что недурно выгляжу. Излишнее внимание к своей внешности, как я уже убедилась, на пользу мне не идет. Наклеиваю на пятки пластырь, а затем влезаю в «мартенсы» – неновые, но еще не разношенные. «Мартенсы» – для вечеров и выходных. В «Спрэгг» в них ходить не разрешают.
Иду на Калифорния-стрит, чтобы оттуда доехать на автобусе с пересадкой до магазина, где обычно покупаю грампластинки. Надеюсь увидеть Кита на скейте, но его нет. Дожидаюсь автобуса и проезжаю четыре квартала, но затем решаю взять у водителя пересадочный талон и выйти. В этом автобусе совсем нет мальчишек. Сжимая талон в руке, жду на остановке четверть часа, пока приезжает следующий – и оказывается, что подождать стоило! В этом автобусе я вижу Акселя Валленберга. Он меня не знает, а вот я знаю, кто он – тоже швед и наши мамы знакомы. По моему убеждению, Аксель настоящий красавец, да к тому же необычный, глубокий человек.
Красота Акселя заметна сразу, а вот душевная глубина не бросается в глаза. Но я не сомневаюсь, что она есть – ведь мне известна тайна его семьи! В прошлом году, в седьмом классе, я писала сочинение о Рауле Валленберге и с тех пор его обожаю. Во время Второй мировой Рауль Валленберг спас сотни евреев: приехал из Швеции в Венгрию и выдавал евреям фальшивые шведские паспорта. Но потом, в 1945 году, его арестовало русское КГБ. Русские говорят, что его расстреляли в сорок седьмом, но тела так никто и не видел. Многие не верят, что Валленберг умер. И я, пожалуй, тоже. Лично я подозреваю, что Аксель Валленберг, едущий сейчас со мной на первом номере, – его внук.
На Пресидио мы пересаживаемся на сорок третий номер, идущий в Хайт. Аксель с друзьями сидит сзади, я в середине. Держу на коленях «Невыносимую легкость бытия» и не забываю переворачивать страницы, чтобы, если кто-нибудь на меня посмотрит, он не сомневался, что я в самом деле читаю. Но никто не смотрит. Я прислушиваюсь к разговору мальчишек – как обычно, он крутится вокруг Марии Фабиолы. Но вот что интересно: Аксель говорит, что тоже пойдет на эту ее вечеринку!
– Давай, подсыпь им слабительного в салатики! – говорит один из его друзей.
– Точно, и подлей спиртного в компот! – добавляет другой, у которого волосы подлиннее.
Уже вблизи Хайта, выглянув в окно, я вижу девушку с волосами мышиного цвета, в розовом меховом жакете, клешах и круглых очках. Она разговаривает с двумя мужчинами намного ее старше. У одного ботинки на высоких каблуках, другой в коричневой кожаной куртке и круглой вязаной шапке.
– Глядите-ка! – говорит один из друзей Акселя. – Это та долбанутая, что голой на турнике качалась!
Все выглядывают в окно.
– Наркоша конченая, – говорит второй друг.
– Да, с головой у нее точно непорядок, – говорит Аксель. – Но мне ее жаль. Ее мамаша бросила и умотала в Африку.
«В Индию!» – хочу поправить я, но вовремя останавливаюсь. Незачем им знать, что я слушаю их разговоры.
Доехав до Хейта, все мы выходим. Парни сворачивают налево, к табачным лавкам, где возле парковки продают с рук марихуану. Я поворачиваю направо, к более крупным магазинам. Прохожу мимо нескольких оборванцев с собаками. Похоже, еще недавно они ездили в летние лагеря – у некоторых на запястьях ветхие, пожелтелые скаутские браслеты, – а теперь сидят перед магазинами и просят милостыню.
В магазине грампластинок полно народу, в основном парни лет на пять постарше меня. Девушка только одна, да и она здесь со своим кавалером. Я просматриваю уцененные пластинки, но той, что мне нужна, среди них нет, так что отправляюсь в отдел «Новые записи». Вот они – «The Psychedelic Furs»! Два диска. Нет, даже три! Не знаю, за какой хвататься. Пожалуй, я могу себе позволить только один. В марте день рождения Свеи, и деньги лучше приберечь, чтобы купить ей что-нибудь, что она через неделю сунет поглубже в шкаф и забудет.
Я выбираю самый свежий альбом: на обложке – человек с рыжеватыми волосами и в голубом смокинге. Держу пластинку в руках и смотрю на этого незнакомца нежно, словно в лицо любимому.
Лысеющий мужчина в футболке с «Blondies» (надеюсь, это ирония?), стоящий за кассой, кивает, когда я протягиваю альбом.
– Классный выбор! – говорит он.
Я не знаю, что ответить: «спасибо» прозвучит как-то глупо. Вместо этого стараюсь взглядом выразить: «Еще бы!» Кладу пластинку в ярко-желтый фирменный пакет и выхожу на улицу, стараясь не размахивать руками, чтобы никого не задеть.
В витрине соседнего магазина стоит манекен, облаченный в черное платье в белый горошек. Повинуясь какому-то импульсу, я вдруг захожу туда.