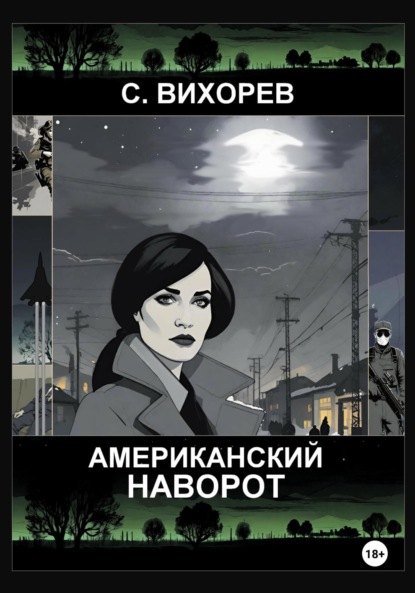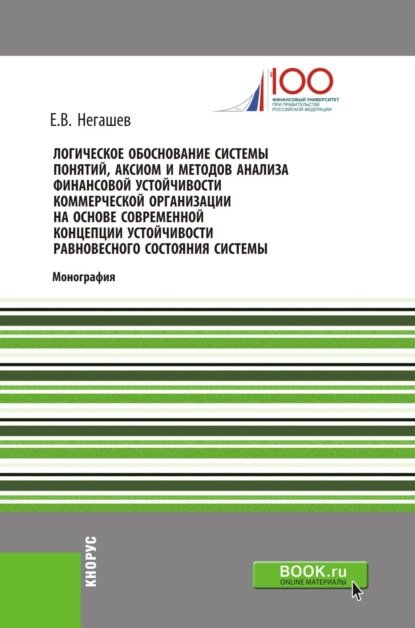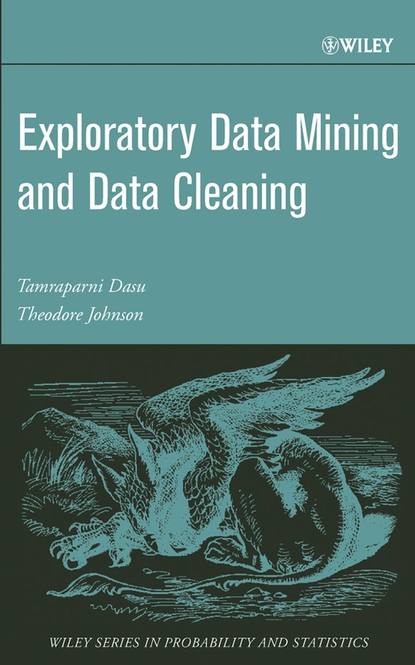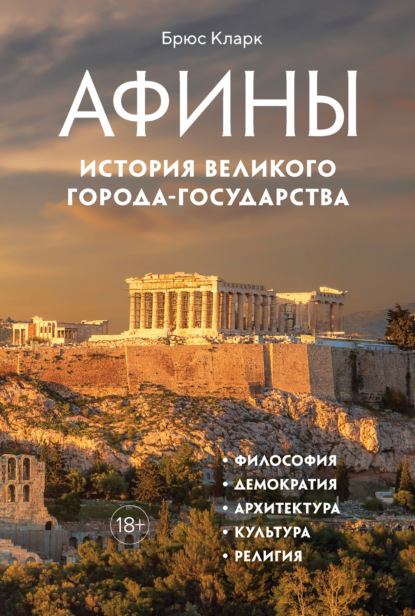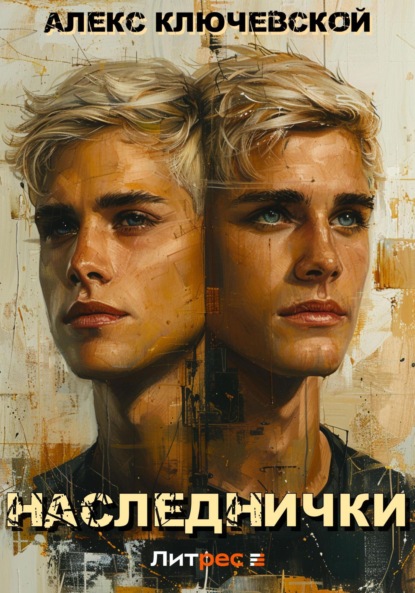- -
- 100%
- +
На плакатах конечно все выглядело круто и харизматично, но для себя Драгович формулировал положение вещей именно так – с хомячками и крысками которые должны бегать в колесе как положено – несколько раз он с издевкой делился своими соображениями с друзьями еще дома. Здесь, среди местных это было не так актуально. Да и язык раньше времени распускать не стоило. Полтора месяца всего здесь.
Ниже, под ровными рядами были наклеенные вразноброс листы с рекламой и объявлениями. Тут были и скупка металлолома и мебели и автосервис. Последний снабдил свой листок изображением суперкара, каких в городе, возможно, и в мирное время не бывало. Про свой город Драгович мог точно сказать, что таких тачек там не бывало и до войны.
Еще была распечатка с изображением российского политика Лебедева – спикера Парламента, которого здесь очень не любили – все потому что он сам не любил SSSF, причем в целом, независимо от берега. Кто-то отредактировал картинку, небрежно от руки нарисовав на голове Лебедева огромный презерватив. В руку, которую произносящий речь Лебедев вытянул вперед, был вложен резиновый член.
Дальше пошли плакаты, нарисованные уже более профессионально.
Таким, например, был вытянутый по горизонтали плакат с видом, как можно было догадаться, на правый берег. На случай, если кто-то не понял бы, была полупрозрачная наложенная надпись, которая непосредственно и указывала – "Правый берег".
Поверх пейзажа с его поясняющей надписью было наложено три рядом расположенных круга, являвшихся видами в оптический прицел, каждый из которых, из этих прицелов, смотрел на какого-либо "врага народа", то есть представителя правобережных.
Первым из таких врагов был бледный, с крысоподобным лицом ,упырь в галстучке и в очках. Судя по надписи это был "Нациствующий Интеллектуал" – это было написано крупным шрифтом. Мелким же разъяснялось, что он был предателем российского народа, перебежчиком, очевидно, на правый берег, и, самое интересное, животным без принципов.
Во втором прицеле был свиномордый, вместо носа был свиной пятак, тип в каком-то мундире, не то военном, не то полицейским. Оказалось второе. Согласно надписям это был "Мусор-полицай", снова "Перебежчик", "Предатель народа России", "Бандитский прислужник", "Агрессивное и тупое животное".
– Опять животное, – подумал Драгович, сам когда-то служивший в своей полиции, – Резко же они про своих… оппонентов с другого берега.
В третьем прицеле был мордатый жлоб в явно дорогом костюме, перемазанном кровью.
Надпись гласила :"Шайка правобережных главарей состоит из воров, убийц, баринов-кровопийц. Если окажешься рядом – убей! Увидишь в прицел – убей! Попадешь в плен – убей!"
– Попадешь в плен – убей? Это как? – мысленно задался вопросом Драгович.
– Звездатые наши плакаты? Нравится? – вопросительно произнес за спиной Белобрысый.
– Особенно "попадешь в плен – Убей". Это как?
– Да вот так. Как в кино про войну с нацистами 1945 года. На самом деле конечно такое вряд ли кто-то здесь сделает. Но это чисто наше, российское. Я имею ввиду как киноштамп. В старых советских фильмах бойца сопротивления нацисты захватывают, шлеппан-фюрер его какой-нибудь допрашивает, а наш из последних сил ему в глотку вцепляется или башку ему сворачивает. Его конечно тоже убивают. Это такое… Из нашего кино.
– Ну такое не только в ваших фильмах было, только по идее партизан потом убежать должен и всю базу разгромить. Чтобы хэппи-энд был.
Дальше пошла вовсе невоенная тема – на прилепленной неподалеку распечатке был здоровенный детина, судя по военной экипировке и старательной ручной графике, положительный персонаж. Детина бил морду какому-то оборванцу, которого свободной от битья рукой держал за ворот. Рядом валялись битые бутылки и торчали ноги лежащего на земле, очевидно, приятеля оборванца.
Внизу был текст: "Алкоголик – бесполезное животное, балласт общества и вредитель. Порождает криминал, искалечил жизнь детям, жрет и гадит…"
– Увидишь – …".
– Увидишь – убей! – мысленно опередил прочитанное Драгович, но не угадал. Оказалось: "Увидишь – поставь тварь на место!". Пояснение как ставить на место, очевидно прилагалось, так сказать, в графическом виде.
На стене было еще много интересного, но послышался отдаленный стук колес. Драгович повернул голову и увидал приближавшийся к площадке трамвай, чей перед, как и у предыдущего, был окрашен в военный зеленый цвет с двумя серыми полосами.
Подъехавший трамвай был длиной во всю площадку, считай что целым поездом из трех вагонов, причем с переходами покрытыми резиновой гармошкой – рухлядью такой трамвай было не назвать. Окрашен он был, словно танк, причем российский – в вышеупомянутый зеленый цвет с светло серым логотипом городского транспорта левого берега, нанесенным довольно аккуратно, не в пример облепленному бумажками и обгаженному голубями павильону.
Вагон был полупустой – сидячих мест было полно. Драгович на всякий случай одернул куртку и застегнул ее повыше. Уж что-что, а светить в городском транспорте оружием было бы явно неприлично, пренебрежительно к гражданским, тем более что он, Драгович, пока еще никто.
Осенний солнечный свет приглушенно освещал салон сквозь тонированные окна и не создавал неудобств для просмотра того, что шло по одному из больших телевизоров, установленных вверху салона.
На экране мелькали кадры очередного из бессчетных выпусков "дня солдата", или, как его переводили с английского на русский "одного дня солдата". На этот раз было что-то про авиацию. Вскоре стало ясно, что речь шла о больших бомбардировщиках, тех, что летали в океанские рейды от континента к континенту.
Других дел сейчас не было, так что Драгович откинул голову и сосредоточил свое внимание на экране.
– В таких рейдах мы не летаем над магистралями – пояснял с экрана пилот-американец, – мы летаем группами, причем одна навстречу другой, от континента к континенту. В том рейде, про который мы расскажем, мы вылетали из Анкориджа и через два часа тридцать минут мы уже приземлялись в Австралии. Когда я говорю, что мы летаем группами, то это довольно условно – интервал составляет полторы-две тысячи миль.
На экране появилась карта с маршрутом, пролегавшим через океан от севера США до Австралии. Белобрысый затих и, как и Драгович, сосредоточил внимание на экране.
– Мощные машины! – все-таки произнес он.
– Километр в секунду, – согласился Драгович.
– Больше. Километр в секунду- это три шестьсот, а здесь четыре пятьсот с лишним. У большой авиации километры в час, а не узлы, – на экране в это время демонстрировали картинку с одного из дисплеев бомбардировщика.
– Самое неприятное – это когда противник запускает нам что-нибудь вдогонку, – продолжал свой рассказ американец, – я имею ввиду не столько ракеты, сколько гиперзвуковые дроны. Радиусы противовоздушной обороны мы обходим стороной, причем с достаточным запасом по дальности, но вот дроны, которые они запускают, способны лететь чуть ли не в течение часа. По сути это гиперзвуковой истребитель, который они могут отправить в один конец. Такая штука может прийти из удаленного сектора, повиснуть у тебя на хвосте и гнаться за тобой в течение получаса, при этом она будет медленно но верно тебя нагонять, а приблизившись может не поразить, как ракета, а выпустить с расстояния в несколько миль пару своих собственных ракет, а уж только потом добить своим собственным попаданием. В том рейде за одним из нас, за "вампиром 2-5" были отправлены два таких.
На экране показалась картинка с темно-сиреневым небом и белой, словно в тумане, землей. Посреди поля дисплея, на фоне сиреневого неба, отчетливо маячили две отметки, зависшие над горизонтом.
– Так они выглядели в поле обзора хвостового радара "вампира 2-5", бомбардировщика, который они намеревались поразить – прозвучал голос ведущего.
Что ни говори, а даже на седьмой год Войны такие фильмы-репортажи смотреть было небезынтересно.
– Шаттлы бы не просрали, так оно бы сейчас по-другому все пошло бы, – проговорил Белобрысый.
– Сейчас уже это особого значения не имеет, – ответил Драгович, – уже ракетодромы ведь давно построены.
– Это же были, старые Plane-шаттлы, – оживился Белобрысый, – Я никак не пойму, чего они возятся с этими рейдами на самолетах в четыре маха и хвалятся этим, когда были самолеты в двадцать махов, или какая там скорость для орбиты… V-шаттлы болтаются где-то по орбитам и гоняются за спутниками, а ведь были действительно крутые самолеты, которые могли запросто лететь вдвое быстрее этих рейдеров, а потом поддать газу и в космос выйти.
– У нас на каждой машине на борту есть арсенал A-A ракет, – послышался голос пилота, – это AIM-240 и тяжелые GBA AAM sys.260. "Двести сороковые" – это те, что вы можете видеть в арсеналах истребителей. В их, истребителей, классификации они также обозначены, как тяжелые ракеты большой дальности. "Двести шестидесятые" уже слишком велики для обычного истребителя.
– "Двести сороковые" могут быть выпущены самолетом по цели, которая его преследует – другими словами, они самостоятельно выполнят разворот, однако в этом случае они потеряют часть своей энергии, – продолжал свой рассказ пилот, – Мы говорим об энергии двигателя, которая в случае прямолинейного полета пошла бы на набор максимально возможной скорости и прыжок в стратосферу, возможно даже намного выше того уровня, на котором летит цель. На дистанциях близких к максимальной это оптимальная траектория – в этом случае ракета атакует цель, приходя сверху. Ехать под горку куда легче чем в гору. Поверьте, в случае с ракетой это работает также.
После того, как ракета выполнит разворот на шесть часов, она все еще останется опасной угрозой для любой авиации, летающей со скоростью ниже трех махов, другими словами, для любого истребителя, самолета дальнего воздушного боя или легкого рейдера.
Дроны же летают со скоростями выше пяти махов и поэтому у описанного предприятия по перехвату даже одного такого дрона в задней полусфере шансы на успех будут невысоки.
К счастью, наша тактика способна решить эту досадную проблему – парням в том самолете, за которым погнались два бандита "чинков" нужно было лишь не убавлять газ и держать свой радар на мерзавцах. Остальное было за нами, так как мы летели навстречу. Мы могли бы атаковать преследователей своими AIM-240 и мы бы так и поступили, не будь у нас наших "двести шестидесятых".
Если для того, чтобы открыть огонь "двухсот сороковыми", нам следовало бы выждать несколько минут, когда расстояние между нами и дронами сократиться, то "двести шестидесятые" мы могли запускать куда раньше. Нашим радаром в обоих случаях был бы хвостовой радар "Вампира 2-5". Он им и был.
– Вот так выглядят пуски ракет AAM-260, – объявил ведущий. На экране замелькали кадры открытия бомболюков, силуэты разных тяжелых самолетов и густые белые дымовые следы в почти черном небе.
Потом появился какой-то другой летчик и начал рассказывать, как все происходило с его точки зрения – это оказался пилот того самолета, который и был атакован.
– Вообще когда запускаешь ракеты на скорости в две с половиной тысячи узлов, то это выглядит и ощущается довольно необычно – продолжил вновь появившийся первый пилот, – Вначале ты слышишь работу механизации самолета, потом чувствуешь легкий толчок и больше ничего, никакого грохота.
Ракета в это время падает прочь от самолета вниз и только там включает свой двигатель. Но даже тогда ты ничего не услышишь – она должна уйти несколько вперед и охватить тебя своим конусом звуковой волны – вот только тогда ты слышишь ее грохот, правда, он быстро стихает.
Когда мы запускали первую ракету, расстояние между нами и целью было тысяча сто миль. Через небольшой интервал времени, когда наши "двести шестидесятые" были на полпути, мы выпустили еще пару "двести сороковых", но для них уже ничего не осталось. Обе ракеты GBA AAM sys.260 поразили свои цели.
– Бля-я-я, – вполголоса протянул Белобрысый, – Ты представляешь сколько одна такая "двести сорок" стоит.
– Наверно двести сорок и стоит, – усмехнулся Драгович.
– Ага, – согласился Белобрысый, – только чего?
– Самолет, который они спасали от дронов, стоит подороже. Плюс эти с летчиками летают.
– Тоже верно, – ответил Белобрысый чуть задумавшись.
Все это время трамвай ехал по эстакаде, проходившей примерно на уровне третьих этажей городских зданий. Дома были нетронутыми – это несмотря на то, что в восточной части города когда-то велись ожесточенные бои. Примерно через километр эстакада завернула направо, срезав угол над перекрестком и пройдя прямо над двором какого-то административного корпуса.
Пути перемахнули через речушку, а перед этим через ров, по которому проходила железная дорога. Тут, после речки, может даже после рва, начались дебри с заброшенными промышленными корпусами. Горизонт, западная его часть, был затянут полосой черных туч, словно надвигался настоящий шторм, однако, по словам Белобрысого, осенью в этих краях такие темные тучи были обычным делом и предвестниками шторма не являлись.
– Я думаю, – раздался с экрана голос пилота, – вам не терпится увидеть результаты нашей работы в тот день – вот они.
На экране появилась картинка с видом из маленького бокового окошка с толстенным стеклом. За окошком плыла белая туманная линия горизонта с ватными кучевыми облаками где-то в десятках километров. Небо было иссиня-черное. Чем-то это напоминало показанную ранее картинку с радара, но здесь цвета были куда сочнее.
Внезапно в центре картинки появилось маленькое белое пятно, а вся картинка разом потемнела. Пятно быстро разрослось в аккуратный белый шар, зависший над горизонтом. Некоторые из кучевых облаков одно за другим растворились в воздухе.
– Я, да и не только я, всегда стараюсь запечатлеть это, – пояснял тем временем пилот. Он оказался не пилотом, а оператором, отвечавшим за вооружения и запуски ракет.
– Обычные видеокамеры оптических систем, – продолжал он, – конечно же фиксируют и это и еще много чего, но я люблю делать съемку со своего места – это позволяет, как мне кажется, сохранить и передать атмосферу нашей работы, атмосферу моего рабочего места. Я специально убрал фильтр с окна – поверх крепится пластина оптического клапана, но вероятнее всего, она бы потемнела.
Как потом пояснили, этот мегатонный взрыв произошел на расстоянии в триста морских миль и вывел из строя элементы сети SAM/MDS, то есть ПВО/ПРО противника. Еще он "насмерть повредил", как иногда выражались, два эсминца и уничтожил воздушный узел связи, распределявший вражескую UCE, то есть вражеский "интерлинк". Для такой мощности заряда это было ничто, но дело было обычное. А ведь когда-то намеревались бить такими боеголовками по городам.
– Пару недель назад передавали, что в филиппинском море проломили ПРО, – проговорил Белобрысый, – похоже, это про тот случай и рассказывают.
Драгович повернул голову прочь от экрана. Там, за окном, тополя, торчавшие посреди разрушенных не то боями не то запустением бетонных коробок, сыпали желтой листвой.
Потом эстакада свернула направо и стала уходить в очередной городской квартал. На контрасте с происходившим на экране картина была умиротворяющая.
В окне показался вычурный комплекс высоких по здешним меркам зданий.
– Советские дома, сталинские, – прокомментировал Белобрысый.
– Сталинские? Это же сколько им лет? – с недоверием в голосе ответил Драгович.
– Да нет, их просто так называют, они внешним видом оригинальные сталинские напоминают. Да и внутри наверно тоже. В советские годы построены.
– Хорошие наверно.
– Не все, что советское хорошее, и не все что хорошее советское хорошо само по себе, – изрек Белобрысый.
– Не понял.
– Я имею ввиду, что они выпендриваться любили больше, чем это можно было себе позволять, – ответил Белобрысый, – где-то дома как дворцы украшали, а где-то люди в бараках жили, да и сейчас там же живут.
Отношение Белобрысого к советскому прошлому Драгович так и не выяснил – то он хвалил что-то советское отдельно взятое, то поносил уже все советское в целом последними словами. У самого Драговича отношение к ушедшей сверхдержаве было почтительное, несмотря на то, что его прадед будучи россиянином, как раз бежал из зарождавшегося Второго Союза. Так что Драгович на двенадцать с половиной процентов был Русским, чем пару раз похвастался. Никто, из местных, правда, всерьез этого не воспринял. Ну сказал и сказал.
Трамвай стало ощутимо потряхивать – рельсы, очевидно, долго не ремонтировались. По проспекту проезжали редкие легковушки и городские автобусы. Попадались и шнырявшие туда-сюда вездесущие военные грузовики, то с тентами, то с кунгами.
Проехав мимо вокзала со старинным черным паровозом, трамвай повернул направо. Это была развилка. Прямая часть линии поднималась на эстакаду и уходила дальше, судя по всему, в сторону правого берега.
Белобрысый эту догадку Драговича подтвердил: по той линии ходил другой маршрут, которому до закрытого моста ему еще было куда свернуть – в сторону промышленной зоны "Интер-Нитро".
Выбранная же трамваем-поездом ветка уходила в восточном направлении по широкому прямому проспекту, который назывался проспектом Ильича, понятное дело, название было с советских времен. Никакой эстакады тут не было.
После вокзала трамвай проехал еще пару остановок. На подъезде к третьей Белобрысый сделал знак Драговичу и двинулся к выходу.
Там где они вышли была еще одна развилка путей, проложенная на когда-то, надо думать оживленном перекрестке. Ответвление уходило, как и линия у вокзала на север, в сторону правого берега. В отличие от той, эта пребывала в полном запустении. Посреди рельсовых путей росли молодые клены, проезжая часть была изрыта котлованами, которые давно уже заросли высокой травой. Все указывало на то, что трамвайная линия, а то и вся улица была основной магистралью, ведшей в RBSF, но выяснилось, что это было совсем не так.
Пробираясь вместе с Драговичем через виляющую, бегущую сквозь то тут то там вымахавшие клены тропинку, Белобрысый принялся рассказывать историю этой улицы.
Запустение как рельсовой магистрали так и всей проезжей части, по словам Белобрысого, объяснялось тем, что в сто четырнадцатом году бывший мэр города затеял ремонт.
Удивительно, но он не выбрал лучшего времени, чем первый, самый тяжелый год Войны. В таком состоянии эта улица застала уже местную конфронтацию, осень сто четырнадцатого.
Прорвавшиеся в западную часть города без особых боев колонны расправились с работавшей здесь техникой. Оставалось только догадываться, насколько велика была угроза рабочим, но к тому времени они, понятное дело разбежались.
– А строители-то при чем? – с недоумением поинтересовался Драгович.
– Да кому они нужны, эти строители! Дело в технике. Конечно в рабочих бы никто не стал стрелять, а вот машины… Они же бизнесу принадлежали. Эти черти-то к тому времени уже кто на правом берегу, кто вообще за пределами страны был – до них не добраться было, так хоть барахло ихнее покромсали.
А не лучше ли их, эти машины было самим использовать? – продолжил сомневаться Драгович.
– Ясно что лучше, но тогда-то кто наперед мог знать, когда мы победим, как мы победим, в каком порядке освободим кварталы города и как быстро, – Белобрысый довольно ловко владел разговором, отчего не ставил более прямолинейный вопрос который звучал "победим ли мы".
– И вообще, – продолжил он, – не забывай, что мы – Народно-Анархистская Республика, так что нам так можно.
Название республики у Драговича вызывало легкое недоумение. Вообще в его представлении анархия выглядела несколько иначе, чем то что являла собой КАНАР. Республика конечно не была образцом общественного устройства и упорядоченности, но чего-то из ряда вон выходящего здесь не было.
По части того, что касалось технологий и оборонных систем здесь вообще шло самое настоящее развитие – не передовые технологии, как на Большом Фронте, но все же была своя противодронная оборона из скоростных дронов же и ракет, сеть ПВО, согласованная с силами блока и куча всяких подобных самоделок.
Все это строилось большими, четко организованным коллективами – по другому и быть не могло. Это было довольно странно для анархии.
По правую сторону постепенно открывался вид на какую-то площадь, загроможденную павильонами и контейнерами. Издали гулко ухала музыка. На высоком столбе мигал белый сигнальный фонарь – это означало, что все спокойно, как в плане угрозы от Азиатского Блока так и в плане угрозы провокаций с правого берега. В общем такая "антитревога".
Такое было только здесь, в Суперфедеранте, в LBSF, хотя кто его знает, может правобережные делали также. Смысл в этом был тот, что услышав какой-либо удар, можно было отыскать взглядом ближайший из многочисленных сигналов и, если тот продолжал мигать белым, можно было успокоиться – машина очень редко ошибается.
А звуки редкостью не были – были и "бумы" от сверхзвуковых штурмовиков, были и громоподобные пуски с противоракетных терминалов. Последние при безопасном для местных раскладе могли обстреливать какую-нибудь боеголовку, летевшую в пол-тысяче километров в район уже своей цели до которого была вся тысяча. Или ловить что-то летящее из Азии в Западную Европу – такое тоже бывало.
Имела место еще и разнообразная неагрессивная деятельность своих, LВSF и точно такая же внутренняя учебная работа RBSF. Все это постоянно выло, грохотало и сотрясало стекла. Мигающий белый фонарь в таких случаях говорил о том, что все это не опаснее грома в летний день.
Посреди площади высился памятник какому-то мужику, довольно сильно напоминавшему попа. Вдалеке, за площадью торчало старинное кирпичное здание с заплаткой в левом углу фасада. Заплатка занимала в высоту два этажа, а в ширину три окна, как обычно она была сделана из неровно выкрашенного листового металла.
– Вот он, центр снабжения, – махнул рукой в сторону здания Белобрысый.
Памятник оказался не попу, а какому-то средневековому путешественнику, который обнаружил, что в этих краях есть каменный уголь.
Со зданием оказалось еще интереснее – поднимаясь на широкое каменное крыльцо, Белобрысый заявил, что когда-то, точнее сказать, до четырнадцатого года, это была горнотехническая академия, которая еще раньше была университетом.
Войдя в двери, оба, Драгович и Белобрысый оказались в довольно просторном холле, заполненном суетившимися людьми. Люди были самые разные – мелькали и ополченцы в форме и одетые по-простецки гражданские. Попадались какие-то хмыри в пиджаках, а также какая-то уличная шушера вроде праздношатающейся молодежи. У стены был развернут столик, на котором пожилая тетка с загорелым дочерна лицом разложила пирожки и другую подобную жратву.
По левую сторону был еще один зал, отгороженный фигурной деревянной решеткой вверху и плетеной изгородью внизу. Грохотала музыка. По всей видимости, там был кабак. Происходи все это дома, Драгович решил бы, что там гуляет солдатня.
Вернувшихся с фронта и здесь хватало, но, в отличие от Европы, развязным фронтовикам здесь было особо не разгуляться – если в Европе они были, по большому счету, единственной силой, решавшей все свои вопросы напролом, то здесь было полно своих собственных военных – ополченцев. Так или иначе, жаждущие буйного отдыха фронтовики давно были вытеснены за пределы города по приспособившимся под их запросы загородным заведениям.
– Раньше, еще пару лет назад культурное место было, столовая муниципальная, дешевая, а теперь черт знает что устроили – махнул рукой в сторону изгороди Белобрысый.
– А с университетом-то что стало? – спросил Драгович, когда оба поднимались по широченной лестнице.
– Накрылся медным тазом, – ответил Белобрысый, – Точнее накрыли. И поделом. А то развели тут… Гнездо змеиное. Кто-то, правда, на правый берег успел уйти.
– Ты про профессоров?
– Да, этих самых. Кто-то открыто за правобережных был, кто-то столичный переворот поддержал. За нас единицы, наверно, были, а может вообще никого.
– Теперь, выходит, у вас горных инженеров не учат?
– Тут не только их учили, а всех подряд – и химиков и машиностроителей. Теперь оказалось, что и так дела нормально идут – химиков "Интер-нитро" себе отыщет, оборону мы сами, как видишь, умеем создавать, а кто там еще… Строители… Этих-то чего учить… год-полтора в шараге и готово. А шахтовое дело умерло, надеюсь окончательно. Только травили все вокруг, да сами как отрава – наркоманы да пьянь…
Такое пренебрежительное отношение к рабочему люду повергало Драговича в недоумение. Удивляло то, что такие речи исходили от Белобрысого – человека, насколько его успел узнать Драгович, работящего, умеющего держать в руках инструмент, простого и чуждого свойственному для жителей мегаполисов чванству от осознания принадлежности к высококультурному обществу. В общем по психотипу относившемуся скорее к работягам, чем к белым воротничкам. Может быть даже к сельскому жителю.