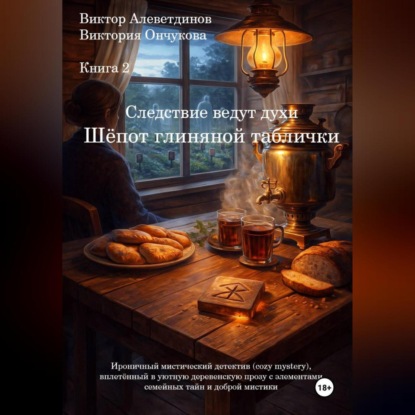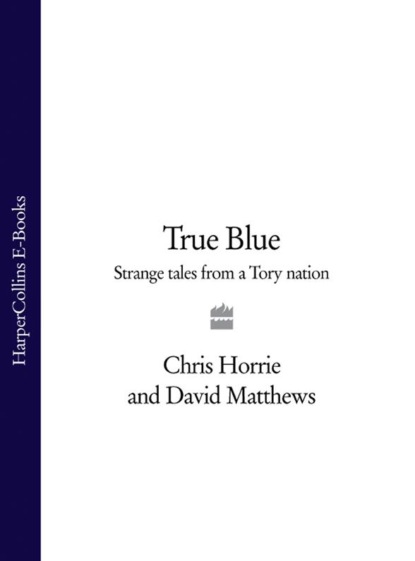Книга 1. Следствие ведут духи. Медальон предков

- -
- 100%
- +
– Опять вы все здесь, – бросает он. – Как ярмарка на костях.
– Спокойнее, Николай, – говорит участковый. – Ты хозяин этого двора, тебе первым и придётся всё объяснять.
– Я пока не хозяин, – зло отвечает тот. – Пока бумаги не подписаны, я такой же, как все.
Слово «бумаги» повисает в воздухе.
– Это тот, кто претендует на дом? – шепчет мне Олеся.
– Я вообще-то рядом стою, – оборачивается Николай. – Можете спрашивать прямо.
Он смотрит на меня внимательно, взгляд у него тяжёлый, но не злой, скорее уставший.
– Вы Вера, да? Новая соседка.
– Я, – подтверждаю. – Пока ещё не в курсе внутреннего семейного устава.
– А вам и не надо, – резко отвечает он. – Нам бы самим разобраться, кто кому что должен.
Участковый влезает между нами:
– Николай, давай по порядку. Кто обнаружил тело?
– Я, – выдыхает тот. – Пришёл проверить сарай, хотел дрова посмотреть. А он тут.
Николай кивает в сторону лежащего мужчины, отводит взгляд.
– Когда последний раз его видели живым?
– Днём, – вмешивается плотно набитая тётка. – Он сюда приходил, ругался, что «ему по закону положено». Потом ушёл.
– В какое время?
– Часа в четыре, – вспоминает она. – Я как раз тесто ставила.
Обычная деревенская хронология: по тесту, по дойке, по выпуску новостей.
– Кто был в это время во дворе?
– Да я, да он, да… – она заминается, косится на Николая.
– Да скажи уже, – устало бросает он. – Я тоже был. И мы опять начали… обсуждать.
Слово «спорили» здесь не звучит, но висит в воздухе.
– Обсуждали, – поправляет участковый. – На повышенных тонах?
– Он всегда на повышенных, – отмахивается Николай. – У него как речь включается, так ему сразу все вокруг должны.
Савельевский воздух густеет. Я чувствую, как напряжение между ними не меньше, чем магнитное поле вокруг колодца.
– Я к нему уже потом собирался зайти, – продолжает Николай. – Хотел спокойно поговорить, предложить разделить всё по-человечески. А он уже…
Он осекается, сжимает кулаки.
– А он уже не разговаривал, – тихо добавляет Олеся.
Участковый записывает что-то в блокнот, потом поднимает голову:
– У меня вопрос ко всем. Кто здесь лазил к поленнице в последние сутки?
Все синхронно переводят взгляд на поленницу, где виден разрыв.
– Я утром пару чурок забирал, – признаётся Николай. – Но аккуратно, с края. Вон там.
Он показывает на другую сторону. Там ряды и правда ровные, щепок почти нет.
– А здесь? – участковый указывает на место с выбоинами.
Тишина.
– Я знаю, чьи это следы, – неожиданно подаёт голос худенькая соседка, та, что раньше меня обвиняла. – Это всё ваши предки, Николай. Они из поленницы вышли, к нему подошли и утащили.
– Мария Степановна, – устало говорит участковый. – Я спрашиваю о живых.
– А живые сами знают, что они натворили, – не сдаётся она.
От такого заявления мне хочется засмеяться, но я сдерживаюсь.
– Можно посмотреть поближе? – спрашиваю я участкового. – Я не буду наступать туда, куда нельзя.
Он кивает.
Я наклоняюсь, рассматриваю выбитое место. На нижних чурбаках есть грязные отпечатки, как будто сюда ставили ботинок с влажной подошвой. На одной из щепок виден след от подошвы с простым рисунком. Не сапог, не тяжёлая рабочая обувь, что-то попроще.
На ближайшем столбе сарая, на высоте человеческого плеча, я замечаю выцарапанную букву. Нечёткая, но похожа на «С» или на неполный круг.
– Это что? – спрашиваю.
– Да мало ли, – отмахивается Николай. – Дети баловались, племянник мой тут крутился.
– Дети обычно сердечки режут, – замечаю. – А тут буква, и очень упрямая.
Участковый подходит ближе, всматривается.
– Раньше здесь ничего такого не было, – тихо подтверждает он. – Я бы заметил.
Мария Степановна крестится:
– Это знак.
– Это чья-то рука, – поправляет участковый. – Или ноготь, или нож.
Я невольно дотрагиваюсь пальцем до своей нарисованной калиновой веточки на ногте. Вечер, конечно, выбрал удачный момент, чтобы проверить чувство юмора.
– Вера, – обращается ко мне участковый, – давай так. Ты живёшь ближе всех. Если заметишь ещё какие-то новые узелки, ветки, буквы, особенно у колодца – сразу скажи.
– То есть вы меня официально назначаете по совместительству инспектором по вещам предков?
– По тихим уликам, – отвечает он. – У меня в отчёте так не напишешь, а в голове эта категория нужна.
Мне нравится это определение. «Тихие улики» – намного лучше, чем «сварка с вещами предков».
– Ладно, – соглашаюсь. – Но учтите, если ваши официальные бумаги начнут сами переползать по столу, это уже не ко мне.
В толпе тихо хихикают. Напряжение чуть спадает. Даже Мария Степановна перестаёт шипеть про предков.
На секунду мне кажется, что от сарая пахнет не только сеном и пылью, но и чем-то ещё. Сырой землёй, холодной водой. Колодцем.
– А медальон? – вдруг спрашивает один из молодых родственников, до сих пор молчавший. – Может, это он виноват?
Все притихают.
– Какой медальон? – делает вид участковый, что не понимает.
– Тот самый, калиновый, – горячится парень. – Все знают, что его делить нельзя. А они же начали. Один говорит: «мне его по завещанию», другой: «я старший, мне». Вот и дождались.
Я ловлю на себе сразу несколько взглядов. Вчерашний разговор с Олесей всплывает в памяти. Медный круг с вырезанными ягодами калины, расколотый пополам.
– Медальон здесь ни при чём, – жестко говорит Николай. – Его никто не трогал.
Мария Степановна усмехается:
– Конечно. Он сам, наверное, по ночам гуляет.
– Медальоном мы займёмся отдельно, – спокойно вставляет участковый. – Сейчас главное – понять, что случилось с человеком.
Он подаёт знак, и двое мужчин аккуратно заходят в сарай с носилками. Люди расходятся, кто-то отворачивается. Я тоже стараюсь не смотреть долго. Мне достаточно знать, что этот тихий вечер уже не вернётся в прежний вид.
Мы выходим во двор. Солнце садится за дома, небо становится густее. Куры у соседей уже забрались на свои жердочки, собаки всё ещё неспокойны.
– Вера, – тихо говорит Олеся, когда мы отходим к забору, – ты слышала, да? Про медальон.
– Слышала, – киваю. – И про завещание, и про долги.
– Долги у них не только по бумагам, – вздыхает она. – Там у каждого на душе по чемодану.
– А у тебя?
– У меня пока сумка через плечо, – криво улыбается Олеся. – Но, если меня ещё пару раз втянут в их разборки, тоже чемодан появится.
Участковый подходит ближе, стучит ручкой по забору.
– Девушки, – говорит он, – мне нужно будет с вами отдельно поговорить. И с Настасьей Петровной тоже.
– Я что, тоже в списке подозреваемых? – спрашиваю.
– Ты скорее в списке тех, кто замечает то, что другие проходят мимо, – отвечает он. – А это в деревенских делах иногда важнее, чем алиби.
– Это ваше деревенское ЕГЭ на наблюдательность?
– Типа того, – усмехается он. – Ладно, идите домой. Сегодня вы здесь уже достаточно насмотрелись.
Мы с Олесей возвращаемся каждая в свой двор. На душе неспокойно, но в теле чувствуется обычная усталость. Такое странное сочетание: голова гудит от чужих голосов, ноги – от ходьбы по двору, а внутри, где-то глубоко, появляется ощущение, будто кто-то поставил галочку напротив строки «расследование начато».
Вхожу в дом, сразу чувствую, что он меня ждёт. На столе всё так же лежит моя тетрадь с «Домашним уставом». На подоконнике – веточка калины и ещё одна ягода, которая у меня уже была. Теперь их две.
– У вас там тоже пополнение? – шепчу.
Полосатый кот появляется из ниоткуда, запрыгивает на подоконник, обнюхивает ягоды и садится рядом, оборачиваясь в мою сторону.
Я сажусь за стол, открываю тетрадь. На чистой странице, куда я ещё не успела ничего написать, в правом верхнем углу кто-то карандашом вывел еле заметный круг. Неполный, с разрывом.
Такая же буква, как на столбе у сарая.
Карандаша я сегодня в руки не брала.
– Так, – говорю спокойно. – Это уже интереснее.
Я провожу пальцем по следу. Линия чуть шершавая, но настоящая, не воображаемая.
– Если вы, уважаемые предки, хотите вести со мной диалог через рисунки, давайте договоримся о правилах, – шепчу в пустоту. – Одно начертили – одну подсказку потом объясняете. Иначе я тут захожу с вашим участковым официально, и тогда всем будет весело.
В ответ за шкафом тихо стукает что-то тяжёлое. Дом тоже вступает в беседу.
Я записываю в тетрадь:
«Пункт седьмой. Тихий вечер может в любой момент стать громким. Не терять чувство юмора и ручку».
Ложусь позже, чем планировала. В голове всё ещё стоят лица Савельевых, веточка у порога их сарая и круглая неясная буква на столбе. Сон долго не идёт. Когда наконец начинает подступать, из глубины двора доносится едва слышный шёпот:
«Считай, кто остался должен…»
Я открываю глаза, смотрю в темноту и почему-то понимаю, что речь уже не только о деньгах и бумагах.
Это больше похоже на список, в который меня уже вписали.
Глава 5. Ирония и улики
Сон отпускает нехотя. На границе сна и яви у меня в голове всё ещё звенит ночная фраза: «Считай, кто остался должен…»
Я открываю глаза, несколько секунд смотрю в потолок и пытаюсь вспомнить, сколько долгов у меня самой. По деньгам вроде чисто. По людям – вопрос открыт.
На столе лежит тетрадь. На той же странице, где я вчера записала про «тихий вечер и громкий финал», в углу виднеется незаконченный круг. Как будто кто-то снова взял карандаш и прошёлся по линии. Линия стала толще, в одном месте чуть дрогнула.
– Доброе утро, отдел тонкого юмора, – говорю я тетради.
Полосатый кот тянется, спрыгивает с подоконника, подходит ко мне и утыкается лбом в руку. Мол, вставай, хозяйка, расследования сами себя не проведут.
Коза с улицы поддерживает идею протяжным ме-э.
Я поднимаюсь, ставлю чайник, на автомате проверяю дом: газ, окно, козья калитка. По пути заглядываю к метёлке. Вчерашняя кружка с молоком пустая.
– Отдельно спасибо за дежурство, – шепчу в угол. – День обещает быть насыщенным.
Не успеваю допить второй глоток чая, как под окном раздаётся стук. Не робкий, а уверенный, рабочий.
– Вера, можно?
Голос участкового уже узнаваемый.
– Можно, – откликаюсь я, выходя на крыльцо.
Он стоит у калитки в той же форменной рубашке, только рукава закатаны. В руках блокнот и папка. На лице то самое выражение, которое у городских называется «рабочий режим», а у деревенских – «будем разбираться».
Рядом с ним маячит Олеся. Волосы собраны в хвост, под мышкой у неё пакет, из которого торчит пластиковый контейнер.
– Мы на выезд с оперативным пирогом, – сообщает она. – Вдруг свидетели откажутся говорить без печёного.
– По уставу всё предусмотрели, – одобряю я. – Куда движемся?
– Для начала ещё раз к Савельевым, – говорит участковый. – Надо посмотреть двор при свете. Потом – к Никите. А там, возможно, зайдём к Платону.
– Программа культурно-следственная, – резюмирую я. – Ладно, идём.
Перед выходом по привычке подливаю свежего молока домовому.
– Я ненадолго, – говорю в угол. – Можешь не скучать, деревня сама всё расскажет.
Метёлка чуть шевелится. Я это уже даже не комментирую.
Двор Савельевых в дневном свете кажется меньше. Вчера он казался декорацией для трагедии, сегодня – обычный запущенный участок с яблонями, курами и перекошенным сараем. Только воздух плотнее, чем у других дворов.
Веточка калины у сарая подсохла, листья потемнели. Рядом валяется ещё одна, свежая, с яркими ягодами.
– Это тут кто дежурит? – шепчу себе. – Бригада выездных намёков?
Участковый сразу останавливает нас у калитки.
– Дальше аккуратно. Ничего не трогаем, если не нужно.
Из дома выходит Николай. Лицо помятое, видно, что не спал.
– Опять проверка? – спрашивает без особого энтузиазма.
– Дополнение, – отвечает участковый. – Мне нужно уточнить пару моментов.
– Уточняйте, – вздыхает Николай. – Всё равно деревня уже решила, что виноват я.
В голосе злость, но усталость сильнее.
Пока они обмениваются рабочими репликами, я смотрю по сторонам. Поленица почти такая же, как вчера, только дождик ночью прошёл, верхние чурбаки чуть потемнели. Разрыв в середине никуда не делся. Щепки просохли, рисунок подошвы всё ещё видно.
На столбе у сарая выцарапанный полукруг стал контрастнее. Снизу к нему добавилась короткая палочка. Теперь это больше похоже на букву, чем на случайную царапину.
– Вера, что там? – тихо спрашивает Олеся.
– Буква растёт, – отвечаю так же тихо. – Вчера был неполный круг, сегодня уже почти «Н».
Я отступаю на шаг, чтобы увидеть весь столб. Над царапиной неожиданно замечаю ещё один, более старый знак. Самый верх столба подпален, и на этом фоне еле видно заметный тонкий круг поменьше.
– Интересно…
– Что? – участковый отвлекается от разговора с Николаем.
– У вас тут столб как личное дело: новая запись поверх старой, – говорю. – Сначала круг, потом буквы.
– Круг я видел раньше, – признаётся он. – Думал, дети подрисовали.
– Дети у вас прям паттерны любят, – хмыкаю я. – В одном месте тетрадь, в другом столб.
– Тетрадь? – поднимает брови участковый.
Я коротко рассказываю про круг в блокноте, который сам по себе дорисовался. О том, как он похож на царапину, умалчиваю – и так достаточно материала для отчётов по странностям.
– Ладно, – решает участковый. – Сейчас зафиксируем всё это, а потом съездим к Никите.
– Зачем к Никите? – настораживается Николай.
– Потому что буква «Н» на столбе мало похожа на случайную, – отвечает участковый. – А у него на воротах висят такие же буквы, только железные.
Николай фыркает:
– Да вы ещё на меня подумайте из-за первой буквы имени. Тут полдеревни на «Н».
– У нас тут совпадения любят собираться стайками, – вставляет Олеся. – Вера подтвердит.
Я пожимаю плечами.
– Меня уже назначили инспектором по тихим уликам. Я только собираю.
Участковый заканчивает осмотр сарая, делает несколько пометок.
– Николай, если вспомнишь что-то ещё – шорохи, голоса, кто проходил мимо двора – скажи.
– Голоса у нас давно не замолкают, – мрачно отвечает тот. – Особенно про чужое имущество.
– Про имущество поговорим позже, – мирно заканчивает участковый. – Сейчас у нас задача попроще: раскрутить вчерашний вечер.
Мы выходим со двора. Олеся невольно оглядывается назад.
– Чувствуешь?
– Что?
– Как будто колодец затаился, – шепчет она. – Вчера от него тянуло чем-то… а сегодня он будто замолчал.
Я на секунду прислушиваюсь. Вчера у этого двора действительно было чувство, словно воздух вибрирует. Сегодня – тише, но это не спокойствие, а выжидание.
– Он просто смотрит, – говорю. – Ждёт, чем всё это закончится.
– Если колодцы начнут смотреть, я перееду к реке, – вздыхает Олеся.
– Река тоже смотрит, – успокаиваю я. – Так что легче принять, что мы у всех на виду.
Кузница Никиты находится через два дома. От неё всегда пахнет жаром, железом и какой-то особой терпеливой силой. Во дворе – наковальня, сложенные старые детали, цепи, железки, которые другим кажутся мусором, а ему – основой будущих работ.
На воротах висит железная табличка с большой буквой «Н». Буква объёмная, чуть вытянутая, со скосом.
– Это его фирменная подпись, – поясняет Олеся. – Всё, к чему он прикладывает руки, получает такую же.
– Надеюсь, люди не в комплекте, – комментирую я.
Ворота скрипят, Никита сам выходит нам навстречу, вытирая руки о тряпку. Крепкий, широкоплечий, лицо копчёное огнём и жизнью.
– О, делегация, – усмехается он. – Я думал, сегодня только железо по меня соскучилось.
– Железо потом, – говорит участковый. – Сейчас у меня к тебе несколько вопросов.
– Если про ту историю у Савельевых – я там не был, – сразу огрызается Никита. – Я с дровами возился до темноты, а потом у себя сидел.
– Я не про алиби, – терпеливо отвечает участковый. – Я про буквы.
– Про какие ещё буквы?
– Про вот такие, – я киваю на железную «Н» на воротах. – И про ту, что у Савельевых на столбе выцарапали.
– А, это, – Никита машет рукой. – Моя буква. Клеймо.
– Ты её где-нибудь ещё, кроме своих ворот и своих изделий, оставлял?
– На людях разве что в шутку, – хмыкает Никита. – Но ножом по чужому столбу я не возил.
– Столб у них как раз возле сарая, – уточняет участковый. – Там теперь комбинация: круг, палочка и ещё один круг поменьше.
Никита на секунду задумывается.
– Я туда месяц назад приходил, цепь смотрел, – вспоминает он. – Просили проверить, не пора ли менять.
– Цепь колодца?
– Её самую, – кивает он. – Но буквы не резал. Я вообще там только руками работал, ничего не чертил.
– Ты давно к их колодцу ходишь?
– Ещё при старике Савельеве начал, – отвечает Никита. – Когда он жив был, всё меня звал: «Никита, глянь, чтобы наш страж воду не бросил».
– Страж – это цепь или медальон? – спрашиваю я.
Никита поднимает на меня глаза.
– Смотря кто спрашивает, – осторожно говорит он.
– Новая соседка, – представляюсь. – Та самая, к которой ветки калины сами ходят.
– А, про тебя уже тоже говорят, – усмехается он. – Значит так. Для старика Савельева страж был один: колодец. Всё остальное – обвязка вокруг него. Медальон он любил показывать, да. Говорил, что это «подпись рода».
– Ты его в руках держал?
– Разок давал посмотреть, – признаётся Никита. – Тяжёлый круг, медный. На нём калина, как живая.
– Целый?
– Тогда – да, – кивает он. – Без трещин.
Я чувствую, как внутри что-то холодеет.
– А потом?
– А потом начались разговоры, – вздыхает Никита. – Кто кого обидел, кто кому не додал. Старику уже всё равно было, а его дети начали делить то, что ещё даже не лежало на столе.
– И медальон?
– И медальон тоже, – подтверждает он. – Я тогда сразу сказал: делить круги нельзя, они на это плохо реагируют. Но кто меня слушал?
Участковый хмыкает:
– То есть ты считаешь, что из-за медальона у них все беды?
– Я считаю, что из-за жадности, – отрезает Никита. – Медальон тут как зеркало: что внутри, то и покажет.
– Ты мог бы узнать, твоя ли буква на столбе?
– Если покажете – скажу, – пожимает плечами он. – Но повторяю: чужие столбы мне неинтересны.
– Пока скажем так, – подводит итог участковый. – Н у тебя своя, у Николая своя, у наследства – тоже буква.
– У наследства не буква, а диагноз, – бурчит Никита.
Мы уходим из кузницы с лёгким привкусом гари и недосказанности.
– Ну и что? – спрашивает Олеся, когда ворота за нами закрываются. – Ты ему веришь?
– Я ему верю, – отвечает участковый. – Но его буква всё равно остаётся в нашей схеме.
– У вас уже схема есть? – интересуюсь я.
– В голове, – кивает он. – Там у меня целое табло: Никита, Николай, наследство, медальон, колодец. А ещё одна Н – неизвестный.
– Замечательно, – говорю я. – Осталось к этому табло приделать лампочки, и будет деревенское казино.
– Лампочки – это уже по твоей части, – усмехается участковый. – Ты же у нас по тихим уликам и странным совпадениям.
– В таком случае мне нужно к архивам, – решаю я. – К тому, кто знает, как всё выглядело до того, как начали делить.
– Ты про кого?
– Про Платона, – отвечаю. – Если он библиотекарь и собирает старые фотографии, у него наверняка есть колодец во всех позах.
– У него есть всё, – подтверждает Олеся. – Даже наши детские записи долга в библиотеке.
Участковый усмехается:
– Ну всё, тогда идём к хранителю памяти.
Дом Платона стоит ближе к краю посёлка. Снаружи он ничем особенным не выделяется: такая же крыша, такой же палисадник, только вместо привычных цветов у крыльца стоят ящики с книгами. Некоторые намокли, некоторые бережно укрыты плёнкой.
За домом – небольшая площадка с кругом камней. В середине чёрный от копоти котелок на треноге и остатки вчерашнего костра. Около ободка лежат два стула и низкий столик. На столике – кружка с засохшим чаем и тарелка с крошками.
На земле, совсем рядом с обводом кострища, лежит что-то белёсое. Листок. Он чуть шевелится от ветра.
– А вот и наша первая библиотечная улика, – говорю я и нагибаюсь.
Листок толстый, карточка с жёсткой бумагой. На нём чёрно-белое фото. Размытый край, лёгкие трещинки, но изображение видно чётко.
Колодец. Тот самый, савельевский. Только без крышки, с аккуратными камнями, вокруг – люди в старой одежде. Женщина в платке, мужчина с усами, ребёнок с венком из калины на голове. На груди у мужчины висит круглый медальон. Целый.
– Ого, – выдыхает Олеся, заглядывая через плечо. – Вот это поворот.
– Вера, покажи, – просит участковый.
Я протягиваю ему карточку. Он рассматривает.
– Старый снимок, – констатирует он. – Лет сорок, если не больше.
– Это ваш профессиональный взгляд или библиотечный? – уточняю.
– Это взгляд человека, который видел, как быстро стареют фотографии на стенде в клубе, – отвечает он.
– И как быстро стареют люди рядом с завещанием, – добавляет Олеся.
Дверь дома открывается, и на крыльцо выходит сам Платон. Высокий, худой, в свитере, который пережил не одну моду. На носу очки. Волосы чуть взъерошены.
– Я думал, ко мне сегодня никто не придёт, – удивляется он. – Все возле Савельевых дежурят.
– Так мы и пришли по их душу, – объясняет участковый. – Точнее, по их прошлое.
– Значит, вовремя, – кивает Платон, увидев фото. – Я как раз искал, куда его положил.
– Так это ваше? – спрашиваю.
– Моё, – подтверждает он. – Вчера вечером сидел здесь, перебирал старые снимки. Этот, видно, ветром сдуло.
– Вы знаете, что на нём?
– Конечно, – он бережно берёт карточку у участкового, держит её двумя пальцами. – Это Савельевы. Праздник освящения колодца.
Я чувствую, как внутренний блокнот делится на новые страницы.
– Освящения?
– Ну, официально – просто праздник. Соседи собрались, воду первый раз набирали. А по их семейным обычаям – ещё и своя церемония с калиной и медальоном.
– Год помните?
– Семьдесят четвёртый, – без паузы отвечает Платон. – Я тогда ещё мальчишкой бегал, но память у меня цепкая.
– Вы коллекционируете такие фото?
– Я коллекционирую всё, что у нас связано с памятью, – немного смущённо говорит он. – Люди уходят, а бумага остаётся. Кто-то же должен в этом разбираться.
Он приглашает нас в дом. Внутри – книги, папки, коробки. Вместо ковров – стопки журналов, вместо картин – рамки со снимками. На одной стене мелом намечены квадраты и линии. Местами рядом с ними приклеены маленькие бумажки.
– Это что за современное искусство? – кивает Олеся на стену.
– Разметка для будущей выставки, – поясняет Платон. – Хотел сделать в библиотеке стенд: «Наши колодцы и роды». Здесь я отмечал, какие фотографии куда повешу.
Я подхожу ближе. Одна линия идёт полукругом, как часть невидимого большого круга. Внутри квадрата мелкая буква «С». Рядом другая зона, отмеченная буквой «Н».
– «С» – это Савельевы, – догадавшись, говорю я. – А «Н»?
– «Никитичи», – отвечает Платон. – Другой род, на другом конце посёлка. У них свой колодец, своя история.
– То есть буквы на стене – это родовые зоны?
– Можно и так сказать, – кивает он. – Я хотел показать, как у нас всё связано: колодцы, семьи, дороги между домами.
– У вас тут ещё не хватает пары знаков, – замечаю я. – Например, одного незаконченного круга.
Платон смотрит на меня внимательно.
– Ты про что?
– Про то, что последнее время эти круги сами себя дорисовывают, – отвечаю. – На столбах, в тетрадях…
– И в головах, – добавляет Олеся.
Платон задумчиво поправляет очки.
– Когда долго смотришь на одни и те же связи, они начинают проявляться везде, – произносит он. – Главное – не перепутать то, что есть, с тем, что хочется увидеть.
– А фото вы где взяли? – вмешивается участковый. – Только не говорите, что вам его тоже ветром принесло.
– Почти, – усмехается Платон. – Мария Степановна отдала. Говорит, лежало у неё на чердаке с тех пор, как старуха Савельева умерла.
Я представляю Марию Степановну, которая хранит на чердаке половину деревенских секретов.
– Почему раньше не отдавали?
– Сначала забыли, – пожимает плечами Платон. – Потом решили, что «старьё никому не надо». А как услышали, что я собираю всё для стенда, вспомнили.
Он раскладывает на столе ещё несколько карточек. На одной – дом Савельевых в лучшие годы, с новой крышей и цветами по периметру. На другой – свадьба, где тот же медальон висит уже на шее у женщины.
– Его перенесли? – удивляюсь.
– У них такое было правило, – объясняет Платон. – В важные моменты медальон надевали тому, кто считался ответственным. То старший мужчина, то хозяйка дома.