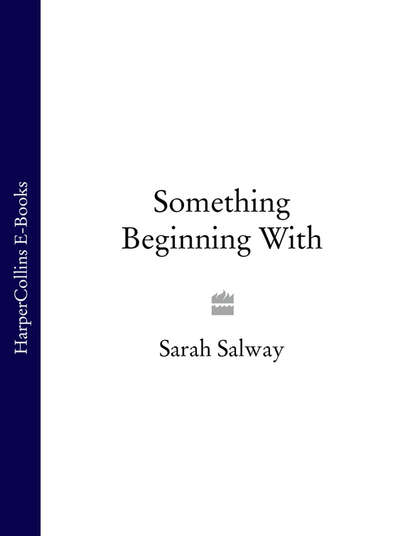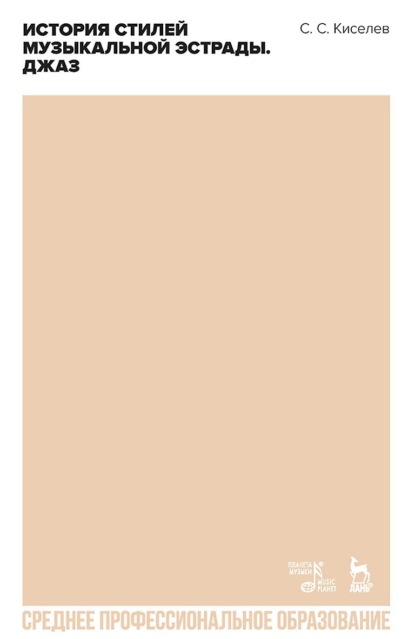Книга 1. Следствие ведут духи. Медальон предков

- -
- 100%
- +
– А сейчас кто ответственный?
– Сейчас медальон давно не на шее, – грустно говорит он. – Он превратился в предмет спора.
Участковый молча фотографирует снимки на свой телефон.
– Можно я этот заберу? – спрашиваю, показывая карточку с колодцем и калиной. – Временно.
– Если по делу, – кивает Платон. – Только потом верни. Я для стенда его планировал.
– Верну, – обещаю. – Может, даже с ответами.
Пока мы рассматриваем фотографии, ветер с улицы вдруг усиливается. Сквозняк прорывается через приоткрытую форточку, хлопает одной из пустых рамок на стене.
С рамки слетает прикреплённый листок с наброском. Его подхватывает струя воздуха и несёт прямо ко мне.
Я соприкасаюсь с ним лбом. Листок падает на стол.
На нём – схематичный рисунок. Круг. Внутри – квадрат. Сбоку большими буквами написано «НАСЛЕДСТВО».
– По-моему, ваши стены тоже участвуют в выставке, – замечаю я.
Платон вздыхает:
– Это я вчера рисовал. Пытался понять, как всё у нас закольцевалось.
– Закольцевалось – подходящее слово, – говорю. – Только у вас здесь не круг, а кольцо с заусенцами.
– Ты думаешь, это всё одно и то же дело? – спрашивает участковый.
– Думаю, у вас не просто убийство и не просто завещание, – отвечаю. – У вас системная ошибка в родовой памяти.
– Переведи на человеческий, – просит Олеся.
– Когда много лет подряд что-то делят и никому не хватает, – объясняю, – обиды начинают жить отдельно от людей. Оседают в вещах, в колодцах, в медальонах. А потом ищут, через кого высказаться.
– И ты считаешь, что сейчас они выбрали тебя? – участковый смотрит пристальнее.
– Я считаю, что я здесь оказалась в тот момент, когда у этих обид появился повод подняться на поверхность, – вздыхаю. – А ещё, что, если уже пошли круги и калиновая корреспонденция, лучше я буду смотреть на это в оба глаза, чем делать вид, что ничего нет.
Платон некоторое время молчит. Потом идёт к стене, берёт мел и дорисовывает к одному из полукругов вторую половину. Получается полный круг. В его центр он вписывает аккуратно: «ПРОШЛОЕ».
– Здесь у меня будет раздел с тем, что было до всех этих делёжек, – говорит он. – Праздники, свадьбы, обычные дни.
– Отличная идея, – говорю. – Потому что чтобы понять, что за половинки сейчас по деревне бегают, нужно увидеть, из какого целого они выросли.
Участковый закрывает блокнот.
– Так, – подводит он итог. – На сегодня у нас: буквы, круги, фото и медальон, который всё ещё где-то гуляет.
– И духи, которые намекают, что пора считать не только имущество, но и старые грехи, – добавляет Олеся.
– Грехи я в протокол не внесу, – вздыхает участковый. – А вот всё остальное – да.
Он поворачивается ко мне:
– Вера, если вечером снова будут шорохи и шепоты – не игнорируй. Записывай всё, что услышишь. Даже если кажется странным.
– У меня уже есть отдельный раздел «голоса неизвестного происхождения», – киваю я. – Будет пополнение.
Мы выходим из дома Платона. Возле крыльца ветер закручивает маленький вихрь, поднимает пепел от вчерашнего костра и одну-две сухие веточки калины, которые каким-то образом оказались здесь.
Одна веточка падает мне под ноги. На ней всего одна ягода, но очень яркая.
– Ну конечно, – тихо говорю я. – Служба доставки работает без выходных.
Поднимаю веточку, кладу рядом с карточкой с колодцем, которую придерживаю пальцами.
Это странное чувство – когда в руках оказываются сразу две половины истории: живая сегодняшняя ветка и застывшая на старой фотографии.
Мне кажется, фото становится чуть тяжелее. Или это совесть рода Савельевых переваливает с одного плеча на другое.
– Ты поняла что-нибудь? – спрашивает Олеся, когда мы идём обратно по дороге.
– Поняла, что у нас всё делится на две части, – отвечаю. – Медальон раскололи, круги не дорисовали, фамилии соседей начинаются на одну букву, а история колодца записана только наполовину.
– И что с этим делать?
– Для начала найти вторую половину, – говорю. – Не только металла, но и правды.
В голове вспыхивает ночная фраза: «Считай, кто остался должен…»
Похоже, счёт мне только открыли.
А закрывать его, чувствую, придётся вместе с духами.
Глава 6. Следствие поневоле
Вечер не заканчивается, он только меняет освещение. Днём мы с участковым ходили по дворам, собирали факты и взгляды. Теперь я сижу у себя за столом и разбираю всё, что прилипло к памяти.
На столе раскладываю свои сокровища: тетрадь с кругами и стрелками, карточку с колодцем из Платоновой коллекции, веточку калины, которую мне снова подкинули у порога, и лист бумаги, на котором я собиралась написать план на завтра.
План не пишется.
Я беру ручку, вывожу в тетради в середине страницы: «Колодец Савельевых». Обвожу слово рамкой. От него тяну стрелки к другим словам: «медальон», «наследство», «Савельевы», «долг». Отдельно записываю: «праздник колодца», «обряд с калиной», «Никита и цепь».
Потом откладываю тетрадь и замечаю, что чистый лист рядом уже не совсем чистый. В левом углу проступил влажный след.
Я машинально поднимаю кружку. Дно сухое.
След на бумаге тем временем собирается в линию. Я вижу, как вода медленно ползёт, соединяя тонкие полоски. Через минуту на листе уже не просто пятно, а толстый штрих с загибом.
Похоже на букву.
Я жду ещё немного.
Полоска доворачивает, небольшая капля стекает вниз и оставляет хвостик. Получается В.
– Интересно, – говорю я в пустую комнату. – Это вы меня отметили или просто алфавит вспомнили?
Ответа нет. Только кот, который уже успел устроиться на подоконнике, открывает один глаз и снова его закрывает.
Я беру лист, чуть наклоняю. Вода подсыхает, на контуре буквы остаются тонкие кристаллики соли. Вспоминаю, что днём в этой кружке делала себе подсоленную воду, когда голова загудела от солнца.
Теперь у меня на бумаге не просто буква В, а буква В из соли.
– Ладно, принимаю, – шепчу. – Следствие за мной.
К букве дорисовываю карандашом маленькую галочку сбоку. Получается ещё и «птичка».
Галочка напоминает о другом. Я встаю, прохожу на кухню, беру щепотку соли и воду в пиале. Возвращаюсь, ставлю всё на стол.
– Посмотрим, что получится, если вам помочь, – говорю я уголку, где обычно дремлет мой невидимый соработник.
Рассыпаю соль тонким слоем на блюдце, капаю воду. Кристаллы темнеют, растворяются, потом снова начинают схватываться в узор. Я не трогаю.
Через некоторое время на блюдце проступает маленький силуэт. Прямая полоска и два острых отростка. Очень похоже на ту же галочку-птичку, только теперь она целиком из соли.
Я вздыхаю.
– Понятно, – говорю. – Птичка прилетела. Значит, будет весть.
Стук в окно отвлекает меня от соли. Это Олеся кидает мелкий камешек.
– Вера, ты там не замкнула на себя весь свет? – шепчет с улицы.
– Пока только алфавит, – отвечаю. – Заходи, дверь не закрыта.
Она заходит тихо, хотя час ещё не поздний. На ней домашняя футболка и юбка, волосы собраны.
– Настасья сказала, что ты опять сидишь с бумажками, – сообщает Олеся. – Я принесла ей компот, а она мне: «Иди, отвлеки Веру, а то та сейчас сама себя допрашивать начнёт».
– Уже допрашиваю, – признаюсь. – Себя, колодец, медальон и всю систему местных суеверий.
– О, серьёзно, – она подходит к столу и сразу замечает блюдце. – Это что, новая система связи?
– Возможно, старинная, – отвечаю. – Соль, вода и нервная соседка.
Я показываю ей лист с буквой В.
– Это было пустое место, – говорю. – А потом сами собой собрались капли.
– Похоже на подпись, – Олеся хмыкает. – «Ответственный за чудеса – Вера».
– Примерно так и прочитала, – признаюсь.
Она садится, поджимает под себя ногу, оглядывает стол.
– Ты всё ещё уверена, что вся эта мистика – просто игра воображения?
– Если это игра, то очень настойчивая, – отвечаю. – Я могу делать вид, что не вижу, но соль всё равно будет складываться в птички.
Олеся какое-то время молчит, потом говорит мягче:
– Знаешь, раньше у нас тоже были такие штуки. Бабки всё это любили. Соль в углу, вода у порога, калина на ручке двери. Настасья мне рассказывала.
– Вот и хорошо, – вздыхаю. – Значит, я не сошла с ума, я просто догоняю местный курс молодого бойца по деревенским оберегам.
– Курс, кстати, не бесплатный, – усмехается Олеся. – Ночью будет дополнительное занятие.
– В смысле?
– В такую жару у Зинаиды Платоновны начинается опять её ночная ходьба, – объясняет она. – Настасья уже переживает.
Я навостряю слух.
– Ходьба?
– Ну, это её привычка, – кивает Олеся. – Когда давление скачет и душно, она среди ночи встаёт и идёт по двору. Не просыпается. Глаза открыты, а она всё равно спит.
– Лунатик, – заключаю.
– Угу. Народное слово. А по-научному – не знаю. Но вид у неё такой, что в детстве мы половину лета думали, что по деревне ходит привидение. Она всегда в белой сорочке, волосы растрёпаны, языком что-то шепчет.
– А почему сейчас?
– Потому что душно, – Олеся вздыхает. – И потому что она опять весь день вспоминала прошлое. Такие разговоры её всегда расшатывают.
– Зинаида Платоновна связана с Савельевыми?
– Очень, – говорит Олеся. – Они же почти родственники. И к колодцу ихнему она тоже раньше ходила.
Я поворачиваю к ней тетрадь. Слово «Колодец Савельевых» теперь смотрит на нас почти укоризненно.
– Тогда, – медленно произношу я, – если ночью по двору пойдёт белая фигура, это не обязательно дух.
– Да, – кивает Олеся. – Но, когда ты не спишь и видишь это в полутьме, разница не очень чувствуется.
Она встаёт.
– Ладно, я побегу. Настасья просила напомнить тебе: перед сном она заглянет, занесёт травяной настой.
– Пусть всё-таки сама его пьёт, – бурчу я. – Ей нужнее.
– Ей нужнее, но заботиться она всё равно будет о тебе, – усмехается Олеся.
Когда она уходит, я ещё немного сижу с тетрадью, но строки начинают плыть. Время тянется. Снаружи стихает голос соседского петуха, зато начинают гудеть кузнечики.
Настасья появляется, как и обещала, с кружкой. От неё пахнет зверобоем и чем-то ещё, горьким.
– Пей, – строго говорит она. – Нервы надо укладывать спать раньше, чем мысли.
– Нервы не против, – отвечаю. – Это мысли у меня с ночным графиком.
Она садится на табурет, неторопливо осматривает стол.
– Уже буквы пошли? – кивает на лист. – Вера, Вера…
– А вы не удивляетесь.
– А чего удивляться, – она вздыхает. – У кого-то чашки бьются без причины, у кого-то часы останавливаются, когда кто-то уходит. У тебя вот буквы проявляются.
– Вы думаете, это от тех, кто был раньше?
– Я думаю, что дом всегда откликается на хозяина, – говорит Настасья. – Ты у нас письменная, вот дом и решил говорить с тобой не удушьем в ночи, а буквами на бумаге.
Эта простая фраза неожиданно успокаивает.
– Скажите, – спрашиваю я, – Зинаида Платоновна сильно дружила с Савельевыми?
– Она с ними в одном кругу вертелась, – кивает Настасья. – На праздники ходила, у колодца с ними стояла, когда его освящали. И песню ту помнит, и слова.
– Те, что при обряде говорили?
– Те самые, – подтверждает она. – Только сейчас уже сама не всегда понимает, что говорит.
– Если она ночью пойдёт, вы меня разбудите?
Настасья смотрит внимательно.
– Почему тебя?
– Потому что у меня тут уже всё расписано, – показываю тетрадь. – Я, похоже, назначена старшей по связям с духами и колодцами.
Она улыбается краешком губ.
– Хорошо, – обещает. – Если пойдёт – позову. Только ты не пугайся. Она живая, не забывай.
Когда за ней закрывается дверь, дом немного тихнет. Я допиваю травяной настой, ставлю кружку в раковину и иду в свою комнату.
Спать получается плохо. В голове крутятся обрывки фраз Платона, голос Никиты про «круг, который делить нельзя», участковый со своим табло. И теперь ещё буква В из соли и птичка на блюдце.
Я переворачиваюсь с боку на бок, пока наконец не сдаюсь. Встаю, подхожу к окну.
Снаружи темно, но не глухо. Небо светится бледной полосой, по всему посёлку тянутся жёлтые прямоугольники окон. Где-то лает собака. В кустах шуршит ветер.
Я уже почти решаюсь вернуться в кровать, когда замечаю на тропинке светлое пятно.
Пятно движется. Медленно, без колебаний.
Фигура в белом.
Я прижимаюсь к раме.
Фигура идёт не по дороге, а по траве, прямо через двор. Тихо переставляет ноги, руками не размахивает. Голова чуть наклонена вперёд. На ней что-то вроде ночного платка или свободной ткани.
Я замолкаю внутренне.
В этот момент дверь моей комнаты тихо приоткрывается.
– Видишь? – шепчет Настасья.
– Вижу, – так же тихо отвечаю.
– Это она, – говорит бабушка. – Зинаида.
Мы вдвоём смотрим в окно.
Белая фигура проходит мимо нашего забора, поворачивает к стороне, где двор Савельевых. Ступни почти не слышны, но трава под ними слегка шевелится.
– Она всегда идёт так?
– Всегда, когда её отпускает, – вздыхает Настасья. – Раньше дети из-за неё не спали, сейчас взрослые.
– А если она дойдёт до колодца?
– Вот этого я и боюсь, – шепчет бабушка.
Фигура медленно приближается к темнеющему пятну, где должен быть савельевский двор.
Решение приходит быстро.
– Пошли, – говорю. – Не будем ждать, пока нам растолкуют всё в морге.
Настасья кивает, хотя в глазах у неё тревога. Мы быстро накидываем на плечи лёгкие кофты и выходим во двор.
Ночь встречает нас влажным воздухом. Запах травы, земли и далёких костров ложится на кожу. Где-то за огородом переговариваются лягушки.
Фигура белой полосой скользит перед нами. Мы идём чуть позади, не поднимая шума.
– Она нас не слышит, – шепчет Настасья. – Когда так ходит, до неё не достучаться криком. Только рукой.
– Значит, придётся подойти совсем близко, – киваю я.
Мы подбираемся к границе двора Савельевых. Здесь всё кажется ещё темнее. Кусты калины отбрасывают густые тени, сарай молчит чёрным прямоугольником.
Колодец угадывается по низкой каменной окружности.
Зинаида Платоновна уже почти у него.
Она останавливается в нескольких шагах, поднимает руки, словно что-то вспоминает. Губы шевелятся.
Я ускоряюсь, пока Настасья остаётся чуть позади. Подхожу к старушке сбоку, стараясь не напугать.
– Зинаида Платоновна, – тихо произношу. – Это Вера.
Она не реагирует. Глаза полуприкрыты. Лицо спокойное, даже слишком.
Я протягиваю руку, легко касаюсь её локтя.
– Это Вера, – повторяю. – Вы во дворе, всё в порядке.
В этот момент она будто возвращается в тело. Веки поднимаются выше, взгляд задерживается на моём лице, потом скользит в сторону колодца.
– Вода… – шепчет она. – Там вода.
– Да, – соглашаюсь я. – Колодец.
– Не делите… – выдыхают её губы. – Нельзя делить.
Я чувствую, как у меня внутри всё замирает.
– Что нельзя делить, Зинаида Платоновна?
– Круг, – она медленно проводит пальцем в воздухе. – Делить круг нельзя. Вода не простит.
Настасья подходит ближе.
– Зиночка, милая, – мягко говорит она. – Ты опять пошла гулять. Пойдём домой.
– Постойте, – прошу я.
К Зинаиде вернулся только кусочек сознания. Его нужно использовать.
– Вы помните тот праздник у колодца? – спрашиваю. – Когда его первый раз открывали.
Глаза старушки на секунду проясняются.
– Помню, – отвечает она. – Пели. Калина. Вода холодная.
– Что вы тогда делали с солью?
Она долго молчит. Потом её рука медленно поднимается и описывает в воздухе знакомую галочку.
– Птичка, – шепчет она. – Солью птичку. На воду. Чтобы весть была доброй.
Птичка из соли. Я буквально ощущаю, как кусочки пазла сдвигаются.
– А медальон? – осторожно веду дальше. – Он тогда был на шее у хозяина?
– Висел, – Зинаида чуть кивает. – Тяжёлый. Калина на нём. Круг. Он воду держал…
Она запинается, ищет слово.
– Связывал, – подсказываю.
– Связывал, – соглашается она. – Пока целый был, всё держалось.
Слово «держалось» здесь звучит уместно.
– А когда его разделили?
На лице Зинаиды появляется тень.
– Началось, – выдыхает она. – Вода стала другая. Снизу шёпот. Сны.
– Какие сны?
– Колодец зовёт, – шепчет она почти неслышно. – Говорит: «Верните».
Настасья осторожно берёт её за руку.
– Хватит, – мягко говорит бабушка. – Зиночка, ты замёрзнешь. Пойдём.
– Я сама, – неожиданно прямо отвечает Зинаида.
Сознание потихоньку сильнее входит в неё. Лицо становится живее, взгляд – точнее.
Она смотрит на меня.
– Ты не местная, – говорит уже более уверенным голосом.
– Не местная, – подтверждаю.
– А к колодцу тебя всё равно тянет, – констатирует она. – Значит, не зря пришла.
– Я тоже начинаю это подозревать, – тихо говорю.
Зинаида вдруг улыбается. Улыбка усталая, но ясная.
– Колодец не злой, – произносит она. – Он просто помнит. Ему больно, когда про него забывают.
– Мы не будем забывать, – обещаю.
– Смотри, – она делает маленький шаг назад. – Он воду даёт всем. Без писанины, без печати. А люди всё равно не могут поделить.
Настасья чуть сильнее сжимает её руку.
– Всё, Зиночка, – говорит. – Пошли домой.
– Пойдём, – соглашается она уже обычным тоном.
Мы сопровождаем её до калитки. Ночь вокруг нас густая, но уже не пугающая.
У самых ворот Зинаида останавливается ещё раз, касается моего рукава.
– Ты к нему днём приди, – говорит. – Ночью он сны показывает, а днём – правду.
– Приду, – отвечаю.
Когда они с Настасьей уходят, я остаюсь у колодца одна.
Камни вокруг влажные, от воды поднимается прохладный запах. В посёлке уже почти нигде не горит свет, только в доме участкового мерцает окно.
Я подхожу ближе, заглядываю внутрь.
Глубина скрывается во тьме. На поверхности кое-где поблёскивают крупинки. То ли мусор, то ли отражения звёзд, то ли кристаллы соли, принесённые ветром.
Где-то внизу тихо капает.
– Ладно, – говорю в эту темноту. – Считаю, что ты тоже участник процесса.
Ответа, конечно, нет. Но мне в лицо поднимается лёгкий влажный воздух.
Я возвращаюсь домой медленно. Веточка калины под ногой хрустит так, словно ставит точку в сегодняшнем дне.
В комнате снова зажигаю лампу. Тетрадь ждёт на столе.
На чистой странице в середине пишу:
«Центр – колодец.
Колодец помнит обряд.
Соль-птичка – весть.
Медальон – круг, который связывал.
Когда разделили медальон, колодец стал требовать вернуть».
Снизу добавляю:
«Зинаида Платоновна – ночной свидетель.
Ночью – сны, днём – правда».
Рядом с тетрадью кладу фотографию Платона: тот самый колодец, ветка калины, медальон на груди хозяина.
Буква В из соли на соседнем листе уже подсохла окончательно. Кристаллы на ней блестят.
Я аккуратно вкладываю этот лист в тетрадь, как закладку.
Теперь уже сомнений нет: я в этом деле по уши. Даже если официально меня туда никто не назначал.
Дом тихо откликается: в углу чуть шуршит метёлка.
– Видела, видела, – говорю. – Завтра пойдём к колодцу днём.
В ответ что-то негромко трещит в стене, словно кто-то одобрительно щёлкнул пальцами.
Я гашу свет.
Ночь ещё не успела остыть, но внутри у меня становится спокойнее. Я знаю, с чего начну следующий день.
Не с чая и коз, а с визита к колодцу, который слишком долго молчал.
Глава 7. Допрос с пристрастием и пирогами
Кухня у Настасьи оживает рано: тесто поднимается, посуда тихо стукается краями, чайник выпускает пар. Я сижу за столом с тетрадью, но ручка уходит в сторону от строк: мысли крутятся не вокруг букв, а вокруг вчерашних следов и молочного круга.
На полке над столом висит узелок с травами. Полынь, мята, ещё что-то, что Настасья зовёт своим старым словом, которое я не успеваю запомнить. Узелок чуть качается, хотя окна закрыты. Дом, видно, тоже не спит.
– Не тяни, – говорит Настасья, не оборачиваясь. – Запишешь после. Сначала людей слушать. Потом воду.
Она вытаскивает из духовки противень. Пироги румяные, запах тянется по комнате, и даже домовой, если он сидит у печи, должен признать: ради такого можно потерпеть наш допрос.
– Мы же к Марье не как милиция идём, – ворчит Олеся, раскладывая пироги в большую эмалированную миску. – Мы к ней как люди. Пирог в одну руку, вопрос в другую.
– Порядок правильный, – кивает Настасья. – Главное – руки не перепутать.
Участковый появляется на пороге тихо, как будто тут живёт. Фуражка под мышкой, в руке блокнот. Запах пирогов смягчает даже его плечи.
– Я на правах сопровождающего, – предупреждает. – Но чай тоже не отвергну.
– Чай – по ходу, – отвечает Настасья. – Сначала дойдём. По дороге язык размягчится.
Мы выходим втроём, с участковым впереди и миской у Олеси в руках. Солнце уже поднялось, но жара ещё не успела упасть на крыши. Земля под ногами сухая, трава у забора Савельевых примята – следы вчерашней суеты всё ещё видны. Я отмечаю угол сарая, где висит старый оберег: пучок трав, нитка, маленький ключик. Вчера он был чуть ниже. Сегодня поднялся, как будто кто-то аккуратно подтянул.
У калитки Марьи всё очень тихо. Тишина не глухая – внимательная. Доски прогреты солнцем, щель между ними дышит прохладой.
– Мы – от соседей, – говорю вслух, касаясь верхней планки. – С вопросами и пирогами. Можно?
Одну секунду ничего не происходит. Потом где-то в глубине двора коротко брякает ведро, перекликается с миской у Олеси в руках. Калитка поддаётся легко, будто её потянули изнутри.
Во дворе у Марьи прибрано. Сани перевёрнуты на бок и отдыхают под стеной; чистая метла прислонена к сараю; собачья миска отодвинута, но не забыта. На крыльце стоят мужские тапки, в том виде, в каком хозяин снял их в последний раз. Воздух насыщенный летними запахами, пахнет чаем, деревом и чем-то усталым.
Марья встречает нас в дверях кухни. Юбка тёмная, свитер светлый, волосы собраны. Глаза сухие, но вокруг глаз серые круги.
– Заходите, – говорит она без лишних церемоний. – Пироги сюда, на стол. Чайник уже кипит. Жалеть меня не надо, говорить за меня тоже. Сами спрашивайте, сами и слушайте.
Мы проходим в кухню. Здесь просторно, пол тёплый, печь гудит тихо. На подоконнике – горшок с алоэ, рядом маленький оберег из полыни и калины, выцветшая красная нитка связывает стебли в узел. В углу стоит стул, чуть отодвинутый. Я замечаю: на его спинке аккуратная царапина в форме загогулины, почти буква. Дом, как всегда, любит оставлять пометки.
Олеся ставит миску на середину стола и открывает полотенце. Запах становится таким, будто все наши слова придётся пропускать через слой теста.
– Сначала едим, – решает Настасья и садится так, чтобы видеть и Марью, и Лиду.
Лида уже здесь. Сидит у стены, с косой через плечо, пальцы теребят край футболки. Рядом кружка с чаем, ещё почти полная. Лицо девчонки устало по-взрослому, но в глазах остаётся то самое детское: если спросить прямо, ответит честно, а потом будет переживать.
– Я скажу, – предупреждает Лида, даже не дожидаясь вопросов. – Только вы не думайте… Не думайте, что мы хотели… чтобы так.
Я киваю ей, но сначала беру пирожок. Горячий, с капустой. Домовой, если сидит где-то под лавкой, должен видеть: мы не пришли отнимать, мы пришли делиться.
– Мы думаем только про порядок, – говорю я. – Про то, что дом просит. Остальное пусть лежит, где лежало.
Участковый открывает свой блокнот, кладёт ручку рядом, но не спешит записывать.
– Формально я тут по службе, – произносит он. – Неформально – по-человечески. Так что вы, Марья, говорите, как легче вам. Мы уже знаем про медальон, про сарай, про «по крови». Надо понять – у кого что на сердце.
Марья наливает всем чай. Руки у неё чуть подрагивают, но она не прячет их в фартук, не маскирует.
– На сердце у меня муж, – отвечает она. – И долг. И дети. А этот медальон – как заноза. Я его и видела-то всего пару раз. Бабка говорила: у нашего рода есть «метка», не золото, не бумага, а вещица, которую нельзя делить. Носили через пьянки, через свадьбы, теряли, ругались, находили. Потом половинка исчезла. А год назад пришёл старьёвщик, принёс кусок и сказал: «Из ваших мест». Муж загорелся. Лавр тоже.
Она делает глоток чая, будто запечатывает сказанное, и только потом продолжает:
– Лавр внук Платона, вы и сами знаете. У него характер жёсткий. Как услышал «по крови», так и понеслось. «Моя ветка, моё право». Муж у меня тоже не тихий был. Они не дрались, но слово тянули, как канат. Сначала медальон тянули. Потом память. А память тянуть – вредно. Она рвётся в ненужных местах.
Слова ложатся на стол, как крошки. Олеся сразу берёт нож и начинает резать пироги на более мелкие кусочки – чтобы занять руки и не сбить ритм разговора.