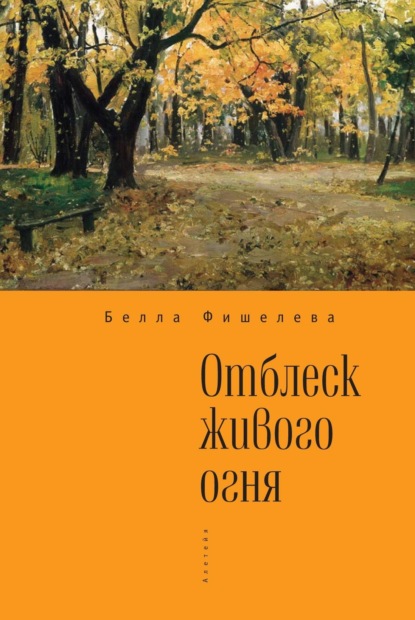Книга 3. Следствие ведут духи. Эхо городского портрета

- -
- 100%
- +
– Чего повторяет? – спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
– Всё подряд, – машет рукой соседка. – Я ж к Серёже ходила… царство ему небесное…
Попугай снова наклоняет голову.
– Не подпишу, – произносит он уже другой интонацией.
Теперь в подъезде становится совсем тихо. Даже лифт как будто перестаёт шуметь.
Я смотрю на бабушку.
Она тоже смотрит на попугая. В глазах у неё не только удивление, но и та самая боль, с которой она весь день говорит о дяде.
– Это он у Серёжи набрался, – продолжает соседка. – Тот иногда с ним тут разговаривал, пока я на лавочку выносила. Бумаги, говорит, мне тут суют всякие, а я «не подпишу». Вот Кеша и запомнил.
Я сглатываю.
– Часто говорил?
– Ну, пару раз слышала, – вспоминает Варвара Андреевна. – С кем он там по поводу бумаг спорил, не знаю.
Попугай встряхивается, цепляется клювом за прут клетки, потом опять успокаивается.
– Не верь, – добавляет он уже тише, будто про себя.
Наш деревенский домовой в этот момент подаёт знак: где-то над головой ясно скрипит балка. Я чувствую себя, как между двумя невидимыми собеседниками.
– Вы не обращайте внимания, – быстро говорит бабушка соседке. – Мы вот мусор выкинуть и обратно. Завтра зайдём по-человечески.
– Обязательно зайдите, – оживляется Варвара Андреевна. – Я вам и про больницу расскажу, и про то, кто сюда раньше ходил. Я всё вижу.
– Видите, – тихо поддакивает попугай.
Я не выдерживаю, улыбаюсь.
– Кеша, ты прямо архив, – говорю.
– Берегите память, – неожиданно выдает он.
Мы с бабушкой одновременно переводим взгляд друг на друга.
– Это вы ему сказали? – спрашиваю я у соседки.
– Да где там, – машет рукой та. – Я ему другое говорю: «Береги здоровье». А он искажает всё.
Бабушка молчит. Я тоже.
– Ладно, мы пошли, – говорит она наконец. – Увидимся.
Мы спускаемся вниз, к мусоропроводу.
На лестнице очень отчётливо слышно собственные шаги. Каждый шаг будто кто-то пересчитывает.
Между пролётами висят круглые лампы. В одной лампе свет ровный, в другой – чуть мигает. Я чувствую, как где-то тяжёлое дыхание лифта.
У мусоропровода на стене – старый плакат с правилами. Буквы потёрлись, но слова «порядок» и «чистота» ещё различимы.
Когда я открываю крышку мусоропровода, струя холодного воздуха бьёт в лицо. И вместе с ней – запахи всего дома.
– Фу, закрывай быстрее, – шепчет бабушка.
Я отправляю пакет вниз и поспешно прикрываю крышку.
В этот момент сверху, над нами, кто-то невидимый пробегает по лестнице. Лёгкие быстрые шаги, словно ребёнок босиком.
Никого нет.
– Слышала? – спрашивает бабушка.
– Слышала.
– Вот тебе и городские духи, – вздыхает она.
Мы заглядываем к консьержу.
Борис Аркадьевич сидит за стойкой с открытой газетой. Телевизор у него выключен, на столе кружка, от которой ещё идёт слабый пар.
Он поднимает на нас глаза.
– Обживаетесь? – спрашивает коротко.
– Пытаемся, – отвечает бабушка. – У вас тут шумно.
– Дом старый, – говорит он. – Он всё слышит.
– А вы?
– И я слышу, – кивает он. – У меня работа такая.
Он замолкает, потом добавляет:
– Я Сергея хорошо знал. Всякое видел.
– И бумаги, наверное, тоже? – не выдерживаю я.
– Всякое, – повторяет он.
Он не торопится говорить дальше, но взгляд у него становится жёстче.
– Сейчас тоже всякое начнётся, – добавляет он, глядя куда-то мимо нас, в угол. – Вы тут ночуйте, Мария Ивановна. Квартира без своих – как без хозяина. Кому попало в руки попадает.
– Вот мы и ночуем, – кивает бабушка.
– Правильно, – серьёзно говорит консьерж. – Дом, когда своих узнаёт, спокойнее относится. А чужих он не любит.
Из-за его спины вдруг раздаётся сухой щелчок, словно где-то в коридоре одновременно включили все выключатели.
Борис Аркадьевич не оборачивается.
– Лампочки опять играют, – тихо говорит он. – Это к переменам.
Мне почему-то хочется спросить, верит ли он во всех этих духов. Но, посмотрев на его лицо, я понимаю, что вопрос лишний. Здесь люди давно в курсе, что стены не пустые.
Мы поднимаемся обратно.
На нашей площадке попугай уже молчит, голову спрятал под крыло. Клетка слегка раскачивается, хотя в подъезде тихо.
Наша дверь встречает нас мягким щелчком замка.
Внутри квартира кажется теплее.
– Ну что, детектив, – говорит бабушка, снимая платок, – будем здесь ночевать, как на посту.
– На каком ещё посту?
– На сторожевом, – отвечает она. – Если они там наверху в бумагах что-то крутят, мы здесь будем смотреть, чтобы слишком не увлекались.
Она уходит в свою комнату, а я ещё немного хожу по квартире.
В ванной проверяю кран – вода идёт тонкой струйкой, шумит в трубах. Зеркало запотело, хотя я воду включала ненадолго.
На кухне мою кружки, ставлю их на полотенце, выключаю свет.
В зале лампа ещё горит.
Я подхожу к портрету.
Лицо Сергея всё то же, но теперь я в его взгляде вижу что-то новое – не просто спокойствие, а ожидание.
– Если вы с нами, – говорю я вполголоса, – вы там через своих духов как-нибудь передайте, где искать. Мы сами без карты заблудимся.
Часы на стене тихо отмеряют секунды.
Одна, вторая, третья.
Календарь возле двери тихо шевелится и, наконец, сдаётся: верхний листок срывается и падает на пол.
Я вздрагиваю.
Подхожу, поднимаю.
Под ним – следующий день. Но на нём жирной печатью стоит число четырнадцать.
– Так нельзя, – шепчу я. – Календарь так не работает.
В ответ в коридоре скрипит одна из половиц.
Я кладу сорванный лист на тумбочку рядом с входом. Рядом с ним аккуратно кладу визитку Ольги Петровны.
Пусть полежат вместе.
Потом выключаю свет, ухожу в зал.
Переодеваюсь в ночную рубашку, стелю плед, ложусь на диван. Матрас подо мной прожимается, как человек, который привык к другому телу.
В темноте портьеры закрыты не до конца, в комнату лезет свет из окна – неяркий, уличный.
Город за стеной не умолкает даже ночью. То лифт проедет, то машина под окнами, то где-то хлопнет балконная дверь.
А ещё слышны тихие шаги в подъезде. Кто-то ходит выше, кто-то ниже. Время от времени звякает лифт, хотя мы, кажется, единственные, кто ещё не спит.
Я лежу и слушаю.
Городские духи неторопливо проходят по костям дома. Деревенский домовой, кажется, ходит за ними следом – проверяет, не слишком ли близко они подходят к двери. Иногда по порогу прокатывается короткий стук, будто кто-то касается его изнутри.
В какой-то момент я почти засыпаю.
И вдруг из-за стены слева доносится знакомый голос.
– Не подпишу, – говорит попугай Кеша.
Голос чуть глуше, чем в подъезде, но слова слышны. А следом – ещё одна фраза, которой он раньше не произносил:
– Память берегите.
Слова звучат так чётко, будто сказаны рядом с моим ухом.
Я сажусь на диване, сердце бьётся чаще.
В квартире тихо.
Бабушка не двигается в соседней комнате, её дыхания не слышно сквозь дверь, но я знаю, что она не спит – просто лежит и слушает так же, как я.
Город за окном тоже будто прислушивается.
Я медленно опускаюсь обратно на подушку.
– Ладно, – шепчу я в темноту. – Поняла.
Я закрываю глаза.
От мыслей об Игоре и его бумагах становится уже не столько страшно, сколько любопытно. Если даже попугай и домовые вступили в эту историю, значит, нас здесь явно больше двух.
И где-то между шорохами подъезда, дыханием старого дома и редкими словами Кеши я засыпаю с твёрдым ощущением, что спор о наследстве мы теперь ведём не только по-человечески.
Глава 4. Секреты старых бумаг
Просыпаюсь от странного звука, будто кто-то тихо водит ладонью по сухим листам бумаги.
Секунду лежу с закрытыми глазами, пытаюсь понять, где я.
Под щекой шершавый диванный подлокотник, пахнет старой тканью и чуть-чуть табаком. Надо мной гудит дом: где-то в стене булькает труба, за окном ворчит машина, а под боком тихо поскрипывает пружина матраса.
Городская квартира Сергея Николаевича. Вчерашний вечер всплывает сразу: попугай Кеша, его «не подпишу», «память берегите», календарь, который скинул лист на пол, и портрет на стене, смотрящий так, будто дядя ещё не решил, рад он нам или всё-таки в претензии.
Шорох бумаги повторяется.
Я открываю глаза.
Комната полутёмная: портьеры прикрыты, между ними пробивается бледная полоска утреннего света. Диван стоит напротив стола. На столе – стопка писем, конверты, папки, блокнот. Всё это я вчера оставила как есть, сил разбирать уже не осталось.
Сейчас один из конвертов лежит чуть иначе.
Верхняя стопка сдвинута набок, край конверта выступает за линию стола. И он еле заметно подрагивает, будто его, с другой стороны, трогают двумя невидимыми пальцами.
– Прекрати, – шепчу я на всякий случай.
Конверт останавливается.
Откуда-то из глубины квартиры доносится слабый звон – бабушка, видимо, хлопочет на кухне. Запах чая ещё не дошёл, но я уже знаю: она там, на кухне, в халате, с платком на голове, занимается своими делами.
Я осторожно поднимаюсь. Пол под босыми ногами прохладный, слегка шершавый, доски отзываются коротким скрипом.
Подхожу к столу.
Тени от бумаг в этом боковом свете выглядят длиннее, чем сами листы. Я беру верхнюю стопку, аккуратно выравниваю, смотрю, что так рвётся наружу.
Конверт без марки. Домашний, грязновато-белый, края чуть потёрлись. На лицевой стороне – крупная надпись шариковой ручкой:
«Письма. Личное».
Я фыркаю про себя. Что может быть более заманчивым, чем слово «личное»? Особенно когда тебя официально назначили семейной «детектившей», а все духи вокруг только и делают, что подталкивают к бумагам.
Я переворачиваю конверт. Клапан вскрыт. Значит, его уже просматривали.
Внутри – несколько сложенных пополам листов, открытка, маленький плотный конвертик. Из него что-то чуть выскальзывает, когда я наклоняю, и я успеваю перехватить.
На этом маленьком конверте, старом, пожелтевшем не от времени, а от частых троганий, аккуратно выведено всего одно слово.
«Вере».
Сердце у меня на пару ударов пропускает ритм.
Почерк знакомый, до смешного. Те самые закруглённые буквы, длинные хвосты, уверенный нажим.
– Дядя, – выдыхаю я.
Голос получается сиплый.
С кухни доносится бабушкин голос:
– Вера, ты проснулась?
– Проснулась, – отвечаю. – И уже занимаюсь непристойным: читаю чужие письма.
– Наши письма не чужие, – отзывается она. – Иди умывайся, потом расскажешь, что там.
Её спокойствие меня возвращает на землю.
Я кладу большой конверт на место, маленький – беру с собой.
В ванной прохладно. Вода в кране сначала идёт чуть ржавая, потом светлеет. Я плескаю на лицо, смотрю на своё отражение: волосы растрёпаны, глаза с тёмными кругами. Но в глубине глаз – не усталость, а какое-то возбуждённое любопытство.
Конверт с моим именем лежит на полочке возле зеркала. И от него, кажется, тоже отражается свет.
– Так, – говорю собственному отражению. – Сейчас чай, потом вскрытие.
Кухня встречает уже знакомым набором запахов: чай, поджаренный хлеб, что-то молочное. На столе стоят две кружки, в одной чай заварен крепче, в другой светлее.
– Тебе вот этот, – бабушка пододвигает мне кружку посветлее. – Нечего на голодный желудок крепкий пить, ещё взбесишься.
Я сажусь. На вешалке болтается её платок, на плиту поставлена кастрюлька с кашей.
– Оно к тебе само пришло, да? – кивает бабушка на конверт в моей руке.
– Практически, – отвечаю. – Бумаги шуршали, один конверт вылез, а в нём – вот.
Я кладу конверт на стол.
– Видела его раньше? – спрашиваю.
– Рассматривала, но не трогала, – признаётся бабушка. – Там много всего. Я думала, потом сядем, спокойно разберём. Значит, тебе первым делом пришло.
– Там моё имя, – напоминаю я.
– Тем более, – кивает она. – Открывай.
Чайник ещё тихо посапывает на плите. Каша побулькивает. Все звуки вокруг такие домашние, что даже то, что я вот-вот буду читать письмо от умершего дяди, кажется частью обычного утреннего распорядка.
Я подцепляю край клапана. Конверт раскрывается легко, как будто его и складывали с расчётом, что кто-то будет открывать не один раз.
Внутри один сложенный лист.
Я достаю его и разворачиваю.
Почерк Сергея Николаевича сразу привлекает внимание – плотные строки, без больших пробелов, аккуратные поля. Внизу дата.
Четырнадцатое.
Только месяц другой, позапрошлый год.
Число четырнадцать в этой истории уже начинает вести себя, как навязчивый родственник: куда ни повернись – везде оно. Календарь на даче, завещание, листы здесь, у двери.
Я перевожу взгляд наверх, на обращение.
«Дорогая Верочка…»
Голос дяди всплывает где-то возле уха.
– Читай, – тихо говорит бабушка, присаживаясь напротив. – И мне вслух, если не сложно.
Я киваю.
– «Дорогая Верочка. Пишу тебе в тот редкий момент, когда руки слушаются, а голова ещё не ругается на каждую букву».
Я невольно усмехаюсь. Это очень похоже на него: даже про своё здоровье – с короткой шуткой.
– «Я знаю, ты не любишь, когда тебе говорят «держись», и сама говоришь людям «не держись, а живи». Поэтому писать «держись» не буду. Напишу по-другому. Семья у нас крепкая, а ты крепче, чем сама думаешь».
Бабушка опускает глаза в свою кружку. Пальцы у неё чуть дрожат, но она молчит.
Я сглатываю и продолжаю:
– «В деревне у вас духов хватает, я слышал. И домовые, и колодцы шепчут, и таблички у вас разговаривают. У меня всё проще: труба гудит, стены старые, а душа всё равно крутится, как у молодых. Так вот, пока могу, записываю тебе на бумаге то, что не успею сказать на кухне за чаем».
Где-то в коридоре тихо отзывается половица, словно под столом кто-то переступил с лапы на лапу.
– «Первое. Я не знаю, когда мои документы кому понадобятся, но знаю, кому я доверяю. Марии – понятно. Она меня всю жизнь выручала. А ещё доверяю тебе. Поэтому однажды, может, не сегодня и не завтра, ты будешь сидеть в этой квартире и разбирать мои бумаги, морщить нос от пыли и возмущаться, что я всё свалил в одну стопку».
– Ну, тут он не ошибся, – хмыкаю я.
Бабушка коротко улыбается, но глаза у неё влажные.
Я продолжаю:
– «К этому моменту у всяких умных людей на руках будут красивые листы с печатями. Ты знаешь, как я к ним отношусь. Пускай себе пишут. Квартира – это стены. А память – это мы. Стены я не заберу с собой, а память о нас – да. Так вот, я не хочу, чтобы кто-то потом пришёл и переписал нашу историю на свой лад».
Фраза «не переписал нашу историю» прямо встаёт рядом с календарным «Берегите память».
Мне становится жарко, хотя чай уже остыл.
– «Если вдруг объявится такой умный человек и начнёт рассказывать, что он мне ближе, чем вы с Марией, – не верь на слово. Ты меня знаешь, я люблю людей, но считать роднёй кого попало никогда не буду. У меня племянников не так много, чтобы я сам в них запутался. Если кто-то скажет, что он мой самый любимый племянник, а ты про него ни разу не слышала – это не твой человек».
Бабушка тихо втягивает воздух.
– «Сергей Николаевич знает, что его «внучка» сможет во всём разобраться, – продолжает письмо, – да, я тут сам себя по-начальнически в третьем лице называю, но ты потерпи. Ты всегда была внимательной, ты умеешь слушать, а это для нашей семейной истории важно. Если придётся, ты спокойно разложишь всё по полочкам и будешь спрашивать до конца, пока правда не скажет: «Ладно, сдаюсь».
Я невольно улыбаюсь. То, как он ставит слово «внучка» в простые кавычки, понятно без объяснений. Для меня он и правда всегда был чем-то средним между дядей и приёмным дедушкой.
– «Я не знаю, как сложатся бумажные дела, – пишет он дальше, – но своё желание сюда всё-таки вставлю. Мне важно, чтобы в этой квартире на стенках висели наши фотографии, а не чужие дипломы. Чтобы на кухне Мария варила свой борщ и ставила в сахарницу свои ложки. Чтобы ты приезжала, когда устанешь от своих деревенских духов, и садилась здесь с чаем, а не шепталась на лестнице, как чужая».
Слова идут густо, будто он торопился писать.
– «Поэтому, если тебе придётся встать и сказать, что мы тут не лишние, – встань. Не для того я жил, чтобы мои стены потом жили с теми, кто меня видел пару раз в жизни. Не давай никому переписать нашу историю. Ни на бумаге, ни вслух. Твоё слово будет весить больше, чем их печати. Я верю в тебя. А если кто-то решит тебе мешать – у нас и без юристов есть кому постучать ночью по батарее».
Я невольно поднимаю взгляд на потолок.
В этот момент как по заказу где-то в районе батареи действительно раздаётся короткий, глухой стук.
Бабушка аж подпрыгивает на стуле.
– Вот, – говорю я. – Подтверждение.
– Дочитай, – шепчет она.
Я опускаюсь обратно в строки.
– «Об остальном потом поговорим, если успею. Если нет – значит, будет повод тебе припомнить меня добрым словом. Дыши, ешь нормально, не вздумай худеть от нервов. Семья сильна. А ты сильнее, чем думаешь. Обнимаю. Твой Сергей Николаевич».
Последняя строчка чуть кривее – будто рука к концу устала.
Я молчу. Бабушка тоже молчит. Только на плите шипит газ, и чайник начинает подвывать.
– Ну, – бабушка, наконец, шевелится, – вот тебе и «ничего не знаю, никого не видел».
– Он же прямо написал, – говорю я. – Про «если кто-то объявится ближе, чем мы».
– Написал, – кивает она. – Только попробуй это в суде зачитывать, скажут: «эмоциональное письмо, не документ».
Она встаёт, торопливо выключает газ под чайником, сдвигает кастрюльку с кашей. Движения у неё чуть резче, чем обычно.
– Но графологу показать можно, – тихо добавляю я. – Здесь подпись, там подпись. Там четырнадцатое, здесь четырнадцатое.
– Вот именно, – бабушка опирается ладонями о стол. – Если они там действительно рисовали его подпись, а не он сам писал, это будет видно.
Она берёт письмо, не раскрывая, просто поглаживает кончиками пальцев верхний край.
– Он когда это писал, – говорит она, – мне ничего не сказал. Я видела, что он что-то шуршит у стола, но думала, очередной список лекарств. А он вон чего.
– Может, хотел потом отдать при встрече, – предполагаю. – Да не успел.
– Господь его знает, – вздыхает она. – Главное, дошло.
Она возвращает письмо мне.
– Забирай. Это твоё.
– Мы его вместе будем читать, – возражаю я.
– Читать – вместе, – соглашается она. – А хранить – тебе.
Я смотрю на лист, на дату, на подпись.
Деревенские духи у нас, конечно, люди прямые. Сразу начинают качать люстру и смывать записки в колодец. Городские подход другие выбрали: попугай говорит фразами, консьерж намекает, календарь застревает на одном числе, а дядя из прошлого протягивает письмо, которое всё расставляет по местам.
– Значит так, – говорю я уже чуть бодрее. – Сегодня у нас план: перекусить, потом сесть и нормально разобрать все эти папки.
– И письма, и бумаги, – поддакивает бабушка. – Посмотрим, кто у нас тут на кого похож.
– И кто у кого сколько раз в жизни был, – добавляю я.
Мы едим, как люди: каша, хлеб, чай. Бабушка пару раз пытается перевести разговор на что-нибудь попроще – вспоминает, как в этом доме раньше дети в подъезде играли, как Сергей Николаевич ругался на соседский ремонт. Но всё равно раз за разом возвращаемся к письму.
– Видишь, – тычет она пальцем в строку, – он сам пишет: «племянников не так много, чтобы запутаться».
– Да, – киваю я. – И ни про какого Игоря ни слова.
– Про Игоря он и при жизни ни слова не говорил, – хмыкает бабушка. – А тут вдруг «любимый племянник».
Я закатываю глаза.
– Ладно, – говорю. – Пойдём уже знакомиться с остальными бумагами. А то у меня такое чувство, что если мы будем тянуть, они сами сейчас пойдут к нам строем.
– В этом доме я бы не удивилась, – фыркает бабушка.
Мы переносим чашки в раковину, моем, вытираем. Кухня потихоньку возвращает себе вид «обычного пространства», но в воздухе остаётся привкус чёрного чая и чего-то ещё – как после чтения старой книги.
В зале я раскладываю на столе всё, что вчера сдвинула в груды. Папки с надписями, конверты, отдельные листы.
– Где у него были документы, помнишь? – спрашиваю.
– Он всё любил складывать по темам, – отвечает бабушка, присматриваясь. – Вот это, кажется, коммуналка. Это – медкарта. А это…
Она берёт одну из папок. На ней выведено: «Разное. Не выбрасывать».
– Ну всё, – вздыхаю я. – Мой любимый раздел.
Мы садимся рядом, как ученицы за партой.
Сначала разбираем простое: квитанции, старые договора, какие-то списки. Я постепенно составляю в голове карту его последних лет: ремонты, лекарства, письма из поликлиники.
Иногда внятно слышно, как за нашей спиной по полу проходит тихий шаг. Я не оборачиваюсь, но ощущаю, как на затылок направлен пристальный взгляд.
– Смотри, – бабушка вдруг наклоняется к одному из листов. – Тут написано, что он собирался…
Она замолкает, ищет очки в кармане халата.
– …«оформить доверенность на Марию и Веру для всех бытовых вопросов».
Документ старый, заполнен наполовину. Там есть его подпись, но нет подписи нотариуса и печати. Номер конторы указан.
– Не успел, – шепчет бабушка.
Я кладу этот лист рядом с письмом.
– Будет ещё один аргумент, – говорю.
Мы перебираем дальше.
В одной из папок находится старый фотоальбом с жёлтыми уголками. Там бабушка в молодости, Сергей Николаевич с гитарой, какая-то шумная компания на даче. Я листаю, задерживаюсь на кадрах, где он смеётся.
Там нет ни одного лица, похожего на Игоря.
– Если бы у него был такой племянник, – не выдерживаю я, – он хоть раз вылез бы на фотографию.
– Хоть боком, – соглашается бабушка.
Я закрываю альбом, возвращаюсь к «Разному».
Внизу папки, почти у самого дна, находится ещё один конверт. На этот раз не домашний, а почтовый, с маркой. Адрес написан его рукой, отправитель – тоже он. Но конверт явно не был отправлен: тут нет штемпеля почты.
Адресат – та самая нотариальная контора, где сейчас хранится завещание.
– Интересно, – тяну я.
– Очень, – бабушка уже вытягивает шею. – Открывай.
Я аккуратно надрываю край. Внутри – лист с ровными строками.
Это черновик.
Он обращается к нотариусу с просьбой подготовить документы «в связи с тем, что планирую оформить завещание в пользу моей сестры Марии Ивановны и её внучки Веры».
Я перечитываю дважды, чтобы убедиться, что мне не кажется.
– Ты это видишь?
– Вижу, – голос у бабушки срывается. – Значит, сначала он думал так.
– А потом внезапно всё переписал на Игоря, – добавляю я.
Бумага в руках у меня чуть дрожит.
– Или не он, – глухо говорит бабушка.
Это важный момент.
Я чувствую, как квартира в этот момент будто замирает. Звуки из подъезда куда-то уходят, трубы притихают, даже часы на стене, кажется, делают паузу между ударами.
Портрет Сергея Николаевича висит прямо напротив стола. В этом освещении у него становится отчётливее линия подбородка, жёстче взгляд.
– Ну что, дядя, – тихо говорю я, – принимаем твой вызов.
В ответ где-то в районе батареи снова раздаётся короткий стук.
Бабушка крестится.
– Не надо меня пугать, – ворчит она, но в голосе больше нежности, чем страха.
Я откладываю черновик рядом с письмом и незаверенным бланком доверенности. Получается такая маленькая стопка его настоящих планов, не доведённых до конца.
– Теперь у нас есть не только эмоции, но и бумага, – говорю я. – Они своих юристов привели, а мы приведём его собственные слова.
– И его «не подпишу», – мрачно добавляет бабушка. – Кеша тоже свидетель.
Я смеюсь, хотя в горле всё ещё ком стоит.
– Интересно, примут ли в суде показания попугая, – бурчу я. – «Попугай слышал, как умерший говорил…»
– Наш суд ещё и не такое слышал, – отмахивается бабушка. – Но даже если нет, нам самим главное знать, что мы не с пустыми руками.
Она вдруг очень просто и уверенно говорит:
– Мы его не оставим. Ни здесь, ни там.
Я понимаю, что «там» у неё теперь не только про бумажные кабинеты, но и про то место, где все эти духи, включая Сергея Николаевича, продолжают ходить по своим делам.
Мы продолжаем разбор.
Час проходит за часом, стопки на столе то растут, то уменьшаются. Я разделяю документы на три кучки: «важное», «может пригодиться», «на память».
В «на память» уходят фотографии, открытки, какие-то смешные списки: «купить гвозди, чай, тетрадь, позвонить Вере».
В «важное» – завещание, черновик письма нотариусу, наше письмо «Вере», незавершённая доверенность.
– Ещё бы его медкарту найти полностью, – бормочу я. – Чтобы знать, когда именно он был в состоянии писать, а когда уже нет.