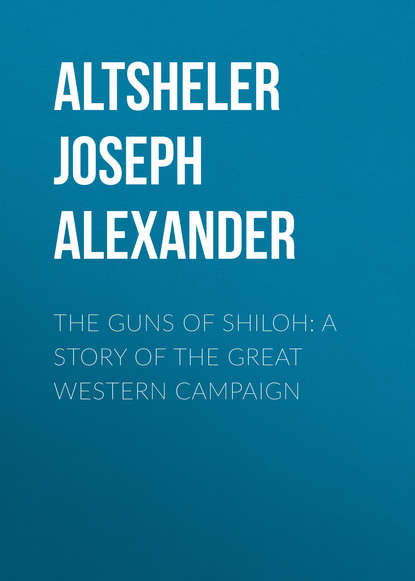Книга 3. Следствие ведут духи. Эхо городского портрета

- -
- 100%
- +
– Это у врача, – вздыхает бабушка. – Но у нас есть даты его лежаний, я всё записывала.
Она достаёт из кармана сложенную записную книжку. Там мелким почерком: «Больница. Поступил такого-то, перевели такого-то…»
– Всё это потом к одному умному человеку отнесём, – говорит она. – Пускай смотрит, как пазл сходится.
– Ты про юриста или про графолога?
– Про обоих, – отвечает она.
Я понимаю, что внутри у меня уже перестаёт дрожать. Наоборот, появляется чувство, что меня поставили на какую-то линию и сказали: «Вот отсюда и до вон того угла – твоя территория. Разберись».
Возле входной двери глаз цепляется за тумбочку, на которой вчера остался упавший календарный лист и визитка Ольги Петровны.
Я встаю, подхожу, беру календарь.
Новый день там всё так же стоит с жирным числом и привычной фразой снизу.
«Не бойтесь начинать сначала».
– Очень вовремя, – бурчу я.
Я перекладываю визитку юриста поверх календаря. Получается забавная композиция: её официальное имя и под ним – спокойное пожелание дня.
– Начинать сначала не боимся, – говорю я вслух, – боимся только бросить на полпути.
Квартира отзывается тихим вздохом трубы.
Я возвращаюсь к столу.
Письмо «Вере» лежит ровно посередине нашего маленького бумажного фронта.
– Знаешь, что самое смешное, – говорю я бабушке, – если бы мы вчера не остались на ночь, всё это могло бы ещё годами лежать в шкафу.
– Ничего смешного, – отвечает она. – Он же там ясно сказал: «однажды ты будешь сидеть в этой квартире и разбирать мои бумаги». Значит, так и должно было случиться.
Она смотрит на меня испытующе.
– Ну что, возьмёшься?
Я улыбаюсь.
– Я уже взялась.
Где-то в глубине квартиры, в районе старого шкафа, тихо шевелится.
Наш деревенский домовой ревнует, но, кажется, одобряет. Городские духи тоже притихли – явно обсуждают, что за новая хозяйка у них нашлась.
Я чувствую себя не только «детективом поневоле», но и чем-то вроде хранителя архива.
Можно спорить с юристами, можно спорить с консьержами и соседями, но спорить с собственным письмом от дяди – бессмысленно.
– Ладно, – поднимаю я голову. – Сначала бумаги. А потом уже будем решать, кого к нам в союзники записывать – графологов, попугаев или подъездных духов.
Бабушка усмехается.
– Всех запишем, – говорит она. – У нас дело серьёзное, нужны свидетели из всех миров.
И пока мы наклоняемся над очередной папкой, я чувствую, как за спиной у нас выстраивается целая незримая очередь.
Кто-то шуршит, кто-то чуть постукивает, кто-то тихо дышит.
Секреты старых бумаг больше не хотят лежать тихо.
И я уже точно знаю: дальше они будут открываться один за другим, и остановить этот процесс будет сложнее, чем начать.
Глава 5. Рябина у восточной стены
Сон приходит резко, как будто кто-то выключает свет не только в комнате, но и в голове.
Последнее, что я помню из яви: письмо дяди на столе, аккуратно сложенное, рядом черновик его заявления нотариусу, стук батареи, будто он подмигивает своим «не давай никому переписать нашу историю». Потом мы с бабушкой ещё немного сидели, перебирали папки, а я всё повторяла число – четырнадцатое, четырнадцатое, четырнадцатое.
Как пароль.
А дальше – я уже не в силах разобрать, где заканчивается вечер и начинается сон.
Мне снится квартира Сергея Николаевича. Та же, в которой я сейчас живу. Только она… другая. Светлее, что ли. Как будто стены вымыли до самой штукатурки, окна распахнули, и даже старая мебель стала чуть новее.
Я стою посреди зала. На столе нет ни одной бумаги. Ни завещания, ни конвертов, ни квитанций – пусто. Только скатерть и вазочка с рябиной, полная красных кистей. Я точно знаю, что это рябина, хотя никогда не видела её у дяди на столе.
Портрет на стене – на своём месте.
Но там, где обычно просто плотная масляная краска, теперь шевелятся глаза. Сначала мне кажется, что это просто от света, от бликов, но нет. Сергей Николаевич смотрит прямо на меня.
Он не злой и не строгий. Скорее – сосредоточенный. Такой был, когда решал какую-нибудь свою задачку: как уместить шкаф в маленькой комнате или как провести проводку, чтобы не свисали лишние шнуры.
Я делаю шаг вперёд.
– Дядя?
Губы на портрете не двигаются, но голос я слышу ясно, будто он сидит рядом.
– Не забудь четырнадцатое.
Ваза на столе дрогнула. Плоды рябины лёгким звонким дождём коснулись стекла.
– Какое четырнадцатое? – спрашиваю я, хотя сама уже догадываюсь.
– Наше, – отвечает голос. – То, что всегда было нашим.
Он будто хочет сказать ещё что-то, но в этот момент на стене, за портретом, проступает светлая полоса. Не трещина – линия. Восток. Я почему-то уверена, что это восток.
К линии тянется тень ветки. Рябиновые гроздья словно прижимают себя к этой стене, как будто им туда и место.
– Не отрывайся, – говорит голос. – Восточная стена помнит.
Я тянусь рукой к портрету. И в эту секунду всё резко темнеет.
Меня будто отдёргивают назад.
***
Просыпаюсь рывком, с ощущением, что меня только что вытащили из воды за шиворот.
Подо мной не диван, а мягкая, чуть продавленная кровать. Простыня гладкая, пахнет крахмалом и чем-то знакомым, бабушкиным.
За окном темно.
Не сразу понимаю, где я.
Поворачиваю голову – вижу на стуле у стены бабушкин халат, на спинке кровати её платок. На тумбочке – стакан воды и пузырёк с таблетками.
Я лежу в маленькой комнате, на бабушкиной кровати.
– Вот это да, – шепчу в темноту.
Во рту сухо, сердце стучит часто.
– Проснулась? – слышу рядом тихий голос.
Бабушка сидит у окна на табурете. В руках у неё чётки – старые, деревянные. Она перебирает их пальцами, но сейчас пальцы остановились.
– Как я сюда попала? – шепчу я.
– Ночью пришла, – так же тихо отвечает она. – Я тебя разбудила, чтобы ты с дивана подальше от окна перелегла. Ты встаёшь, идёшь сюда, ложишься и сразу снова заснула. Даже глаза толком не открыла.
Я этого не помню.
– Снилось что-то?
– Снилось, – говорю я, чувствуя, как к горлу снова подступает сонный холод. – Он. И рябина. И восточная стена.
Бабушка ничего не отвечает, только медленно поднимается с табурета.
– Тогда вставай, – говорит она. – Нам надо кое-что посмотреть.
Она включает настольную лампу на тумбочке.
Свет мягкий, жёлтый, не режет глаза. Но сразу делает комнату теснее.
Я приподнимаюсь на локтях.
Взгляд цепляется за календарь на стене напротив.
Это другой календарь, не тот, что в зале. Здесь – небольшой, настенный, с пейзажами. Сейчас открыт октябрь.
И возле даты «14» красным кругом обведена надпись.
«Рябина у восточной стены».
Я сажусь.
– Этого тут не было, – выдыхаю.
– Не было, – спокойно подтверждает бабушка. – Вчера я смотрела на этот календарь.
Красная надпись сделана обычной ручкой, но чернила свежие. Чуть блестят в свете лампы.
– Ты писала?
– Я сплю, когда сплю, – хмыкает бабушка. – Не хожу по ночам с ручками.
Она подходит к стене и показывает на правую сторону комнаты.
Там, между кроватью и углом, к обоям прикреплена тонкая сухая веточка. Рябина. С морщинистыми листьями и красными ягодами, почерневшими на кончиках.
Ветка приколота старой булавкой, так аккуратно, словно висела здесь уже неделю.
Я точно знаю, что вчера её не было. Я бы заметила, когда рассматривала комнату.
– Бабушка…
– Смотрю, ночью свет проснулся. Пошла, думаю, проверю, – спокойно говорит она. – А тут вот.
– И календарь с надписью?
– Календарь я даже не сразу увидела. Сначала – ветку. Потом посмотрела на число.
Мы некоторое время просто молчим.
Дом в это время тоже не шумит. Где-то далеко гудит лифт, но внутри квартиры тихо. Лишь часы на кухне отмеряют секунды.
– Рассказывай, что тебе снилось, – говорит бабушка.
Я рассказываю: про пустой зал, про вазу с рябиной, про портрет, который сказал «не забудь четырнадцатое», про светлую линию на стене и тень ветки.
Когда заканчиваю, бабушка уже не просто стоит, а будто прислушивается не только ко мне, но и к чему-то ещё.
– Значит, дошло, – вздыхает она наконец. – Не только до меня, но и до него.
– До кого?
– До твоего Сергея, – говорит она. – И до тех, кто над ним.
Я смотрю то на ветку, то на календарь.
– А что значит эта фраза? – спрашиваю. – «Рябина у восточной стены». Ты писала её когда-нибудь?
– Я – нет, – качает она головой. – Но слышала. И не раз.
Она садится ко мне на край кровати, чётки кладёт рядом.
– У нас в роду, – начинает она, – с давних времён считали, что у каждой семьи должна быть восточная стена.
– Это как?
– Не буквально прямо как в архитектуре, хотя и так тоже, – поясняет бабушка. – В избах всегда знали, где восток. Там солнце встаёт. Там и красный угол, и иконы, и всякие обереги. А прадед мой, твой пра-прадед, любил говорить: «Пока у семьи есть восточная стена, у неё спина прикрыта».
Я прислушиваюсь. Это уже похоже на ту часть семейных легенд, которые обычно всплывали под чай на даче.
– К рябине это как относится?
– Относится, – кивает бабушка. – Четырнадцатое октября у нас всегда было особым днём.
Я вскидываю глаза на календарь.
Октябрь. Число «14» обведено аккуратным кругом.
– Покров, – вспоминаю я.
– Он самый, – поддакивает она. – В деревне в этот день и в храм ходили, и девки замуж просились, и скотину лишний раз крестили. А у нас в семье отдельно делали одно дело: свежую ветку рябины привязывали к восточной стене дома.
– Зачем?
– От беды, – просто отвечает бабушка. – От оговоров, от дурного глаза, от зависти родни. Рябина у нас считалась деревом, которое умеет печати снимать. Не бумажные, а такие, что на сердце ставят.
Мне этот образ нравится: рябина, которая не даёт чужому слову приклеиться.
– Я про это что-то слышала, – говорю я. – Но как-то мимо ушей пролетало.
– Потому что пока беда не пришла, всё кажется сказкой, – вздыхает бабушка. – А теперь, видать, решили тебе напомнить.
Она смотрит на веточку.
– Я в городе этот обычай не держала, – признаётся она. – Деревня есть деревня, там всё понятно: где восток, где запад, где наша стена. А тут дом многоэтажный, стены чужие, соседей много… Я думала, что и так обойдёмся.
– А не обошлись, – тихо добавляю я.
– Не обошлись, – подтверждает бабушка. – Сначала Серёжкины болячки, потом тебе эта история с медальоном, потом с табличкой, теперь вот с квартирой и этим…
Она даже имени Игоря не произносит.
– Видно, там наверху решили, что нам без рябины никак, – улыбается она уголком рта. – Напомнили, как могли.
– Ты ветку сама принесла?
– Нет, – она качает головой. – Я тебе говорю: проснулась от того, что в коридоре свет включился. Пошла проверить: вдруг ты встала. А ты лежишь тут, как убитая, и спишь. Свет выключен. Но в комнате светло, как сейчас. Я гляжу – ветка.
– Может, соседи?
– Соседи нам рябину на стену прикалывать не будут, – отрезает бабушка. – Они и не знают, где у нас восток.
– А мы знаем?
– Сейчас узнаем, – говорит она с таким тоном, будто собирается к соседу ругаться, а не с компасом дружить.
Она встаёт, выходит в коридор.
Я слышу, как открывается шкафчик, где лежат всякие мелочи. Потом она возвращается с маленьким кругляшом на верёвочке.
– Что это?
– Компас, – гордо сообщает бабушка. – Серёжка ещё в молодости купил, когда по тайге с друзьями ходил. Всё хранил, говорил: «навигация навигацией, а стрелка не подведёт».
Она ставит компас на тумбочку, ждёт. Стрелка чуть дрожит, потом утыкается в одно направление.
Бабушка медленно поворачивает календарь, прикидывает.
– Вот, – показывает она на стену, где висит ветка. – Это и есть восточная стена для нашей квартиры.
Я чувствую, как внутри что-то встаёт на место.
– Получается, наш дом сейчас по всем правилам защищён?
– По нашим – да, – кивает бабушка. – По ихним – ещё посмотрим.
«Ихние» – это и юристы, и нотариусы, и все прочие, кто любит бумажные слова больше живых.
Я снова смотрю на календарь.
– Кто написал эту фразу?
– Думаю, не тот, кто в третьем подъезде вахту несёт, – фыркает бабушка. – Почерк, кстати, не мой и не Серёжкин.
Я встаю, подхожу ближе, всматриваюсь в буквы. Почерк действительно не совсем знакомый. Как будто кто-то из наших, но не из ближайшего круга.
– Может, мамин?
– Нет, – качает бабушка головой. – У твоей матери буквы острее.
Мы переглядываемся.
Снаружи за окном начинает светлеть. Ночь отступает так же тихо, как пришла.
– Ладно, – говорит бабушка. – Раз уж тебя подняли, давай считать, что это не просто «аукнулось», а прямо наставление.
– Какое именно?
– Что четырнадцатое – не просто дата в бумаге, – отвечает она. – А наш день защиты.
Меня от этих слов будто подталкивает вперёд.
– В письме он тоже эту дату поставил, – напоминаю я. – Четырнадцатое, только другого месяца.
– И календарь, и завещание, и письма, и попугай, – перечисляет бабушка. – Все на одно число указывают.
Я не выдерживаю, усмехаюсь.
– У нас целый хоровод свидетелей, – говорю. – И все без регистрации, кроме календаря.
– А календарь у нас как главный нотариус, – подхватывает бабушка.
Мы и смеёмся, и не смеёмся одновременно.
– Расскажи про ту историю, – прошу я. – Ты сказала, что рябина уже один раз помогала, когда дом пытались отнять.
Бабушка глубоко вздыхает.
– Это было давно, – начинает она. – Я тогда ещё подростком была. Жили мы в дедовом доме. Стоял он на окраине деревни, рядом с оврагом. Дом крепкий, бревенчатый, внутри всё по уму.
Я устраиваюсь поудобнее на кровати.
– В войну и после неё многие жили тесно, – продолжает она. – Кто-то к кому-то подселяли, кто-то сам просился. У нас тоже временно родственники жили. Одни ушли, другие остались.
– И кому-то понравился дом?
– А кому бы не понравился хороший дом? – вздыхает она. – Наш дальний родственник, двоюродный дядька, решил, что ему там самое место. Документы тогда тоже умели переписывать. Пошёл к председателю, что-то там насоветовал, и вдруг оказалось, что наш дом по бумагам чуть ли не «лишний».
Я чувствую, как во мне поднимается злость. Такие истории, кажется, никогда не стареют.
– Твой прадед тогда не сильный уже был, – говорит бабушка. – Здоровье посадил, пока строил, пока хозяйство тянул. А тут ещё эта возня.
– Что он сделал?
– То же, что и всегда, – усмехается она. – Сначала пошёл по-человечески: в сельсовет, к председателю. А потом – к восточной стене.
– В смысле?
– У нас в доме восточная стена была там, где красный угол, – напоминает бабушка. – В тот год на Покров он привязал туда самую толстую ветку рябины. Говорил: «Пока она здесь, никто нас не сдвинет».
– И что?
– А то, что через день у того дядьки, который хотел дом забрать, вдруг вскрылось столько своих грехов, что ему стало совсем не до нас, – хмыкает бабушка. – Там и про недопоставленную муку вспомнили, и про какие-то неучтённые коровы, и про то, как он чужое зерно к себе в амбар перетаскивал.
– Совпадение?
– Может, – пожимает плечами она. – Но я с тех пор знаю: рябина у нас не просто так на заборе росла.
Я перевожу взгляд с ветки на стену.
Обои на этой восточной стене обычные, светлые, с мелким рисунком, который трудно разглядеть в темноте. Но сейчас мне кажется, что за рисунком прячется ещё что-то.
– Получается, – медленно произношу я, – что теперь у этой квартиры тоже появилась своя восточная стена.
– А как иначе, – кивает бабушка. – Она же теперь наша не только по документам, но и по памяти.
Я снова вспоминаю сон: светлая линия за портретом, голос дяди.
Мне становится спокойнее.
– Знаешь, – говорю я, – раньше я думала, что все эти обычаи – это просто красивые сказки. Ну, чтобы дети не забывали, какой сегодня праздник.
– А сейчас?
– А сейчас мне кажется, что это как договор, – отвечаю. – Между теми, кто уже ушёл, и теми, кто ещё тут.
– Правильно тебе кажется, – мягко говорит бабушка.
Мы сидим молча ещё какое-то время.
За стеной слышен тихий шорох, будто кто-то в соседней комнате ходит в носках.
– Слышишь? – шепчу я.
– Слышу, – кивает бабушка. – Это они уже по квартире ходят. Привыкают, что у нас теперь восточная стена активная.
Я улыбаюсь.
– Наш деревенский домовой ревнует, – добавляю. – Ему, наверное, обидно, что в городе без него столько всего крутится.
– Он не ревнует, – уверенно отвечает бабушка. – Он тебя сюда и провёл. Видно же, что без него ты бы уже третий день ходила вокруг да около и боялась в эти папки заглянуть.
С этим трудно спорить.
– Ладно, – говорит она, поднимаясь. – Ложись ещё на минут десять, потом встанем, умоемся и походим по квартире.
– Зачем?
– Будем смотреть, где у нас ещё восток проглядывает, – загадочно отвечает она. – В таких делах надо всё проверять.
Я снова укладываюсь, но спать уже не хочется.
Я лежу и рассматриваю ветку.
Ягоды на ней сморщенные, но держатся крепко. Листьев почти нет, они осыпались. Всё как бывает к середине осени.
Я не знаю, откуда её сюда принесло. Во дворе у дома я рябины не видела, только тополя да какие-то кусты.
Но ветка здесь. И календарь с надписью тоже. И сон со словами «не забудь четырнадцатое».
Вера во мне, которая любит всё раскладывать по пунктам, говорит: «это всё совпадения».
А другая, которая уже общалась с медальоном, табличкой и городскими духами, отвечает: «совпадения тоже кто-то собирает».
***
Через полчаса мы уже ходим по квартире с компасом.
Это занятие само по себе забавное.
– Здесь кухня, – бормочет бабушка, – здесь окно на двор, значит, восток уходит туда…
Стрелка стрелкой, а привычка у неё всё равно по солнцу ориентироваться.
Я сижу на подоконнике, смотрю на двор.
Там ещё темновато, но уже видно силуэты деревьев. И, кстати, одно из них, как назло, похоже на рябину.
– Видишь? – тыкаю пальцем в окно. – Вон там, возле детской площадки.
– Вижу, – прищуривается бабушка. – И что?
– Может, ветку оттуда принесло.
– Ветка сама через домофон не зайдёт, – отрезает она. – Не ищи слишком простых объяснений, когда тебе уже трижды всё разжевали.
Я смеюсь.
Мы проверяем зал.
Там портрет, диван, стол, тот самый календарь с застрявшими числами.
– Здесь восточная стена другая, – говорит бабушка, сверяясь с компасом. – Но она всё равно в нашу сторону смотрит.
Я невольно смотрю на портрет.
– Получается, он почти на востоке висит?
– Почти, – кивает она. – Ему положено.
Линия между снами и действительностью в этой квартире всё больше стирается.
Я замечаю, как рядом с портретом, чуть ниже рамы, на обоях виднеется еле заметное светлое пятно.
Будто там раньше что-то висело, а потом сняли.
Я подхожу ближе, проводя пальцами по обоям.
Поверхность обычная, чуть шершавая. Но кончики пальцев чувствуют едва заметную бороздку, как от рисунка или от давно прорисованных букв.
– Что там? – подходит бабушка.
– Не знаю, – отвечаю. – Но мне кажется, что здесь что-то есть.
Я щурюсь, пытаясь разглядеть.
В свете утреннего окна обои показывают только стандартный узор. Но если посмотреть чуть сбоку, будто проступают какие-то линии.
Не сейчас.
– Потом, – шепчет что-то внутри. – Не торопись.
– Наверное, старая трещина, – бабушка пока не замечает ничего особенного. – Обои выровняли, а след остался.
Я киваю, но знаю, что это не просто трещина.
Просто время ещё не пришло.
Календарь упорно держится за своё четырнадцатое число. Письмо дяди лежит среди важных бумаг. Восточная стена обрела свою рябину.
А значит, следующими начнут говорить сами стены.
Мне становится даже немного весело от этой мысли.
Если кто-то со стороны заглянет к нам, увидит двух женщин, которые ходят по квартире с компасом и разговаривают с веткой. Подумал бы: «Совсем у них голова поехала от наследства».
А мы просто восстанавливаем семейную систему координат.
– Знаешь, – говорю я бабушке, – мне теперь уже не так страшно идти к этим юристам.
– С чего вдруг?
– Потому что я понимаю, что мы не вдвоём, – отвечаю. – У нас теперь целая группа поддержки.
– Это да, – соглашается бабушка. – Серёжка, прадед с рябиной, твой домовой, местные духи, попугай, консьерж…
– Календарь, – добавляю я.
– Календарь отдельно, – улыбается она. – Он у нас главный секретарь.
Мы смеёмся.
Но смех уже без напряжения.
Восточная стена молча слушает.
И где-то под обоями, на уровне человеческих глаз, я уже почти чувствую, как затаилась некая надпись, ожидая своего часа.
Глава 6. Тени календаря
Я сижу на табурете у стола и пытаюсь понять, кто сегодня главный в этом доме – юристы или приметы.
На столе передо мной лежит письмо Сергея Николаевича, аккуратно сложенное. Рядом – незавершённая доверенность, черновик письма нотариусу. Всё это мы уже перечитали раз пять, если не десять.
Бабушка ставит чайник на газ. Пламя спокойно облизывает дно, на кухне делается теплее.
– Я так понимаю, – говорю я, – что четырнадцатое теперь у нас как личный семейный бренд.
– Не бренд, а зарубка, – поправляет бабушка. – Чтобы не забывали.
Я киваю. Четырнадцатое мая в письме, четырнадцатое в завещании, четырнадцатое октября на календарях. И сон с дядиным голосом про «не забудь четырнадцатое».
Край бумаги под моими пальцами сухой и тёплый.
Газ на плите слегка шепчет.
Вдруг сзади раздаётся сухой шелест.
Я вздрагиваю, оборачиваюсь.
На холодильнике, у самого верха, висит старый календарь. Тот самый толстый, отрывной, который так и висит, хотя год на нём уже давно не совпадает с реальностью.
Сейчас листок на нём приподнимается и медленно загибается уголком. Потом падает обратно.
– Видела? – спрашиваю я.
– Видела, – спокойно отвечает бабушка, даже не оборачиваясь.
Лист снова шевелится. Календарь тихо шуршит, будто кто-то за ним стоит и трогает бумаги с обратной стороны.
Окна закрыты. Сквозняка нет.
Чайник ещё даже не закипел.
– Это не он ли, наш товарищ? – киваю я на холодильник.
– Календарь? – не понимает бабушка.
– Домовой, – уточняю.
– А кто ж ещё, – вздыхает она. – Трубы сегодня молчат, батареи тоже. Ему надо где-то себя проявлять.
Календарь шевелится третий раз, уже сильнее. Вся стопка листов слегка смещается вниз, один лист наполовину вылезает.
Я подхожу ближе.
На верхней странице крупно напечатано «СЕНТЯБРЬ». Число с отрывом отрывного календаря было другое, но кто-то уже потрудился выдрать его до нас.
Надпись ручкой по полю: «Записаться к терапевту».
Тени от листов падают на дверцу холодильника рваными полосками. При моём движении они словно живут отдельно: то удлиняются, то замирают.
– Такое чувство, – бурчу я, – что он нам уже не просто день показывает, а целые спектакли устраивает.
– Пусть лучше календарь дерёт, чем посуду, – резюмирует бабушка. – Ты его не дразни, а то ещё лампочку опять щёлкнет.
Я прослеживаю взглядом за шевелением листа.
Шорох повторяется. На этот раз лист не только приподнимается, но и хлопком переворачивается. Под ним открывается следующий.
Я вижу знакомое число.
«14».
Тень от загнутого края перерезает цифру пополам.
– Ага, – тихо говорю я.
Бабушка выключает газ, подходит ко мне, вытирая руки о полотенце.
– Дай-ка глянуть.
Она поднимает уголок листа, смотрит на надписи. Здесь тоже старые записи: «Марии – поликлиника, 10.00», «Почта». Ничего особенного.
Но под печатным числом, там, где обычно пустое поле, тонко, почти неразборчиво выведено: «Не забыть».
– Это я писала? – щурится бабушка.
– Не знаю, – честно признаюсь. – Почерк наполовину похож, наполовину нет.
Буквы вытянутые, наклон лёгкий, уверенный. В дневнике Сергея Николаевича почерк был другой. В письме – тем более.
– Тени календаря, – хмыкаю я. – Их кто хочет может подписать.
– Зато смысл один, – бурчит бабушка.
Она аккуратно приглаживает листок.
Тень от него ложится на дверцу ровной полосой, но уголок всё равно чуть дрожит, будто сопротивляется этому «прижатию».
– Смотри, – говорю я.
На стене рядом с холодильником тени от календаря словно расползаются по обоям. От каждого листка – своя полоска. Они накладываются друг на друга. В сумме получается тёмное пятно, похожее на прямоугольник.
Если приглядеться, в самом центре этого пятна чуть плотнее лежит тень от цифры «14».