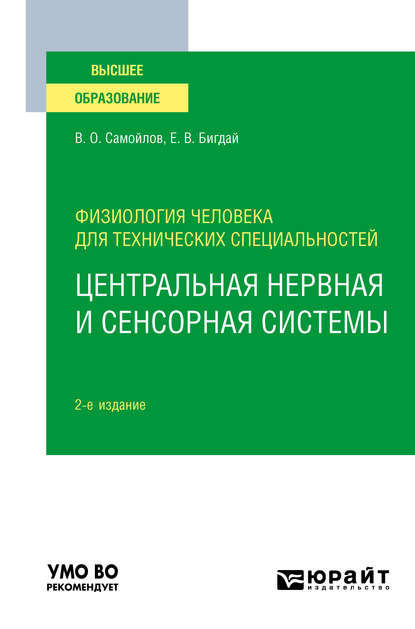- -
- 100%
- +
Рамфорд внутри стен ударил по всем органам чувств с ошеломляющей, почти болезненной силой. Улицы, вымощенные чистым, тёплым на ощупь под солнцем камнем, не просто кишели – они дышали, кричали, бурлили жизнью. Не измождёнными тенями, а живыми, шумными, отчаянно алчными к каждому мгновению существования людьми: торговцы зазывали громкими, как петушиные крики, голосами с лотков, ломившихся от рубиновых яблок, изумрудных шёлков, золотистых специй, дымящихся пирожков, пахнущих жареным мясом, луком и жиром; дети с визгом носились между ног пешеходов, как стайки шустрых, неугомонных воробьёв; где-то у фонтана музыканты выводили задорные, цепляющие за душу мелодии на лютнях и свирелях, собирая медяки в шапку. Даже небо, окаймлённое высокими остроконечными крышами домов с причудливыми флюгерами, казалось Энтони невероятно ярче, чище, безмятежнее, чем там, за стеной. Воздух гудел не пылью и гнилью страха, а густыми ароматами специй, свежеиспечённого хлеба, жареного мяса, цветов с балконов и… иллюзией безопасности. Или это был просто запах жизни, отчаянно цепляющейся за своё место под этим ярким небом. Чем ближе телега продвигалась к центру, тем величественнее вздымались здания из тёсаного серого и бежевого камня, украшенные резными карнизами и гербами. И тем явственнее выделялось одно, доминирующее над окружающей роскошью – Королевская Академия Защиты. Не дворец с изящными башенками и арками, а суровая, угловатая цитадель из тёмного, почти чёрного базальта. Высокие, узкие окна больше походили на бойницы, квадратные башни по углам не украшали фасад, а властно доминировали над ним, как стражи. Её создали не для красоты и не для утех, а для одной цели – выживания королевства в его самых суровых формах.
Телега миновала главные ворота, свернула в боковой проезд и остановилась у неприметной, но крепкой двери – входа для новобранцев и служебного персонала. Здесь не было парадной встречи. Суровый привратник в простой форме записал имена, кивнул и жестом велел следовать за ним. Началась новая жизнь.
Комната в казарме Академии оказалась неожиданно просторной, чистой и… человечной. Пахнущей свежей краской на стенах, воском, которым натёрли дубовый пол, и строгим, почти спартанским порядком. Две узкие, но крепкие койки с грубыми, но чистыми шерстяными одеялами. Простой, добротный дубовый стол у стены под окном. И… огромное зеркало во весь рост в тяжёлой деревянной раме. В нём отразился Энтони – худой, как жердь после долгой зимы, в поношенной, пропылённой, пропотевшей дорожной одежде, с лицом – холстом, на котором ещё не зажили последние синяки и ссадины. Но главным сокровищем комнаты, её душой, было окно. Огромное, арочное, почти до потолка. Из него открывался захватывающий дух вид на кипящий, шумящий жизнью город, на море черепичных крыш всех оттенков охры и терракоты, на далёкие, острые, как иглы, позолоченные шпили королевского дворца, купающегося в багряных лучах заката. Это был живой кусочек мира, который им, обитателям этой каменной коробки, предстояло защищать ценой своей крови. Или умереть за него, так и не успев узнать его истинных радостей и тепла. Энтони стоял у окна, но не видел красоты. Он видел бездну между этим миром и тем, откуда он пришёл. Здесь пахло порядком и воском, там – пеплом и кровью. Здесь были прочные стены, там – обугленные брёвна. Он был здесь по воле случая, ошибкой в системе, песчинкой, затянутой в гигантский, бездушный механизм, предназначение которого он ещё не понимал.
– Привет, – голос был тихий, осторожный, словно боявшийся разбить хрупкое молчание или спугнуть только что обретённый покой.
Энтони резко обернулся. В дверях, не решаясь переступить порог, стоял парень, почти его ровесник, но казавшийся младше из-за какой-то неуверенной пластики, съёжившихся плеч.

– Ты, должно быть, Энтони? Мне сказали о твоём приезде. Я Алан. Буду твоим соседом, – он сделал робкий шаг вперёд. Светлая кожа Алана была слегка тронута солнцем, но не грубым крестьянским загаром, а лёгким золотистым налётом, как у тех, кто много времени проводит, глядя вдаль, за горизонт, в мечтах или в тоске. Его карие глаза постоянно ускользали от прямого взгляда, не могли удержаться на собеседнике, будто искали на полу, на стенах, где угодно, потерянную крупицу уверенности. Белёсые, длиной почти до плеч волосы торчали беспорядочно, как выдернутая пакля. Он нервно теребил рукав своей простой рубахи из грубого небелёного полотна.
– Рад знакомству, – ответил Энтони, стараясь вложить в улыбку всю искреннюю теплоту, на какую был способен его израненный душой. Он узнал этот взгляд – взгляд человека, который тоже держал в руках холодный пепел утраты, который тоже знал вкус бесприютности.
– Я тоже рад, – пробормотал Алан, робко улыбнувшись в ответ уголками губ. Его взгляд скользнул, как пугливая ящерица, по скромному, потрёпанному дорожному мешку Энтони, брошенному у койки. – Дорога была… трудной? – спросил он, словно ища точку соприкосновения в общем опыте тягот.
– Достаточно, чтобы оценить эти стены, – кивнул Энтони в сторону окна, за которым уже сгущались вечерние тени, окрашивая город в синие и лиловые тона. В его голосе прозвучала тяжёлая, неподдельная нота. – Они впечатляют.
– Да… они… защищают, – взгляд Алана снова упал, приковался к чёткой линии, где стыковались каменные плиты пола, но в его тихом голосе прозвучала нотка чего-то, кроме страха. Слабая, но упрямая искорка. Возможно, зачаток гордости за то, что теперь он за ними. За этой каменной бронёй. – Переодевайся, пожалуйста. Командир рыцарей… капитан, сэр Вильям… велел привести тебя, как только ты устроишься. Сразу. Он ждёт.
Форму Академии выдали Энтони при заезде в холодном каменном вестибюле. Она не была роскошной, но добротной, сшитой на совесть из прочной шерстяной ткани цвета пепла – не чисто белого, а с сероватым, стальным отливом. Короткий приталенный камзол с высоким, строгим воротником-стойкой и застёжками из тусклого, не бьющего в глаза олова. Удлинённый жилет поверх него, доходящий до середины бедра, с нашитыми на груди и спине знаками Академии – скрещённые мечи и ключ. Защита и Доступ? Или Защита и Заключение в эту судьбу? Плотные шерстяные бриджи, заправляемые в высокие, надёжные сапоги из толстой буйволовой кожи, уже слегка поношенные, потёртые на сгибах, но говорившие о долгой и верной службе многих поколений кадетов. Простой кожаный ремень с массивной, но неброской медной пряжкой. Форма сидела на Энтони мешковато, чуждо, подчеркивая худобу. Грубая ткань натирала кожу на сгибах локтей и шее, но в ней, в этом строгом облачении, он вдруг почувствовал… принадлежность. Якорь в бушующем море потерь. Это был его новый дом. Его новая жизнь.
Одевшись, он последовал за Аланом по длинным, гулким коридорам Академии. Они не оглушили шумом, а подавили масштабом, величием, заставляющим чувствовать себя ничтожной букашкой. Высота стрельчатых потолков заставляла задирать голову. Своды терялись в торжественном полумраке где-то на недосягаемой высоте, откуда спускались тяжёлые, как приговор судьбы, кованые люстры с сотнями зажжённых свечей. Их мерцающий, живой свет играл на стенах, украшенных не фресками с пасторальными сценами, а историей в стали и камне – историей выживания. Вдоль стен, как безмолвный почётный караул павших героев и ушедших эпох, стояли доспехи. Ряды за рядами. От древних, чешуйчатых панцирей времён основания Академии, проржавевших, но всё ещё грозных, до блистающих, словно зеркало в свете свечей, латных доспехов последних веков, с вычеканенными на нагрудниках грозными геральдическими львами и драконами. Между доспехами, в нишах, висели старинные щиты, покрытые замысловатой чеканкой, рассказывающей о забытых битвах и мифических чудовищах, побеждённых ценой крови. И стояли тяжёлые вазы из тёмной, почти чёрной керамики, казалось, вылепленные из самой земли Эмбера, грубые и вечные. Свет скользил по полированной стали доспехов, по глазури ваз, создавая иллюзию движущихся звёзд на каменном небесном своде коридора. Ни пылинки. Каждый предмет, каждый доспех сиял безупречной чистотой, за каждым явно ухаживали с почти религиозным трепетом и тщательностью. В открытых дверях боковых залов мелькала роскошь, неведомая Энтони: резные дубовые столы, тяжёлые кресла с глубокой бархатной обивкой цвета спелой вишни, огромные гобелены с динамичными охотничьими сценами, полными жизни, которой здесь, в этих суровых стенах, не было места.
И вот она – Главная Лестница. Широкая, как полноводная река времени, устланная ковровой дорожкой густого, алого, как свежая кровь, цвета. Она взмывала вверх, вытесанная из единого массива отполированного до ледяного, зеркального блеска тёмного мрамора. Каждая ступень казалась монолитом вечности. Энтони шёл по ней, едва не спотыкаясь, разинув рот, чувствуя головокружение от высоты и величия. Деревенская школа, где он учился читать и писать по единственной потрёпанной книге под присмотром старого учителя, казалась теперь жалкой лачугой нищеты и невежества. Алан шёл не спеша, чуть впереди, с лёгкой, понимающей улыбкой, наблюдая за его немой реакцией новичка.
– Впечатляет, да? – тихо спросил он, словно боясь нарушить величавое, гулкое молчание камня, нарушаемое лишь эхом их шагов. Энтони только кивнул, голос застрял где-то в горле, сдавленный благоговением и внезапно нахлынувшим страхом перед этим местом, его историей, его требовательностью. Проходя мимо огромных дубовых дверей, распахнутых настежь, словно ворота в иной, более суровый мир, Энтони невольно замер на пороге. За ними открылось нечто грандиозное и пугающее. Огромный овал, утопленный в землю, как гигантская каменная чаша для гладиаторских игр или жертвоприношений, окружённый несколькими ярусами холодных каменных трибун. Над ними, нависая, как коробка в театре, возвышался крытый амфитеатр для знатных особ – ложи с плюшевыми бархатными занавесками, откуда будут наблюдать за их борьбой, их болью, их триумфом или гибелью. Песок арены был тщательно разровнен, девственно чист и жёлт; по краям, как безмолвные свидетели, стояли стойки с оружием всех мастей – от изящных рапир до тяжёлых алебард – и безликие мишени из плотно спрессованной соломы и грубого дерева, уже иссечённые ударами.
– Это арена, – пояснил Алан, и в его обычно тихом голосе внезапно зазвучала непривычная твёрдость, почти вызов судьбе. – Здесь проходят турниры, праздники в честь побед… и Испытания. Фехтование, стрельба из лука, тактические задачи, рукопашный бой. Главное – здесь присваивают классы. Его карие глаза впервые уверенно, без колебаний, встретились с глазами Энтони. В них горел огонёк.
– Классы? – наконец выдавил из себя Энтони, отрывая взгляд от гигантской песочницы будущих испытаний.
– Класс определяет всё: страж, гвардеец, рыцарь, – Алан смотрел прямо, его глаза больше не бегали. – Но самое первое – это звание по роду оружия. Скоро будет проверка базовых навыков для новичков. Там ты и получишь своё первоначальное звание: мечник, лучник или лекарь. Твой выбор, твои природные данные решат твою судьбу здесь, в начале пути. Я… – он выпрямился чуть больше, – я уже получил звание лучника пятого отряда стражей. Прошлым летом. – Голос его дрожал от сдержанной гордости.
Рассказывая об Академии, о её законах, Алан преобразился. Робость куда-то испарилась, плечи расправились, голос звучал ровно, уверенно. Он явно гордился местом, где ему посчастливилось оказаться. Это место давало ему силу, опору, смысл.
– Мы пришли.
Алан остановился перед солидной дубовой дверью, украшенной резным барельефом – щитом с тем же символом Академии: мечами и ключом, скрещёнными навеки. Он постучал твёрдо, дважды. Получив разрешающий окрик из-за двери, вошёл, жестом пригласив Энтони следовать за ним. Кабинет капитана рыцарей дышал солидностью, железной воинской дисциплиной и сдержанной мощью, но без показной, одуряющей роскоши. Стены были обшиты тёмным, тяжёлым дубом; на одной висела огромная, испещрённая пометками, флажками и значками карта королевства Эмбер и прилегающих земель – живое полотно постоянной, неослабевающей угрозы. На другой – было развешано оружие, как в миниатюрном, безупречно организованном арсенале: от изящных, смертоносных рапир для поединков до тяжёлых, рубящих плоть и кость двуручных мечей для прорыва строя, каждое – безупречно ухоженное, отточенное, готовое к бою в любую секунду. Массивный письменный стол из морёного дуба, тёмного, как ночь в Чернолесье, был завален, но не захламлён – аккуратно разложены стопки пергаментов, свитки и толстые, переплетённые в кожу учётные книги, бумажные свидетели огромной власти и ответственности. За ним, склонившись над одним из развёрнутых свитков, сидел мужчина. Он поднял голову при их входе. Капитан Вильям Даттон выглядел так, словно его вырубили из светлого, прочного дуба векового леса и отполировали ветрами сотен походов и тысяч принятых решений. Лет ему было явно за тридцать, но в его подтянутой, жилистой фигуре и ясном, пронзительном взгляде чувствовалась неугасимая энергия молодого волка. Светлые, коротко и аккуратно подстриженные волосы, гладко выбритое лицо без единого шрама – редкая удача для воина его ранга и заслуг, говорившая о невероятном мастерстве или удаче. Но именно его глаза выдавали истинного командира – добрые, цвета летнего неба над мирными полями, но с такой глубиной и стальной, несгибаемой твёрдостью взгляда, что казалось, он видит не тебя, а сквозь тебя, в самую душу, читая каждую мысль, каждый страх. Он был облачён в тёмно-синий, почти чёрнильный мундир офицера Академии, отличный от формы кадетов строгостью покроя и серебряными нашивками на воротнике и обшлагах. На поясе висел не церемониальный, а боевой меч в простых, потёртых, испещрённых царапинами ножнах – орудие ежедневной работы, а не парадное украшение.
– Простите, сэр, – Алан вытянулся в струнку, голос его снова стал робким, но чётким, вымуштрованным до автоматизма. – Как Вы приказывали, я привёл новоприбывшего кадета Энтони.
– Энтони! – Лицо капитана озарила искренняя, тёплая, почти отеческая улыбка, разгладившая на мгновение жёсткие морщины у глаз. Он легко, мощно встал из-за стола, и его рост, ширина плеч стали ещё внушительнее, заполнив пространство кабинета. Он подошёл к Энтони, твёрдо протягивая руку для рукопожатия – жест неформальный, дружеский, ломающий лёд официальности.
– Капитан Вильям Даттон. Рад тебя видеть, сынок. Искренне рад. – Он крепко сжал руку Энтони. – Спасибо, Алан. Ты свободен, – кивнул Вильям.
Алан мгновенно сложил правую руку в кулак, резко прижал его к сердцу – немой, но красноречивый знак чести и преданности Академии – и вышел, бесшумно прикрыв за собой массивную дверь. Капитан внимательно, изучающе обвёл Энтони взглядом, и в его добрых, проницательных глазах появилась глубокая, неподдельная тень грусти и понимания.

– Как же ты поразительно похож на своего отца. Особенно в глазах. И в этой… упрямой складке на лбу. – Он тяжело, по-мужски вздохнул, взгляд на мгновение ушёл куда-то в далёкое прошлое, за стены кабинета. – Я знал его. Хорошо знал. Мы… мы начинали службу здесь вместе. Два зелёных, самонадеянных юнца, мечтавших перевернуть весь мир силой честного меча и непоколебимой чести. Он был отличным воином. Верным другом. И его пропажа… это рана, которая не зажила до сих пор. Для многих из нас. – Даттон сделал сознательную паузу, давая словам проникнуть глубже, коснуться самой больной раны. – И… я скорблю. Знаю, какую пустоту это оставило. Знаю, что тебе пришлось пережить потом. – Ещё одна пауза, более тяжёлая. – И знаю, что случилось там, в том аду подполья работорговцев. Девушка… Кирия, кажется? Тот подлец был настоящей тушей, втрое тяжелее тебя, но ты не отступил. Не сдался. Не спрятался. Даже когда всё внутри кричало о безнадёжности. Даже когда не было ни единого шанса. – Капитан резко ткнул указательным пальцем в воздух, словно вбивая гвоздь в таблицу истин. – Это, – отметил он, и его голос зазвучал как набат, – это и есть истинный дух Академии. Не грубая сила мышц, а несгибаемая сила духа. Умение встать против тьмы, когда весь мир рушится вокруг. Именно такой дух я ищу для своих лучших отрядов. Ярость, которую можно выковать в сталь.
Энтони молчал. Комок – горячий, колючий, состоящий из стыда, боли, ярости и вдруг нахлынувшей благодарности – подступил к горлу, сдавил его. Он знал, что капитан знает. Знает всё. Это было и облегчением, и новой болью.
– Мне также известно, что случилось с твоей семьёй, – продолжил Вильям, его голос стал тише, мягче, но в нём зазвучала стальная нить непоколебимой решимости. – С твоей матерью… Сестрёнкой. Здесь, за этими стенами, очень многие носят такую же боль в сердце. У каждого – своя пропасть в прошлом, свой личный демон, гонящийся по пятам. Именно поэтому мы все здесь знаем истинную цену миру. И знаем, каким будущее должно быть. Будущее без этого кошмара, где дети спят спокойно в своих кроватках, не плачут по ночам от голода и ужаса, где матери не ждут сыновей у порога с замирающим сердцем. Помоги нам его построить, Энтони. Помоги защитить тех, кто ещё жив, кто ещё дышит и надеется. – Он впился взглядом ему прямо в глаза. – И я даю тебе слово рыцаря и честь дома Даттонов: мы найдём тех, кто виновен в твоей потере. Мы докопаемся до истины. Мы их найдём.
Слова капитана, как бальзам на рану и как нерушимая клятва, наполнили Энтони новой, хрупкой, но реальной силой. Он выпрямился во весь свой невысокий рост, расправил узкие плечи под грубой тканью мундира.
– Есть, сэр! – стараясь скопировать жест Алана, он неуклюже, но решительно прижал кулак к сердцу. Капитан рассмеялся – добродушно, громко, от души, и смех этот разрядил напряжение.
– Аха-ха! Молодец, боевой дух вижу. Но «сэр» – это для парадов и придворных утех. Здесь, в этих стенах, для своих – «капитан» или просто «Вильям». Запомни. Теперь ступай. Негоже опаздывать в первый же день на ознакомление с твоей новой жизнью. Алан тебя отведёт.
Энтони кивнул, на его лице мелькнула слабая, но настоящая, первая за долгое время тень улыбки – ответ на теплоту капитана. Он уже направился к выходу, рука потянулась к холодной бронзовой дверной ручке.
– Постой! – капитан окликнул его, когда дверь была уже приоткрыта. Вильям быстро подошёл к столу, открыл нижний ящик и достал что-то. Он повернулся к Энтони, молча протягивая руку. На ладони лежал его складной нож с костяной рукоятью.
– Это, я полагаю, твоё? На клинке, у основания, мелко выцарапано «Энтони». Думаю, тебе он дорог. Как память.
Энтони взял нож. Знакомый, холодный, успокаивающий вес в ладони. Шероховатость костяной рукояти. Последний подарок отца перед уходом в тот роковой поход. Последняя осязаемая связь. Чувства накатили волной, смывая всю только что обретённую твёрдость, обнажая старую, незажившую рану. Он не смог. Не смог защитить самых близких. Никого. Пальцы сжали рукоять так, что костяшки побелели. Глаза предательски затуманились, мир поплыл.
– Спасибо Вам, капитан, – прошептал он, с трудом сдерживая дрожь в голосе, и почти выбежал в коридор, прежде чем слёзы, жгучие и горькие, могли прорваться наружу. За дверью его ждал Алан. Лицо соседа выражало искреннее беспокойство, смешанное с пониманием.
– Всё в порядке? – спросил он тихо, шагая рядом по гулкому коридору.
– Да, – Энтони быстро, резко протёр глаза тыльной стороной ладони, стирая следы слабости. – Пошли. Опоздаем.
Они шли по коридорам, и Алан, понизив голос, делился правилами этого нового мира:
– Подъём в пять утра. Завтрак – каша, хлеб, вода. Опоздание на построение – лишение ужина. Потеря оружия – два дня на хлебе и воде в карцере. Инструкторов звать только «сэр» или по званию. Никаких поблажек.
Энтони слушал, и каменные стены сжимались вокруг него ещё теснее. Это была не школа, а тюрьма с единственным шансом на искупление.
Ознакомление проходило в огромной, гулкой, как пустой колокол, аудитории. Она напоминала деревенскую школу, но увеличенную до абсурдных размеров и облачённую в суровый камень и тёмный дуб. Ряды скамей поднимались амфитеатром к высокой кафедре из того же чёрного камня, что и стены Академии. Алан, уже прослушавший курс теории, остался рядом с Энтони – «для компании», как он шепнул, или для поддержки.
– Энтони! – знакомый голос, звонкий, радостный, как удар хрустального колокольчика, прозвучал сзади, заставив его обернуться. И он… остолбенел. Кирия. Да, это была она, но словно с другого полотна, написанного чистым светом и надеждой. Рыжие волосы, теперь чистые, сияющие, как отполированная медь на солнце, были аккуратно заплетены в одну толстую, тяжёлую косу, лежащую на плече. Лицо, умытое, без следов грязи, слёз и унижения, сияло молодостью, облегчением и какой-то новой внутренней силой. Форма Академии сидела на ней удивительно элегантно, подчеркивая хрупкую, но внезапно обретённую стройность и гордую осанку. Но больше всего Энтони поразили её глаза. В темноте камеры работорговцев он не разглядел их цвета, видел лишь испуг и боль. Теперь же они сияли, как два живых, сочных изумруда, вправленных в оправу из бледной кожи и густых ресниц. Ярко-зелёные, глубокие, бездонные, полные жизни, безмерной, светящейся благодарности и… обожания. Они смотрели на него так, словно он был легендарным рыцарем, спустившимся с небес именно для того, чтобы спасти её.
– Кирия! Как ты…? И где Лео? – выдохнул Энтони, ошеломлённый встречей и этим преображением.
– Мне было некуда идти, Энтони, – её голос звенел чистым, счастливым серебром. – Гвардейцы, которые нас… освободили, предложили шанс. Поступить сюда. Служить. А Лео… – её лицо озарила тёплая, сестринская улыбка, – его временно взяли помощником повара на кухню! Пока не подрастёт. О, Энтони, я так, так рада тебя видеть! – Она сделала шаг вперёд, преодолевая смущение. – Ещё раз спасибо тебе.… За всё!
И прежде чем он понял, что происходит, Кирия стремительно обхватила его руку и быстро, по-девичьи нежно, горячо поцеловала в щёку. Её губы были мягкими, тёплыми. От неожиданности и этого внезапного порыва тепла, близости и признательности лицо самой Кирии вспыхнуло ярким, алым румянцем, залившим щёки и шею. Она тут же отпрянула, смущённо опустив изумрудные глаза, пряча лицо за прядью выбившихся рыжих волос. Щёки Энтони тоже запылали, но по совершенно иной, тревожной причине. В огромной, полузаполненной кадетами аудитории воцарилась мёртвая, звенящая тишина. Десятки пар глаз – мужских, в основном, жёстких, оценивающих, привыкших к суровой дисциплине – уставились на него. Взгляды были разными: удивление, любопытство, плохо скрываемая зависть, а в некоторых, особенно в глубине зала, где сидели крупные, уверенные в себе парни, – холодная, нескрываемая, хищная ненависть. Новенький? Щупляк? А уже пользуется вниманием такой девчонки? Наглость! И кто он вообще такой, чтобы…? В этот момент, словно по зловещему сигналу этой немой вражды, в аудиторию стремительно вошёл человек в форме офицера Академии. Но его форма не была похожа на мундир капитана Вильяма. Она была строже, аскетичнее, угольно-чёрного оттенка, с минимумом отделки, словно выкроенная из куска ночи и сшитая ледяным ветром. На лице, изборождённом старым, глубоким шрамом – три параллельные борозды на левой щеке – отметина когтей какого-то чудовища, давно зажившая, но навсегда исказившая плоть, придав лицу жестокое, нечеловеческое выражение. Это был он. Тот самый командир гвардейцев, что рассёк тьму в подполье работорговцев. Энтони узнал его мгновенно, инстинктивно, по тому же леденящему чувству, что охватило его тогда, на полу у ног твари. Его глаза, холодные и пронзительные, как стальные шипы на зимнем ветру, медленно, не спеша, с ледяной, методичной расчётливостью обошли аудиторию. Они скользнули по Энтони, на его всё ещё пылающем от смущения и тревоги лице, на смущённо потупившей взгляд Кирии, стоявшей рядом, как виноватая. Задержались на них на мгновение дольше, чем на других. Взгляд был безоценочным. Как взгляд хирурга на пациенте перед операцией.
– Всех прошу сесть, – его голос был низким, ровным, лишённым интонаций, но он разрезал звенящую тишину, как острый клинок по горлу. Никто не осмелился шелохнуться. Энтони, Алан и смущённая Кирия почти рухнули на ближайшую скамью.
– Для вновь прибывших, – начал он, не повышая тона, но каждое слово падало в гулкую тишину, как обтёсанный камень гробницы, холодный и неумолимый, – меня зовут Адам Вэйн. Я – командир Первого Отряда Королевской Гвардии. – В его голосе звучала не гордость, а констатация неоспоримого, сурового факта, как название горной вершины.
– Первый отряд… – прошипел Алан, наклонившись к Энтони так близко, что его дыхание обожгло ухо. Голос его дрожал от смеси страха и почтения. – …Элита. Лучшие из лучших. Но никто добровольно туда не рвётся. Потому что Адам… он не знает слова «поблажка». Пока другие отряды могут передохнуть, его люди льют пот и кровь на плацу от зари до зари. Он выжимает из человека всё. До последней капли пота. До последнего вздоха. Его отряду всегда дают самые сложные задания. Самые смертельные. И он всегда приводит их обратно.